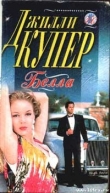Текст книги "Вспомни обо мне (СИ)"
Автор книги: QueenFM
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
– Боже, Эсми… как я скажу ей, как я смогу сказать ей, что наш сын… как?! – отец вдруг сгорбился, превращаясь в старичка, его руки обреченно повисли вдоль тела.
– Если хочешь, я поговорю с ней и Эдвардом. Но мне кажется, будет лучше, если ты сделаешь это сам.
– Да-да, я сам… сам… – речь отца стала невнятной, и я перестал различать слова.
Смысл только что услышанного все никак не мог дойти до моего сознания и уложиться там. Отвернувшись от двери, я прислонился к косяку и принялся бессмысленно вглядываться в темноту, придававшую окружающим предметам зловещие очертания и некую враждебность. Палата оживала на моих глазах, я словно плутал в темном лесу, не имея ни малейшего шанса выйти, я погибал в трясине, сотканной из темноты и страха. Мне казалось, что стены медленно надвигаются на меня – палата сузилась до крошечного размера, вытеснив весь кислород. Задыхаясь, я снова развернулся к двери и высунул голову в коридор, судорожно хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег.
И вместе с тем, я видел все происходящее будто со стороны: свою фигуру, согнувшуюся пополам в приступе удушья, Карлайла, сидевшего в одиночестве на полу коридора, зажав зубами свой кулак и вздрагивая всем телом от рвущихся наружу рыданий.
Да, “веревка оборвалась”, и я стремительно летел в черную пустоту – самый страшный, самый последний полет в моей жизни. И вот оно, ломающее кости и разрывающее внутренности приземление – четкое осознание происходящего. Больше не нужно чего-то ждать, мучиться неизвестностью, но и места для надежды уже не осталось. Не осталось ничего, лишь выжженная огнем пустота и обгоревшие обломки моей жизни, вышедшей прямиком на финишную прямую.
С трудом разжав пальцы, сжимавшие дверной косяк, и едва передвигая будто налившиеся свинцом ноги, я подошел к Карлайлу и положил свою руку ему на плечо:
– Папа…
Я и сам не заметил, как оказался в крепких отцовских объятиях. Никто из нас двоих прежде не умел плакать и не признавал мужских слез, но сейчас мы сидели на полу, рыдая и цепляясь друг за друга, словно утопающие, не говоря ни слова, лучше, чем кто-либо, понимая друг друга, деля одну боль и беду на двоих.
========== Глава 19. Когда душа от боли взвоет, судьбой зажатая в тиски ==========
Ожидание смерти – хуже самой смерти…
Мэйсон Сторм «Смерти вопреки»
У каждого есть точка срыва…
Когда желание одно –
Послать всё к черту, и с обрыва
Упасть песчинкою на дно…
Когда душа от боли взвоет,
Судьбой зажатая в тиски,
И пустота сердечным боем
Остервенело рвёт виски…
Когда оставили надежды,
И рядом нет родной руки,
Что, взяв за краешек одежды,
Легонько вырвет из тоски…
Когда и Бог тебя не спас,
И мир жестокий равнодушен,
И свет предательски погас,
Что согревал мечтами душу…
Я сломался, превратился в заброшенные руины самого себя, по которым с гулким свистом гуляет ветер, смешанный с темно-серым пеплом от сгоравшей в мучительной агонии души. Трудно было осознать, что все происходящее со мной – страшная реальность, рассудок будто пытался отгородиться, чувствуя, насколько близок к безумию. Лишь вид в одночасье постаревших родителей, отчаянно хватающихся друг за друга, заставил меня поверить – это конец. Моя жизнь оказалась печальной короткометражкой, и вот-вот начнутся финальные титры, а затем экран заполнит черная пустота.
Надежда – сладкое слово с послевкусием горькой полыни на губах. Потому что Она напрасна, иллюзорна и заведомо обречена на смерть… как и я. Никогда не цеплявшийся за нечто эфемерное и не веривший в чудеса, я и сейчас, как не силился, не смог заставить себя сохранить веру, о которой, словно заклинание, твердила мама, чем еще больше разрывала мне сердце на части. В такие минуты Эсми жила самообманом, и я не винил ее за это. Для моей обезумевшей от горя матери вера в чудо, в призрачное исцеление, в то, что Господь смилуется над ее несчастным сыном, было единственным, что держало от падения в пропасть. Я чувствовал каждой клеткой своего тела, что Эсми сходит с ума от боли.
Отец пытался встряхнуть меня, говоря, что нужно бороться, но даже понимая его правоту, я не находил в себе сил, попросту сдавшись на милость победителя, выкинул смерти белый флаг. Я оказался слабаком и яростно ненавидел себя за это. В какой-то момент я вдруг понял, что нет надежды, сил, желания бороться, карабкаться, болезнь сильнее, а я – всего лишь пешка в ее игре, заведомо обреченная фигура, которая еще немного и упадет за пределы доски.
Но еще больше я ненавидел себя за ту боль, что причинял родителям, хотя прекрасно понимал: в кошмаре, со скоростью и разрушительностью лавины накрывшем нашу семью, нет моей прямой вины. Однако это не приносило облегчения: каждая их слезинка, каждая морщинка, залегшая у глаз, каждый седой волосок, каждый острый укол боли в самое сердце – все из-за меня. А ведь еще только самое начало конца – впереди мучительные дни и недели наблюдений за тем, как их сын превращается в скрюченное болью существо, из которого по капле уходит жизнь, оставляя лишь призрачную тень того, кем он был раньше.
Не в моих силах было оградить их от этой агонии смерти, в которой им предстояло гореть вместе со мной до самого конца. Но если для меня все закончится вечным покоем через несколько месяцев, то жизни Карлайла и Эсми никогда не вернуться в прежнее русло, я останусь с ними вечной болью, никогда не заживающей раной на сердце.
Этим утром я случайно услышал, как мама, вжавшись в грудь отца, отчаянно шептала, что если не станет меня, то смысла жить больше не будет:
– Карлайл, я не смогу без него, не смогу, сделай что-то, ты не можешь позволить, чтобы наш сын умер, он не должен уйти раньше нас, я не переживу! Слышишь?! Не переживу! Я уйду вслед за ним, он мой сын, мое дитя, сделай хоть что-то! Умоляю! – я видел, как тело мамы буквально сползает по отцу, ноги не держали ее, она тихо скулила, как зажатое капканом животное. Карлайл пытался держать Эсми, что-то неслышно шепча ей на ухо, гладя по спине, но та лишь трясла головой, требуя, умоляя, приказывая и снова умоляя. Моя сильная мама не могла поверить, что я уйду, оставлю ее.
С той ночи, что подвела под моей жизнью финишную черту, прошло всего несколько часов, а мне казалось, будто целая вечность. Минуты одинокими песчинками скользили сквозь пальцы – время тянулось мучительно медленно. Я не спал уже сутки, но безосновательный панический страх заснуть и больше не проснуться, не позволял сомкнуть мне веки, хотя такой исход стал бы спасением для всех нас, а, главное, избавлением для меня от той боли, что предстояло по капле впитать моему сердцу, прежде чем перестать биться.
Притворившись спящим, я тайком наблюдал за мамой, сидевшей в кресле, заунывно скрипящем при каждом ее движении. Сгорбившись, будто старушка, прожившая долгую, трудную жизнь, Эсми низко опустила плечи и сжалась в комок, словно в ожидании удара, ее застывший, скованный льдом боли взгляд, был устремлен в пустоту. Но уже через минуту, прижав к груди руки в умоляющем жесте, мама закрыла глаза – ресницы печально дрогнули, позволяя одинокой слезинке скатиться по мертвенно-бледной щеке.
На какое-то мгновение вместо Эсми мне почудилась Белла, словно это ее хрупкая фигурка сейчас сжималась в кресле в тщетной попытке согреться: страх и отчаяние прочно сковывали льдом каждую клетку тела. Мысль о том, что это мое видение совсем скоро обернется реальностью, стала последней каплей в чаше ядовитой боли, которую мне предстояло испить до дна. Мне, но не ей. Я не мог позволить, чтобы моя девочка стала моим проводником через ад.
Бессмысленно лгать себе: Белла была необходима мне до дрожи, больше всего на свете мне хотелось сейчас сжать ее чуть прохладные, тонкие, почти прозрачные пальчики в своей ладони и не отпускать – не отпускать, во что бы то ни стало. Но я не мог. Просто не смог бы умирать на глазах той женщины, которой должен был принести лишь счастье, не имел права, медленно погружаясь в испепеляющую душу темноту, утягивать ее за собой.
Слезы горячим комом подступили к горлу, обжигая глаза, но я лишь до ломоты сжал зубы, не издав ни звука, не пошевелив ни единым мускулом: мама не должна была догадаться, что я не сплю, не должна была увидеть меня в таком жалком состоянии. Я был обязан держаться при ней.
Тяжелые мысли одна за другой заполняли мой разум, грозя свести с ума, отравляя душу горечью и болью, но у меня не было сил сопротивляться, и я покорно следовал за ними, еще не зная, к какому решению они подведут.
Моя жизнь неумолимо заканчивалась, но у Беллы впереди был длинный путь, и меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя смерть стала на этом пути непреодолимым препятствием. Она должна была найти свое счастье, пусть и не со мной, должна была осуществить свою главную мечту – стать мамой. Но я слишком хорошо знал Изабеллу Свон, знал, как сильно она любит меня, и понимал, насколько непросто ей будет оставить меня в прошлом, начать жизнь заново, впустить кого-то в свое сердце, не посчитав это предательством моей памяти.
«Мертвым – покой, живым – живое». Но моей душе не будет покоя, если я не сделаю все для того, чтобы помешать Белле «похоронить» себя и свою, еще только начавшуюся, жизнь вместе со мной.
Однако дело было не только в этом. Как бы мне не хотелось признаваться в этом даже себе самому, но я боялся увидеть в глазах Беллы жалость. Я бы смирился с чьей угодно жалостью, но только не с ее, пусть даже теперь это было единственным чувством, которое я мог вызывать в людях. Я точно знал, что Белла пройдет со мной через все, будет рядом каждую минуту, секунду, ничем не покажет, что ей это в тягость, но она будет жалеть меня. Жалость убивает – так я наивно полагал в тот момент, не зная, что только любя, человек способен на искреннюю, всепоглощающую жалость, и эта жалость не унизительна, потому что она – неотъемлемый компонент сложного коктейля чувств по имени “Любовь”.
Я боялся, что чувства Беллы ко мне вдруг станут лишь отголоском, бледной тенью того, что она испытывала прежде, а я буду продолжать удерживать ее рядом, не давая пойти дальше, муча своими страдания. Я не хотел, чтобы Белз старилась у меня на глазах, как моя мама.
Кресло протяжно заскрипело – Эсми встала и, осторожно ступая, вышла из палаты. Не в силах больше сохранять неподвижность, я вскочил с кровати, раздираемый надвое: одна часть меня кричала о том, что я не могу просто взять и по доброй воле отказаться от огромного счастья провести свои последние дни вместе с Беллой, другая же твердила, что я должен оградить Белз от мучительно медленного угасания вместе со мной, ведь даже два месяца ожидания смерти – вечность! Мне даже и в голову не приходило, что, делая выбор за нас двоих, я поступаю эгоистично, решаю все сам, не позволяя Белз узнать о моей болезни, на что она имела право, будучи моей невестой.
Окончательное решение пришло внезапно. Было ли оно действительно обдуманным и взвешенным? Вряд ли. Просто одна часть меня одержала верх над другой, а времени для реванша уже не было: послезавтра я должен был забрать Беллу из Форкса, чтобы отправиться вместе с ней в Италию. Но этого не будет, НИКОГДА… Вместо этого мне предстояло нанести любимой женщине незаживающую рану, так или иначе. Однако я наивно верил в то, что она еще так молода, а, значит, все переживет, справится, время постепенно сотрет мои следы, и, в конце концов, Белз забудет меня.
Приняв самое важное и, пожалуй, самое последнее решение в своей жизни, я стал размышлять над тем, как именно мне поступить. Разумнее всего было бы с кем-то поговорить, посоветоваться, прежде чем сжигать за собой все мосты, но мной руководили взбесившиеся эмоции, требующие освободить Белз от невыносимого груза, который мог упасть на ее хрупкие плечи, раздавив без остатка.
Часть меня, одержавшая победу, старательно нашептывала: «Необходимо сделать так, чтобы Белла сама захотела вытеснить тебя из своей памяти, вырвать из сердца, возможно, даже возненавидеть, нужно лишь подвести ее к этому».
«Да, подвести ее к краю пропасти и столкнуть!» – злорадно зашипела поверженная часть меня, не готовая так быстро сдаться, но решение уже было принято, и дальнейшие колебания лишь усугубляли мое и без того плачевное состояние, грозя сломать окончательно прежде, чем до меня доберется смерть.
Кажется, невозможно быть еще ближе к сумасшествию, чем я в тот момент. Мне снова почудилось, будто палата сужается до размера спичечной коробки – я задыхался, чувствуя непреодолимое желание вырваться отсюда хотя бы ненадолго.
***
– Я лечу завтра в Форкс и уже позвонил в аэропорт, чтобы заказать билет до Сиэтла, – на этих моих словах родители вздрогнули, словно от неожиданного звука, и растерянно переглянулись друг с другом.
– Эдвард, мне кажется, это не очень удачная идея, – после небольшой паузы медленно произнес Карлайл, чуть растягивая слова, будто разговаривал с буйнопомешанным, от которого не знаешь, чего ждать в следующую минуту. – Долгий перелет может вызвать новый серьезный приступ и усугубить твое состояние, понимаешь? Я уверен, что, если ты позвонишь Белле, она тут же сама прилетит в Нью-Йорк.
– Ты предлагаешь мне рассказать ей обо всем по телефону? – мой голос звучал слишком резко, даже грубо, но я, раздираемый на части той ложью, которую сам же и принялся возводить вокруг себя и своих близких, ничего не мог с этим поделать.
Непонятная злость рождалась где-то в глубине и искала пути выхода, обрушиваясь на тех, кому меньше всего на свете хотелось бы причинить боль.
– Я лишь предлагаю позвонить Белле и попросить ее приехать, совсем не обязательно рассказывать ей что-то по телефону, – голос отца звучал спокойно и уверенно, но я видел в его глазах всё нарастающую тревогу.
Трудно было что-то возразить на слова Карлайла, его предложение казалось логичным и единственно правильным, более того, именно так я и поступил бы, не реши скрыть от Беллы правду.
Внезапно возникшая злость так же внезапно исчезла, оставив после себя убийственно-звенящую пустоту. Чувства бессилия и беспомощности достигли своей высшей точки, став непосильным грузом, подчиняя, подавляя, превращая в одинокий опавший лист, безжалостно гонимый промозглым осенним ветром.
Ссутулившись, я опустился на кровать, решив сказать родителям хотя бы толику правды, чтобы быть понятым ими.
– Я не могу оставаться здесь, не могу просто сидеть и ждать, – я говорил медленно, подбирая слова, но все больше убеждаясь в том, что не существует слов, способных передать даже сотую долю моих чувств. – Находясь здесь, в этих ненавистных с самого детства стенах, где витает тошнотворный, въедающийся в каждую клетку запах человеческих трагедий, боли и бессмысленных надежд, я не могу забыться, отвлечься даже на мгновение. Я задыхаюсь и лишь хочу, возможно, в последний раз вдохнуть глоток жизни – настоящей, той, что кипит на шумных улицах среди спешащих по делам людей, среди гула их голосов. Здесь, в клинике, такая гнетущая тишина, время будто замирает – невыносимо! Я знаю, что мне от этого никуда не деться, но пока еще могу – я буду двигаться, не хочу просто сдаться и потерять те последние дни, что у меня есть, не хочу и не буду! Пусть это самообман, но я имею на него право! – замолчав, я взглянул на родителей снизу-вверх – они переглянулись, и мама кивнула отцу, едва заметно сжав его руку в своей руке.
– Хорошо, сынок, – сдавшись, устало проговорил Карлайл, – если для тебя так важно самому поехать в Форкс, мы не будем пытаться удержать тебя, но только при условии, что я полечу с тобой.
Это категорически не вписывалось в мой план и сделало бы совершенно невозможным то, что я задумал.
– Нет-нет! Я поеду один! – слишком громко и поспешно возразил я, но родители, кажется, не обратили на это внимания. – Мне нужно хотя бы ненадолго остаться одному. Я люблю вас, очень! Но чувство вины за ту боль, что причиняю вам, гнетет меня, и, оставаясь рядом с вами, я не могу перестать ни на секунду думать об этом. Вы нужны мне и с каждым днем будете нужны все больше и больше, не будь вас, я бы сошел с ума еще пару дней назад, пока ждал своего диагноза. Но сейчас мне нужна маленькая передышка. Я хочу уехать один, уехать, чтобы скоро снова вернуться к вам, уже навсегда… Простите, если мои слова задели вас, я не хотел причинить вам боль, не хотел… Мне необходимо пройти по своей прошлой жизни, обернуться, увидеть, запомнить, впитать в себя все, чтобы ничего не забывать, унести с собой, – я судорожно вздохнул и безнадежно покачал головой.
Карлайл и Эсми сели по обе стороны от меня, положив свои ладони мне на колени. От родителей исходила такая любовь и тепло, что на какое-то мгновение я забыл, где мы находимся, и какая беда обрушилась на всех нас.
– Ты ни в чем не виноват, сынок, – прошептала мама, и грустная улыбка коснулась ее искусанных губ. – Наша с папой боль – это часть нашей любви к тебе, которая возникла в тот самый день, когда я узнала, что у меня под сердцем зародилась новая жизнь – вы с Элис. Любовь к детям – в какой-то степени эгоистичное чувство, необходимое не только нашим чадам, но и нам самим, мы живем, дышим нашей любовью, и она навсегда остается в наших сердцах, что бы ни случилось. Ребенок – часть тебя, обманно думать, что с обрезанием пуповины связь теряется, нет, это не так, она меняется, становится только крепче. Эдвард, ты – часть меня, я не могу не чувствовать тебя, твою боль, я дышу тобой, твоей сестрой. Вы – все, что у меня есть. Любовь к ребенку безрассудна, всепоглощающа.
Все наши слезы, боль, переживания – это неизбежная и неотъемлемая часть любви. В том, что произошло с нами, нет твоей вины, нет ничьей вины. Видит Бог, что мы с Карлайлом сделали бы что угодно, отдали бы что угодно, лишь бы эта беда не коснулась нашего ребенка, но… – мамин голос сорвался, и она, беззвучно заплакав, уткнулась лбом мне в плечо.
– Мы – семья! – проговорил отец, накрыв своей ладонью ладонь Эсми, все еще лежавшую на моем колене. – Боль каждого из нас – это наша общая боль. Я хотел бы, очень хотел бы поменяться с тобой местами, но это не в моих силах! Так скажи мне, Эдвард, должен ли я за это винить себя?
– Конечно, нет, – ни секунды не сомневаясь, ответил я.
– Точно так же и ты не можешь и не должен винить себя за то, что сейчас нам всем больно, потому что не в твоих силах что-либо исправить, изменить судьбу. Подумай над моими словами, пока будешь в дороге. И береги себя. Если с тобой что-то случится, я никогда не прощу себе того, что отпустил тебя одного.
– Спасибо вам, я всегда знал, что у меня самые лучшие в мире родители, – впервые за несколько дней улыбнулся я, обняв за плечи Эсми и Карлайла. – Не беспокойтесь, со мной ничего не случится. Я чувствую себя совсем неплохо, почти так же, как и тогда, когда приехал к вам. Иногда, мне кажется, что я сплю, но вот-вот проснусь, и кошмар закончится, моя проклятая боль исчезнет, растворится – горько рассмеявшись, добавил я.
Я верил в то, что мое физическое состояние пока, действительно, не так уж и плачевно, но наступившая ночь показала, насколько я заблуждался…
Я был уверен, что снова не сомкну глаз: мысли о Белле и той боли, которую мне предстояло причинить ей, не оставляли ни на секунду, рвали сердца в клочья. Однако тягостный сон незаметно захватил меня в свой мрачный плен.
В этом сне я брел по темному бесконечному лабиринту, безуспешно пытаясь найти выход, но раз за разом натыкался на очередной тупик. Страх и отчаяние заставляли мое сердце бешено биться в груди, шаги переходили в бессмысленный бег, я спотыкался, падал в густую колючую траву, которая тянула ко мне ядовитые шипы, я обдирал руки в кровь, но снова поднимался, чтобы продолжить эту бесконечную дьявольскую игру.
Внезапно стены лабиринта стали сужаться, надвигаясь на меня, грозя вот-вот раздавить. Удивительно, но страх, минуту назад струящийся по венам, отступил. Закрыв глаза, я опустился на колени, почти что с нетерпением ожидая близкий конец этого кошмара. Я сдался, поняв, что бороться бессмысленно. Холодные бетонные стены лабиринта сдавили мне грудь и…
Я проснулся от дикой боли, «ломающей» мой позвоночник. На какое-то мгновение я забыл, как дышать, лишь бессмысленно открывая и закрывая рот. Рука сама собой потянулась к заветной таблетке, лежавшей на прикроватной тумбочке рядом со стаканом воды, заботливо оставленным медсестрой. Титаническим усилием воля я отдернул руку: если утром отец или доктор Мейсон увидят, что таблетки нет, они узнают об очередном приступе и не выпустят меня из клиники.
Чтобы не закричать от нестерпимой боли, я сжал подушку зубами, ощутив во рту вкус кондиционера для белья. Мне казалось, будто врата ада разверзлись, поглотив меня, и эта агония будет длиться целую вечность. Вцепившись руками в простыню, наматывая ее на кулаки, почти на грани безумия я метался на кровати, чем еще больше усугублял спазмы острой боли, выворачивавшей меня наизнанку. Стараясь не потерять связь с реальностью, я снова и снова возвращался в своих мыслях к Белле, твердя себе, что не имею сейчас права сдаваться, нужно просто перетерпеть, переждать, чтобы привести свой план в исполнение, ради Белз, ради себя самого.
Лишь когда зарождающаяся за окном заря окрасила палату размыто-розовой акварелью, прогоняя темноту, боль, словно укрощенный зверь, стала медленно затихать, уползая в нору, позволяя мне забыться тревожным сном.
К счастью, о ночном приступе никто не узнал, и уже к обеду я стоял в аэропорту, ожидая, когда объявят посадку на рейc до Сиэтла.
Свисавшая с моего плеча дорожная сумка, на дне которой затерялась лишь пара сменного белья, наверняка, со стороны представляла собой удручающее зрелище, но, даже будучи почти пустой, казалась мне тяжелой ношей.
Люди суетились вокруг, на лицах одних сияла счастливая улыбка: они встречали своих близких и не могли сдержать радости, обнимаясь с только что прилетевшими, возбужденно жестикулируя и стараясь перекричать гул аэропорта. Другие печально озирались по сторонам, пряча от стоявших рядом покрасневшие от слез глаза – им предстояло расставание и разлука, но у каждого из них в сердце, наверняка, теплилась надежда на скорую встречу.
Я не относился ни к тем, ни к другим. Разлука, предстоявшая нам с Беллой, – длиной в вечность, без всякой надежды на новую встречу.
Я наблюдал за людьми вокруг, которые торопились жить, и с пугающей ясностью понимал: я стою по другую сторону от них, и между нами – бездонная пропасть по имени Смерть. Надежды, мечты, счастье – все это больше не имело ко мне никакого отношения. Даже старость, которую все так боятся и хотят отсрочить, казалась мне теперь чем-то сладким и желанным, потому что я знал: мне никогда не испытать этого.
Перед моим мысленным взором предстал маленький светлый домик со скрипучими половицами. Я сижу в гостиной возле уютно горящего камина, раскачиваясь в кресле-качалке с газетой в руках. Огромный лохматый пес лежит у моих ног, время о времени лениво виляя хвостом и принюхиваясь к аппетитным запахам, доносящимся с кухни – это Белла печет шоколадное печенье, готовясь к приезду наших внуков (или даже правнуков, почему бы и нет?). Околдованный ароматом ванили и корицы, я откладываю скучную газету в сторону и с наслаждением прислушиваюсь к перезвону посуды и тихо шаркающим шагам Беллы… Это было так сладко, ноюще-желанно. Я отдал бы все на свете, чтобы увидеть, как Белз идет к алтарю в облаке белого шелка, услышать, как под ее сердцем тихонечко, почти робко, стучит сердечко нашего ребенка, увидеть, как мы идем рука об руку по длинной дороге жизни. Господи, я мечтал, спустя много лет, прожитых вместе, прикоснуться к ее шелковым, подернутым сединой волосам, когда мы состаримся, прижимать ее теплое родное тело к себе – это так банально, но столь желанно.
– Позвони Белле, Эдвард, – в мои мечты ворвался голос Карлайла, заставляя вздрогнуть от неожиданности, – пусть она встретит тебя в аэропорту Сиэтла.
Я окончательно вернулся к жестокой реальности – мечты со звоном разбились на тысячи мелких осколков, каждый из которых тут же впился в мое и без того кровоточащее сердце.
– Позвоню, пап, позвоню, – инстинктивно прижав ладонь к груди, где пульсировала боль, попытался отмахнуться я.
– Позвони прямо сейчас, я должен быть уверен, что она сможет тебя встретить.
Не став спорить с отцом, чтобы не вызвать ненужных подозрений, я отвернулся от родителей и, бросив через плечо: «Здесь слишком шумно!», зашагал в сторону туалетов, остервенело тыча в кнопки телефона, который вот уже сутки был отключен. Мобильник снова ожил в моих руках, а тут же пришедшее СМС-сообщение известило о том, что все это время Белла безрезультатно пыталась дозвониться до меня – боль в груди усилилась, словно кто-то раз за разом вонзал в меня раскаленный кинжал. Но я ведь знал, что так будет, когда принимал решение, разве нет?
Лихорадочно соображая, что бы соврать Белз, я вошел в дверь, на табличке которой был изображен мужской силуэт, и нажал на телефоне зеленую кнопку вызова.
– Белла, дорогая, прости, что не позвонил тебе, как обещал, – охрипшим от волнения голосом пробормотал я, как только гудки в мобильном сменились едва слышным «Да». – Я вчера случайно наткнулся на Майкла Ньютона, с которым последний раз виделся еще на выпускном. Мы разговорились, он позвонил Эрику, и тот предложил сходить втроем в ночной клуб. Кажется, я здорово перебрал…
Даже не знаю, как мне в голову пришло это идиотское оправдание, как я додумался приплести сюда наших одноклассников, которых не видел с самого выпускного. Слова лились сами собой, чудесным образом складываясь в связные предложения. Первый раз в жизни я лгал Белле. Первый, но, увы, не последний.
– А ты не мог позвонить мне и предупредить, чтобы я не волновалась?! – возмущенный голос Белз электрическим разрядом прошелся вдоль позвоночника. Ее справедливый упрек больно ударил под дых, перехватывая дыхание. – Я всю ночь тебе звонила, но у тебя был отключен телефон, что, по-твоему, я должна была подумать?!
– Ты права, дорогая, прости, – уткнувшись разгоряченным лбом в холодную кафельную стену, изо всех сил стараясь, чтобы голос не выдал моих чувств, пробормотал я, – но сейчас мне нужно, как следует, отоспаться, а завтра я позвоню тебе, и мы все обсудим, обещаю!
– Что?! Опять «завтра»?! – голос Беллы начинал искрить гневными нотками. – Давай обсудим прямо сейчас!
В дверях туалета возник Карлайл, заставляя меня поспешно закончить разговор:
– Я же сказал – завтра! – понизив голос, выдавил я и нажал кнопку отбоя.
– Ну как? – спросил отец, указав взглядом на телефон, который я что было силы сжимал в кулаке.
– Белла удивилась моей просьбе, но сказала, что встретит, – еще одна ложь.
– Бедная девочка, – с горечью в голосе едва слышно прошептал Карлайл и уже громче добавил: – Объявили посадку на твой рейс – нужно поторопиться.
– Да, нужно, – эхом повторил я, снова окунаясь в оживленный гул аэропорта.
Каждый шаг, приближавший меня к самолету, давался все труднее и труднее, словно Земля внезапно усилила свое притяжение. Я еще не знал, как и что именно скажу Белле, но не мог заставить себя думать об этом, буквально физически ощущая, как сердце рвется на части, превращаясь в окровавленные лоскуты. В своей голове я прокручивал сотни вариантов нашего разговора, искал правильные, нужные слова, но все сводилось к тому, что я стискивал зубы, закрывал глаза и обессилено стонал.
Я так же не знал, принимаю ли верное решение или совершаю ошибку, как не знал бы этого любой другой человек, не дай Бог, окажись он на моем месте. Каждое наше слово, каждый поступок тянет за собой определенные последствия. Нам остается только надеяться, что мы свернули в нужном месте, выбрали верную дорогу, а так это или нет – покажет время, которое обязательно расставит все по своим местам. Именно так принимаются спасительные решения, именно так принимаются роковые решения, разрушающие жизни людей. Но никто и никогда не знает наперед, каким именно окажется его решение. Никто и никогда.
========== Бонус от лица Эсми. Как смогу я жить без сердца моего?! ==========
Зажгу свечу я пред иконой
И слёзы горькие смахну.
Пусть душат сердце боль и стоны,
Я это всё в себе сдержу.
Прости, Господь, что не умею
Молитвы правильно читать.
Прости за то, что я робею,
Когда мне нужно умолять.
Я знаю, что ты не осудишь,
Боль матери всегда поймёшь,
Ты всех, нас грешных, Боже, любишь,
На путь нас истинный ведёшь.
Прости, что сердцем черствоваты
Мы стали вдруг от наших бед.
Так в чём, Господь, мы виноваты?!
Ты дай нам праведный ответ.
Не в том ли, что, растя, теряем,
Детей земле мы предаём,
А как нам жить, увы, не знаем.
Мы в мире, как слепцы живём.
Прости, что я ропщу безумно:
Сердечной боли не унять.
Чтоб жить спокойно и разумно
Детей не следует терять.
Мне всегда казалось, что больница пахнет особенно. Карлайл приносил в дом легкий, чуть навязчивый больничный запах, я любила мужа и все, что было связано с ним и его работой. С годами аромат лекарств и антисептика стал родным, даруя успокоение и чувство гармонии.
Но сейчас, сидя в неудобном кресле в пустой палате Эдварда, я ненавидела все, всех, но больше всего себя. Моя голова кружилась, воздух стягивался вокруг горла, подобно тонкому капроновому шарфу, он мягко, почти ненавязчиво подкрадывался все ближе, узел неумолимо затягивался – странный, прочный, вечный.
Где-то в глубине груди отчаянно колотилось сердце – вслушайся и услышишь, как кровь густой убийственно-вязкой лавой перетекает из сосудов в предсердия, падает в желудочки, сворачиваясь у выхода.
Господи, я хотела умереть, мечтала уйти на небо, освободив место на земле для моего сына.
В моей голове не укладывались те слова, что едва слышно произнес муж: «Эсми, родная, я бессилен…»
Бессилен! Я возненавидела его в этот момент, как он мог произнести эти слова, как посмел сказать, что наш сын умрет! Карлайл говорил со мной тихо, аккуратно, словно я была буйнопомешанной, он приближался ко мне с осторожностью, как к обезумевшему от боли, зажатому в капкан животному. Муж подходил ко мне все ближе – я отодвигалась, мне была противна мысль, что сейчас он прикоснется к моей щеке тонкими, насквозь пропахшими лекарствами пальцами хирурга, вновь повторяя: «Родная, мы бессильны…»
Я смотрела в лицо человека, с которым прожила большую части жизни, с ним я просыпалась, он сжимал меня в теплых объятиях ночью, отдавая всю ласку, нежность, ему я дарила первый утренний поцелуй, его детей я выносила под своим сердцем, подарив им жизнь.
Карлайл сказал, что мой ребенок уйдет вперед меня. Как?! Почему?! Это невозможно, Эдвард должен жить, он еще ребенок, мальчик, мое обожаемое до дрожи дитя, всегда нежный, ласковый, будто солнечный лучик.