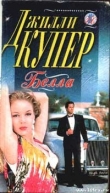Текст книги "Вспомни обо мне (СИ)"
Автор книги: QueenFM
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Для меня он всегда был теплым комком, который положили на мою левую руку, ближе к сердцу, на сгибе правой руки лежал другой крохотных комочек – Элис, но Эдвард… я слышала, как его маленькое сердечко трепыхалось в груди, словно бабочка, пойманная в кружевной сачок – точно напротив моего сердца.
Я до сих пор помню, как удивленно распахнулись его огромные серые, как дымка, глаза, цвет был растушеванным, в поволоке растворились темные крапинки цвета садэ, спустя годы ставшие черными, – Эдвард смотрел внимательно, словно понимал, кто я.
Он был неотъемлемой частью меня, следующий шаг в шаг за мной, словно маленький пушистый хвостик с вечно растрепанными кудряшками, я всегда с легкостью «читала» его, он был моей открытой книгой.
Элис же больше тянулась к отцу, будучи его сладкой малышкой. Карлайл мог часами играть с ней, дурачиться, щекотать, от чего с ее губ слетал искрящийся смех. В первое время я волновалась, что он отдавал столь явное предпочтение дочери, но стоило мне присмотреться, и я поняла: наши дети сами выбрали себе любимого родителя.
Эдвард был всегда при мне, цеплялся своей по-детски пухлой ручкой в край моего платья, когда я лавировала из комнаты в комнату, делая уборку. В кармашке его штанишек пряталась маленькая тряпочка – он помогал мне стирать пыль. Я нарочито медленно шла, зная, что его ножки не способны угнаться за мной.
Время шло, дети росли, но Эдвард все также следовал за мной, с каждым годом все быстрее, уже не цепляясь за край юбки, но все так же шаг в шаг, помогая. Мы бесконечно много разговаривали, мой мальчик с самого раннего детства был любопытным, интересующимся каждой мелочью, деталью – Эдвард хотел знать все, познать до глубины, до основания.
Единственное, что не интересовало моего сына – медицина, думаю, их взаимная нелюбовь началась в тот день, когда мой малыш впервые увидел фигуру Гиппократа в кабинете отца. Не знаю почему, но он не на шутку испугался, и мне понадобился час, чтобы успокоить, объяснить, что это всего лишь игрушка, почти оловянный солдатик и его не стоит пугаться.
Однако Эдварда мало волновали солдатики: он любил книги, звездное небо и Изабеллу. Я точно помню тот день, когда мой сын впервые сказал о ней. С его губ слетели почти поющие звуки, он произнес ее имя с придыханием, словно пропевая каждую букву:
– Мама, ее зовут Белла, Изабелла – красиво, скажи? Красиво! Мама, она такая красивая, как принцессы в книжках Элис, а ее волосы мягкие, как у моего плюшевого медвежонка.
Я слушала и не знала, смеяться или плакать, мой маленький мальчик произнес имя девочки с придыханием, словно она была звездами на его небе.
С того дня вся его жизнь поделилась на две части: до Беллы и с Беллой. Эдвард мог часами говорить о ней, рассказывая, как блестят ее глаза, когда она смеется, повторять, что ее волосы мягкие, как пух, улыбка искрящаяся, как вода в лесном озере. Ему было всего одиннадцать лет, а он часами говорил об этой девочке, словно весь мир замкнулся на ней.
Шли годы, мой мальчик рос. Иногда, вглядываясь в меняющиеся черты его лица, я с удивлением отмечала новые линии, округлость по-детски пухлых щечек сменялась четко очерченными линиями, подбородок стал чуть острее, только непослушные локоны оставались прежними.
Я помню, как Эдвард начал заниматься танцами. В те дни он с упорством маленького воина заучивал связки и с легкостью мог выдернуть меня из постели с просьбой помочь ему. Его Белла не желала заниматься танцами, но мой мальчик поставил себе цель – сделать её своей партнершей, и я просто обязана была помочь своему сыну… в действительности, ему просто невозможно было отказать.
Эдвард тихонечко подходил к двери спальни и стучал – стук был тихим, царапающим, словно мышонок скребется под половицами, спустя минуту, он просовывал в приоткрытую дверь кончик носа:
– Мама, ты мне нужна, я не могу один запомнить эту связку.
Я осторожно, чтобы не разбудить Карлайла, вставала из теплой, уютной постели, накидывала халат и шла на кухню, где под чуть слышную музыку танцевала со своим сыном, едва достававшим мне до подбородка. Я слышала, как он уперто повторял: «Раз-два-три-поворот…» – мне стоило больших усилий сдержать улыбку.
Эдвард был очарователен в своей решимости, стоило мне ошибиться, как он одергивал меня:
– Мама, не так! Ну, ма-а-ам, считай, проговаривай про себя, я веду, а ты следуешь…
Сейчас, когда его болезнь нависла над нами словно черная грозовая туча, я вспоминала каждый прожитый день, час, минуту, прокручивала события с остервенелостью, боясь упустить, забыть, не вспомнить, я знала: вернусь в реальность – сойду с ума.
Я не могла, не хотела поверить в то, что дни моего маленького обожаемого мальчика сочтены, этого не может быть, не может! Эдвард такой молодой, красивый, все его мечты осуществлялись: ему пророчат успешную карьеру адвоката, он добился своей Изабеллы, она с ним, они любят! Я видела, что, когда эта девочка смотрит на Эдварда, в ее огромных глазах плещется безграничное обожание. Мой сын стал ее миром, она ловит каждый звук, слетающий с его губ, следует за ним, живет им.
Я любила Беллу, как родную, она была и моей дочерью. Я ждала свадьбу, величественных звуков органа под сводами церкви, украшенной белыми лилиями, мечтала о том, что прижму хрупкую девочку, обожаемую моим сыном, назвав ее дочерью.
Я помню, как Эдвард впервые пригласил Изабеллу к нам домой, в тот день он метался из комнаты в комнату, переворошил весь гардероб в поисках серой рубашки в тонкую черную полоску, все было не тем. Сын буквально приказал мне испечь торт:
– Мам, она девчонка, а девчонки любят сладкое, – убежденно заявил он, но в действительности сладкоежкой был сам Эдвард.
Мой сын всегда добивался желаемого, он был уперт, педантичен, аккуратен, требовал много, но отдавал больше – весь в отца!
Эдвард был влюблен в девочку, с которой познакомился самым забавным образом: она упала в школьной столовой, а он протянул руку, помогая подняться. Я помню, как чувство гордости растопилось на моем сердце, подобно сахарной карамели: мой мальчик запомнил, что с девочками надо быть вежливым. Окончив школу, они вместе уехали учиться – в глазах всех эти двое уже были маленькой семьей.
Я обхватила голову руками: как Эдвард расскажет все Белз, как?! Как она воспримет эту новость: смирится, как мой муж, или возненавидит все и всех, как я?
Я знала одно: Белла должна быть рядом, мой мальчик не справится без нее, не сможет, не выживет! Она – его сердце, душа, я давно отошла на второй план, он жил, дышал только ею…
Темнота сгущалась надо мной, но я не видела ничего, отгородилась, в голове противным заскорузло-рыдающим звуком звучали слова: «Эсми, родная, мы бессильны, поздно, слишком поздно…»
Поздно!.. Для чего?! Почему Карлайл, родной отец, сдался? Как он мог?! Обхватив себя руками, я раскачивалась из стороны в сторону, слезы текли по лицу, рисуя новые нитки морщин, расчерчивая их с тошнотворной дотошностью.
Будь моя воля, я забрала бы болезнь сына, взяла всю его боль, выпила чашу до дна, не оставив и капли в осадке. В первые минуты я хотела молиться всем богам, умолять, ползать на коленях, но что-то внутри меня, застывшее подобно брошенному в ледяную воду олову, глубоко под сердцем, шептало: «Бесполезно, никто тебя не услышит, кричи, плачь, умоляй – тщетно! Ты потратишь бесценное время в пустоту, Бог не услышит: нас много, а Он один».
Я не могла понять, как Он, всемогущий Бог, смотрит спокойно на то, что мой мальчик в муках уходит от меня, оставляя всех, кого любит, кто любит его?! Он еще и не жил толком! Эдвард лишь пригубил бокал жизни, в его горло скользнули первые капли, обладающие оттенком вкуса.
В моей голове пронеслась дикая, отчаянная мысль: «Он никогда не испьет жизнь сполна, не увидит своих детей, не будет качать их на руках. Я похороню его…»
Я кричала в темноту, проклиная себя, мужа, Бога, врачей, упущенное драгоценное время, я кляла себя за то, что редко звонила, почти не ездила в гости: Эдвард всегда звонил сам, уверял, что все хорошо, мне не надо срываться с места, нестись к нему, я должна быть рядом с мужем. С мужем…
Я обязана была быть рядом с сыном, слишком рано мы отпустили его в свободное плаванье, я корила себя за то, что так мало интересовалась его здоровьем, но разве можно было предположить, что Эдвард заболеет, ведь он никогда ничем не болел. Помню, как, будучи еще совсем маленьким, он на пару с Элис свалился с ветрянкой. Тогда они оба температурили, плакали, расчесывая кожу, а я носилась от одной кроватки к другой, искренне полагая, что это худший день в моей жизни… В три года им помогла зеленка, сейчас – не поможет ничто и никто…
В кромешной темноте, благосклонно упавшей на мои уставшие плечи, я искала выход из проклятого подземелья отчаяния, понимая со всей обреченностью, что выход давно завален – мы погибнем, я погибну вслед за сыном.
Когда слезы иссякли, а голосовые связки превратились в истонченные, словно высохшие на солнце нити, лишив меня голоса, я посмотрела на черный квадрат окна – было столь темно, что все слилось в единое пропитанное чернилами полотно. Я вглядывалась в бездну, не знаю, был ли это обман зрения, но вдруг во мраке зажглась крохотная звезда, её сияние было почти незаметным, приглушенным, но свет был таким чистым – свет надежды…
В дверь тихонько постучали – в этом слабом звуке слышалось что-то обреченное, умоляющее, словно кто-то подавал сигнал бедствия.
Уже в следующее мгновение, не дожидаясь моего ответа, в палату вошел Карлайл, но в полутьме я почти не видела его лица.
– Звонил Эдвард, сказал, что уже в Форксе, и все хорошо, – голос мужа звучал неестественно хрипло, будто он очень долго спал и только что проснулся, хотя я точно знала, что уже неделю его мучит бессонница. – Белла пока ничего не знает.
– Хорошо, – кивнула я, стараясь не смотреть в сторону Карлайла.
Я чувствовала, что между нами что-то стоит, мы словно оказались пришельцами с разных планет, говорящими на разных языках: я отказывалась понимать и принимать его смирение, покорность перед судьбой, бессилие, он боялся моей почти параноидальной решимости бороться с «ветряными мельницами» и слепой веры в то, что наш сын непременно будет жить.
– Эсми, я… – неуверенно начал Карлайл, обессиленно опустившись на кровать.
– Почему ты так легко смирился, так быстро сдался?! Ведь это же твой сын! – решилась я высказать мужу в лицо то, что никак не могла ему простить.
– Наверное, врач во мне слишком силен, а люди в белых халатах не очень-то верят в чудеса, – он сгорбился, в тусклом свете, проникающем сквозь оконные стекла, стал похож на столетнего старика. – А еще мне страшно, Эсми, как еще никогда не было и уже, наверное, не будет! Я так боюсь, что все эти надежды, борьба, вера – все окажется бессмысленным, бесполезным! Если все это рухнет – я тоже рухну и не смогу подняться! Я уже едва стою на коленях, неужели ты не видишь?! – отчаянно взвыл Карлайл, запустив себе пальцы в волосы и сжав их в кулаки. – Я будто сгораю заживо! Ведь я же врач, Эсми, врач! Как я мог не подумать о последствиях той травмы?! Я должен был заставить Эдварда каждый год проходить обследования, тащить его в клинику силком, если потребовалось бы! Вместо этого я укатил в Нью-Йорк, потащив тебя с собой, и пустил все на самотек! Ты имеешь полное право ненавидеть меня за это… я сам себя ненавижу! Ненавижу!
Я опустилась перед Карлайлом на колени, сжав его руки в своих – они оказались невозможно ледяными, словно в них не было ни кровинки. Я хотела бы что-то сказать ему, разуверить, но вместо этого снова и снова шептала лишь его имя, не находя сил, чтобы продолжить.
– Прости меня, родная, прости! Я так виноват перед вами! – прижимая мои руки к своим губам, бормотал Карлайл. – Я так люблю Эдварда, он – мой единственный сын, часть меня, мое продолжение. И я не могу смириться с тем, что его не станет! Если бы у меня была возможность, я бы, не раздумывая ни секунды, поменялся с ним местами. Но я не знаю, что делать! Впервые в жизни я не знаю, что мне делать! Просто слепая вера и надежда – это слишком мало для меня. Я должен ЗНАТЬ, что делать, у меня должен быть какой-то план, решение, но… их нет! – голос Карлайла сорвался на свистящий шепот.
Дыхание мужа стало тяжелым, словно у астматика, я слышала, как сердце в его груди отбивает рваный ритм, то колотясь, как бешеное, то замедляясь, делая слишком длинные паузы между ударами.
«А что если Карлайл не переживет все это? Что если Богу вздумается отобрать у меня сразу двоих?!» – эта страшная мысль раскаленным обручем сдавила мне грудь, но я, сжав зубы, попыталась вытиснуть ее из своей головы. Я должна быть сильной ради своих мужчин, ради себя самой, ради всех нас!
– Нам рано сдаваться, рано! – жарко зашептала я, обхватив руками лицо мужа, мокрое от слез. – Мы должны, обязаны бороться! Мы не можем так просто отпустить Эдварда. Я не разомкну рук, удержу сына на этой земле, не позволю уйти вперед меня! Все вместе мы справимся, перехитрим болезнь, найдем выход, не может быть, чтобы его не было!
Даже в полутьме я видела, как в глазах Карлайла загорается тот же безумный огонек надежды, что полыхал внутри меня. Прямо здесь и сейчас все преграды между нами рухнули – мы снова были вместе, были семьей, единым живым организмом: одно сердце на двоих, одна душа, одни мысли, желания и порывы. Я любила мужа, он был нужен мне так же, как и я ему. Места для обиды и непонимания не осталось, я вдруг вспомнила о том, что Карлайл всего лишь мужчина, а мужчины всегда беспомощнее перед ударами судьбы, чем женщины, они словно могучие дубы, что с корнями выкорчевывает ураган. Мы же, представительницы «слабого» пола, будто плакучие ивы: гнемся к самой земле, стонем от боли, но не ломаемся.
– Да, Эсми, да! Ты права! Мы не сдадимся! – теперь в голосе Карлайла слышалась та решимость, которую я безуспешно пыталась найти в нем все эти два дня. – Пока в груди бьется сердце, надежда есть! И я не собираюсь спокойно смотреть на то, как умирает мой единственный сын!..
========== Глава 20. Растаяла душа, как льда кусочек ==========
Сейчас в моей душе темным-темно,
Льет грязный ливень страха и сомненья,
Как будто я «как я» – в моем «давно»,
А «я сейчас» – как в страшном сновиденье…
Пепельно-серые тучи затянули небо над Порт-Анджелесом, куда я прилетел с небольшой пересадкой в Сиэтле. Они не предвещали дождя, но и солнечные лучи не пропускали, словно все было затянуто мелкой дымчатой сеткой, только кажущейся прозрачной, – просто унылая бесконечная серость, размывшая сочные летние краски.
Здесь, в аэропорту чужого города, среди снующих туда-сюда чужих людей, я чувствовал себя идущим ко дну горьким обломком потерпевшего крушение корабля. Никакой цели, никакого смысла, никакой надежды – лишь беспросветная, безысходная пустота…
Хотя, что же это я? У меня была вполне определенная цель, ради которой я оказался здесь, но эта цель уж слишком отчетливо походила на край обрыва. Вот только я вряд ли в тот момент до конца осознавал, что сорваться с него вниз предстояло не мне одному. В свое падение в бездну я утащу за собой ту, которую хотел оберегать, любить, которая никогда не должна была узнать боли расставания.
Открыв переднюю дверь ближайшего ко мне такси, которых оказалось не так много на стоянке аэропорта, я попросил водителя отвезти меня в какую-нибудь гостиницу. Пожилой таксист с сомнением, если не сказать с опасением, окинул взглядом мою сгорбившуюся фигуру, его темные, глубоко посаженные глаза впились в меня, словно два буравчика.
Когда водитель уже готов был захлопнуть дверь у меня перед носом, я поспешно извлек из кармана деньги, сумма которых раза в три превышала реальную стоимость поездки, и протянул их ему. Тот удовлетворенно хмыкнул, выдернул у меня из рук новенькие хрустящие купюры и кивком головы указал на заднее сиденье. Я мысленно усмехнулся – деньги способны творить чудеса, стоит людям услышать их шуршание, увидеть глянцевый блеск – всё, они твои.
Всю дорогу мы ехали в полном молчании, однако я то и дело ловил на себе в зеркале заднего вида настороженный взгляд таксиста. По его напряженной позе я понял, что он ждет от меня какого-то подвоха, будто я нападу на него или еще что-то в этом роде. Вроде бы такая мелочь. Подумаешь, какой-то таксист, возможно, страдающий неврозом, психозом или, Бог знает, чем еще. Но мне вдруг нестерпимо захотелось спрятаться, забиться в щель или просто исчезнуть, раствориться. Никогда прежде я не чувствовал себя настолько жалким и ничтожным.
Заметно лучше я почувствовал себя, лишь оказавшись за закрытой дверью своего номера в небольшой гостинице. В крохотной комнате было опрятно, но также бесконечно уныло, как и на улице: старая кровать с потрескавшейся на спинке полировкой; застиранное одеяло поверх нее; потертый ковер грязно-зеленого цвета с подпаленным углом на скрипучем полу; побитые молью, выцветшие шторы на окнах (и это-то в городе, где почти не бывает солнца!). На фоне этого убожества выгодно выделялись вполне приличные на первый взгляд шкаф, тумбочка и маленький письменный стол со стулом, правда, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся выкрашенными бордовой краской, причем, не слишком аккуратно. Мое временное пристанище чем-то напоминало больничную палату, скорее всего, своей безликостью, вынужденной чистотой и отсутствием даже намека на душу.
Вероятно, мне следовало немедленно развернуться и найти более приличную гостиницу, но сил совсем не осталось. Даже не потрудившись снять с себя ботинки, я повалился на кровать поверх пропахшего нафталином одеяла. Однако отдохнуть так и не получилось: злосчастное одеяло нестерпимо кололось даже сквозь одежду, а пружины матраца ощутимо врезались в спину, по которой и без того горячей волной начинала растекаться боль.
Приглушенно застонав, я скатился с кровати и почти ползком добрался до своей сумки, так и валявшейся возле двери, благо, разделявшее нас расстояние едва ли было больше двух метров.
Прислонившись спиной к стене, я принялся торопливо шарить по многочисленным карманам сумки в поисках лекарства. Уже почти отчаявшись, я перевернул ее вверх дном и встряхнул, вывалив на пол весь свой скудный багаж, и только после этого вспомнил, что еще в самолете переложил таблетки в передний карман брюк.
Приняв наконец лекарство, я привычно закрыл глаза и стал терпеливо ждать, когда оно подействует, заставляя боль отступить хотя бы на время.
Кажется, я задремал, потому что, открыв глаза через некоторое время, не сразу понял, где нахожусь. С трудом поднявшись с пола, я подобрал свои вещи и кучей сунул их обратно в сумку. Вдруг что-то блестящее привлекло мое внимание. Присев на корточки, я подобрал зацепившийся за ворс ковра серебряный гребешок Беллы, подаренный ей Эсми на прошлое Рождество. Я не знал, как и когда он мог попасть ко мне в сумку, да это было и не важно, собственно, как и многое другое. Возможно, это было временным явлением, но в какой-то момент все вокруг утратило смысл, словно перестало иметь ко мне какое-либо отношение.
Холодный благородный металл гребня обжог пальцы, воспоминания, связанные с ним, обожгли сердце. Маленькая вещица, к которой прикасались ЕЕ тонкие пальчики, гребень, помнящий нежный аромат ЕЕ пушистых волос.
Белла… Она вмиг заполнила собой все пространство вокруг и внутри меня. Изабелла – вот то единственное, что имело значение, лишь она и мои чувства к ней были настоящими, все остальное – просто картонные декорации на сцене жизни, рухнувшие два дня назад.
Белла – последний, самый трепетный и ласковый луч солнца, которое вот-вот закатится за линию горизонта. Так и не подарив тепла, он скроется за плотной вуалью чернильно-серых облаков, чтобы не засиять вновь никогда.
Невыразимая боль сжала мою грудь стальным кольцом. По инерции я полез в карман за таблетками, но остановился на полпути: от этой боли, что сейчас раздирала мне сердце в клочья, было только одно лекарство – смерть.
И без того маленькая комната вдруг сделалась еще меньше, стало так душно и тесно, как если бы я оказался запертым в пыльном чулане.
Вслед за этим пришло четкое осознание: если я не сделаю прямо сейчас то, ради чего приехал, то не сделаю этого уже никогда, просто не найду в себе сил. Я и так с трудом мог представить, как смогу сказать Белле, глядя прямо в глаза, весь тот бред, что сочинил во время перелета.
Я зашел в крохотную ванную, чтобы умыться и привести себя в порядок перед последней встречей с Белз. Только заглянув в помутневшее от времени зеркало, я вдруг вспомнил, что не делал этого уже дня три-четыре. Увиденное мной отражение… это был не я! Не мог быть я! Немыслимо, чтобы за считанные дни с человеком могли произойти такие плачевные изменения: болезненно-бледное с желтоватым оттенком лицо; темные, глубокие круги вокруг покрасневших глаз (строго говоря, красным из-за лопнувшего сосуда был только правый глаз, что выглядело еще более жутким); искусанные в кровь губы и трехдневная щетина. Наверняка, таксист и управляющий гостиницей – я видел с какой неохотой он протягивал мне ключ от номера – приняли меня за конченого наркомана, находящего в ломке.
Я медленно, словно во сне, протянул руку и провел ладонью по жалкому отражению в зеркале, будто это могло стереть его или вернуть мне прежний вид – так глупо и наивно. Меньше всего я сейчас походил на человека, решившего начать новую жизнь, полную развлечений и мимолетных, ни к чему не обязывающих связей. Белла должна была бы ослепнуть, чтобы поверить в придуманную мной историю.
Что делать? Что же теперь делать?! Первой мыслью было отказаться от своего плана, просто поехать к Белз так, как есть, и рассказать всю правду. Это помогло бы мне, я знал, что помогло бы, пусть даже на время, но я смог бы снова почувствовать себя живым, все еще живым…
Однако я лишь плотнее сжал зубы и упрямо покачал головой. Нет, нет и нет! Я уже все решил, так будет лучше! А ты, Эдвард Каллен, можешь катиться куда подальше со своей слабостью! Тебя все равно уже нет! Достаточно просто взглянуть в зеркало, чтобы убедиться в этом! Я упрямо, уперто убеждал себя в правильности своего решения, повторяя, как сломанные часы с потерянной навсегда стрелкой, которые продолжают тикать, не понимая, насколько это теперь глупо и ненужно: «Ты даешь Белз возможность жить дальше, пойти вперед, спасаешь ее от падения в черную бездну».
Тяжело дыша, я выбежал из ванной и огляделся по сторонам, словно в надежде найти какое-нибудь решение.
Оно пришло внезапно и оказалось достаточно простым: нужно было позвонить Белле и сказать ей все то, что и собирался сказать при личной встрече. Я понимал, насколько это отвратительно, понимал, что Белз заслуживает несоизмеримо больше, чем унизительное прощание по телефону, но другого выхода просто не было – лишь это слабовольное решение, побег от действительности. Как я мог решиться на то, чтобы расстаться с единственной женщиной, которую любил, по телефону, не удостоив ее личной встречи?! Но я был загнан в угол, как зверь перед последним рывком, мне некуда было бежать, не на что надеяться. Я не мог предстать перед Белз в таком разобранном состоянии, а вернуть мне вид здорового человека было теперь под силу разве что фее-крестной из сказки про Золушку. Мне оставалось лишь молить Бога о том, чтобы однажды – пусть даже не в этой жизни – Изабелла простила меня.
Садясь на скрипучую кровать и доставая из кармана мобильник, я уже ненавидел себя, набирая до боли родной номер трясущими, словно в лихорадке, пальцами, я мысленно молил Бога о том, чтобы Он позволил мне умереть прямо сейчас, в эту самую минуту. Но как только в трубке послышались гудки, во мне словно что-то щелкнуло, будто часть моей души умерла, и на ее месте возникла бездушная машина, механически воспроизводившая заранее подготовленные фразы. Оставшийся же обломок моей души в это время корчился от боли и беззвучно кричал, но уже не в его силах было что-либо изменить.
– Да, – гудки неожиданно сменились настороженным голосом Беллы.
– Белла… – прежде чем продолжить, я прокашлялся, чтобы избавиться от жутко чувства, будто чьи-то ледяные пальцы сомкнулись вокруг моей шеи.
– Да, – снова повторила Белз.
– Все изменилось, Белла, – на одном дыхании выпалила бездушная машина внутри меня, – то, что произошло, заставило меня на многое взглянуть под другим углом.
– Что произошло? – истекающий кровью обломок моей души сжался от ужаса, услышав испуганный шепот обожаемой до дрожи девочки.
– Я не знаю, как это произошло… Новая соседка родителей предложила нам помощь. Мы весь день разбирали коробки с вещами… устали жутко! Таня предложила пойти к ней и немного выпить, чтобы расслабиться… то, что потом случилось между нами… прости меня, Белла! Видимо, я оказался не тем человеком, который смог бы сделать тебя счастливой.
Это так странно… всего лишь несколько дней назад я был абсолютно уверен, что в тебе сосредоточена вся моя жизнь, мне казалось, что я не смогу даже дышать, если тебя не будет рядом. Но оказавшись за тысячи километров от тебя, в компании другой женщины, к которой даже не испытываю ничего, кроме сексуального влечения, я вдруг почувствовал такую свободу и легкость, словно вырвался из плена. – Мои губы шевелились, произнося какие-то фразы, смысл которых не доходил до моего сознания, в эту минуту будто впавшего в кому, словно чугунная заслонка стояла сейчас между мной и тем, кто говорил с Изабеллой. Я не знал, не понимал, откуда берутся эти ужасные слова, рушащие все вокруг, но все продолжал и продолжал говорить: – Да, я люблю тебя, Белла, но, вероятно, это не та любовь, испытывая которую, люди женятся, рожают детей и живут вместе до конца своих дней.
Еще я вдруг понял, что ведь и не знал жизни без тебя. Ты всегда была рядом, и я просто боялся попробовать что-то новое, отчаянно цепляясь за тебя.
Я вознес тебя на престол, сделал своей королевой, поклоняясь тебе, и был безгранично счастлив этим, не ведая, что может быть по-другому, что «по-другому» – не значит «хуже».
Ты была моей первой любовью, которую всегда трудно отпустить, время шло, а я все продолжал убеждать себя, что мне нужна ты и только ты, что я не смогу быть ни с какой другой женщиной. Оказалось, что это всего лишь иллюзия, красивая сказка, которую я сначала придумал, а потом сам же в нее свято уверовал.
Только не думай, будто все эти годы, что мы были вместе, я лгал тебе, это не так. Просто сейчас все изменилось… я вдруг проснулся совсем другим человеком. Мне нужна свобода, я хочу почувствовать вкус жизни, ведь я еще и не жил! Сойдя со школьной скамьи, я вдруг сразу же превратился практически в женатого мужчину. Я понял, что многого недополучил в этой жизни, и сейчас хочу исправить это упущение.
Ты навсегда останешься для меня дорогим человеком и близким другом, но будет лучше, если мы больше никогда не увидимся: все это и так слишком тяжело для нас обоих, но разрывать связь нужно резко и сразу.
Прости, я знаю, что ты достойна другого прощания, не по телефону, но так уж вышло… мне так легче. Боюсь, что не смог бы сказать все это, глядя тебе в глаза, я чувствую себя последней сволочью, ей же, собственно, и являюсь… Белла, ты слышишь меня? – настороженно переспросил я, тайно надеясь на то, что связь давно прервалась, и Белз не слышала ничего из того, что я только что наговорил. Не получив никакого ответа, я снова настойчиво повторил свой вопрос: – Белла, ты слышишь меня?
– Ты… я… это же бред какой-то… – наконец сдавленно прохрипела она.
Я не узнавал голос Изабеллы, она почти шептала, словно на ее горло кто-то жестокий положил тяжелую руку, душа, лишая кислорода, отнимая драгоценную жизнь. Едва живой обломок моей души из последних сил вопил во мне о том, что Белла права: это все бред, чистой воды безумие, что нужно прекратить это немедленно, пока еще не поздно.
– Я не вернусь в Лос-Анджелес – окончу университет здесь, в Нью-Йорке. – Бездушная машина внутри меня презрительно скривилась и наступила на горло душе, заставляя ее замолчать. – В нашей квартире я больше не появлюсь и не буду оттуда ничего забирать. Ты как-то сказала мне, что нужно учиться без сожаления расставаться со старыми вещами, так вот ты была права. Аренда квартиры оплачена на год вперед – можешь продолжать жить там, если хочешь.
Вот, кажется, и все… Время начинать новую жизнь, вот только у каждого из нас она будет своя. Прости меня, Белла, и прощай…
Я нажал на кнопку отбоя, но последняя произнесенная мной фраза настойчиво продолжала звучать в моей голове искаженным эхом. В ужасе от того, что наделал, я смотрел на телефон так, будто он был пистолетом, из которого я только что убил человека. Хотя вероятно, я и был убийцей, лишившим жизнь троих: себя, Изабеллу и нашу любовь. Своим решением я перечеркнул все, я был безжалостным, бескомпромиссным – откуда это во мне?.. Болезнь… это не я! Она все решила за меня, за нас!
Я перевел взгляд на левую руку – в ней все еще был гребень Беллы. Скорее всего, во время своего монолога по телефону я так сильно сжал его, что изысканные серебряные зубья на одну треть вошли в ладонь, но я не помню, чтобы почувствовал боль. Не чувствовал я ее и сейчас, несмотря на то что вся рука была залита сочащейся из ранки кровью.
Я выдернул из ладони гребень и прижал к ней свою сменную футболку, ощутив при этом лишь неприятную горячую пульсацию – то ли за эти дни я успел привыкнуть к физической боли, то ли то, что творилось сейчас в моей душе, заглушало все остальные чувства.
Когда кровотечение прекратилось, я откинул в сторону испорченную футболку и снова уставился на телефон. Часть меня буквально молила о том, чтобы Белла перезвонила, потому что сделай она это, я не смог бы сдержать себя и взял бы трубку, а ответив на ее звонок, не нашел бы сил, чтобы снова повторять равнодушным голосом весь этот бред.
Услышь я сейчас даже просто голос Беллы, я вообще не смог бы произнести ни слова – просто разрыдался бы в трубку, как ребенок. А затем, призвав на помощь все свое мужество, я рассказал бы ей правду, признался бы в обмане, умоляя не бросать меня, приехать ко мне. До боли в кончиках нервов – мучительной всепоглощающей боли – я хотел прижаться к Белле, упасть в ноги, уткнуться головой в живот, сцепив руки на ее тонкой талии, не отпускать, держать, удержаться за нее, как за последнюю соломинку. Белз была нужна мне больше воздуха и лекарств.
Но телефон безжизненно лежал на кровати рядом со мной, и мне оставалось лишь сидеть и молча глотать текущие по лицу слезы, наблюдая за тем, как безудержно горят подожженные мною мосты, что столько лет соединяли нас с Изабеллой.