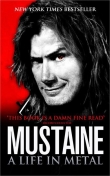Текст книги "Другая жизнь (СИ)"
Автор книги: Haruka85
Жанры:
Слеш
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– Я выпил только бокал мохито. Больше ничего.
– Точно? С одного мохито так штормить не будет. Судя по тому, в каком виде ты вчера домой возвращался, ты был в хлам.
– В хлам, так в хлам, – до странности легко согласился Томашевский, – только пива всё равно не надо. Ты следил за мной?
– Просто мимо окна проходил…
– В четыре утра? Такси остановилось у самого подъезда, вряд ли ты мог увидеть случайно.
– Ладно. Хорошо. Я встал попить водички и решил посмотреть, не тебя ли извозчик доставить изволил.
– Откуда, ты мог знать, что меня ещё нет дома?
– Мог.
На самом деле, Эрик действительно следил за Томашевским, но признаваться в этом категорически не собирался. После стычки с дворовой шпаной прошло уже порядком времени, но Эрик с тех пор никак не мог отделаться от ощущения, что если его нет рядом, безопасность Сергея находится под угрозой. Вроде обычный парень, каких по Москве гуляет добрый миллион с лишним, но внимание привлекал.
Да, Серёжины джинсики плотно облегали стройные длинные ноги и подтянутый зад, да, его парки на женский манер доходили длиной едва ли не до колен, да, водолазочки узкие, толстовки ярких расцветок и, в довершение образа, копна полудлинных, густых завитков, безрезультатно выпрямляемых каждое утро, – образ не слишком мужественный и цепляющий взгляд, но подобных недомальчиков-недодевочек модное поветрие унисекс наплодило всё тот же миллион.
И если сам Томашевский продолжал невозмутимо вести привычный образ жизни, Рау день ото дня наблюдал в себе усиление мнительности.
Стоило лишь немного прийти в себя после нападения, и чувство вины принялось активно расшатывать совесть, а совесть стала нашёптывать истину о том, что именно он, Эрик, подставил Серёжу под удар своим повышенным интересом. Любые поползновения в адрес Томашевского были прекращены в тот же вечер. Единственное, на что Эрик оставил себе право, – это наблюдения исподтишка, когда никто не мог заметить, да мысли – те прорывались без спроса, и сопротивляться было бесполезно – пытаться запретить самому себе думать, стал бы только круглый идиот. В воображении своём заходил он всё дальше и фантазировал всё откровеннее, пожираемый одновременно любопытством и ревностью, ведь Сергей, за исключением ориентации, был вполне обычным двадцатипятилетним парнем и должен был иметь вполне естественную потребность в сексуальном удовлетворении. Неудовлетворённым он явно не выглядел, значит и дозу секса получал регулярную и достаточную. Вопрос, где и с кем?
Профессор Равацкий, пожалуй, был единственной осязаемой кандидатурой в соперники. Эрик сам поразился своему инстинктивно-ревностному чувству к заведующему кафедрой, когда впервые увидел Сергея с ним наедине. Да, увиденное не подходило под отношения учителя и ученика, не походило ни на отношения отца и сына, ни на дружбу, чем чёрт не шутит. Для любовников между ними оставалось слишком много дистанции, пространства – не свободного, а заполненного чем-то тягостно-тягучим, похожим на ожидание, тревогу, предостережение и совсем чуть-чуть – недоверие.
Однако, Тома подпускал всё-таки близко, а профессор позволял себе много лишнего и не спешил возражать ревнивым выпадам первокурсника Рау: высмеивал и задевал, как будто тоже по-звериному чуял соперника, как будто знал, о чём думает тот и о ком мечтает. Томашевский опровергать подозрения тоже не спешил. Впрочем, и подтверждения своим гипотезам Эрик от него не дождался. Серёжа, в противоположность своему руководителю, как будто не замечал со стороны младшего товарища вообще ничего, кроме преданной дружбы.
А Эрик влюбился.
Он понял свои чувства не сразу, спустя время, но принял легко и без особенного удивления, как будто всегда знал и ждал, что это случится, а когда именно случится – всего лишь вопрос времени.
Эрик продолжал наблюдать молча. Он выучил расписание Сергея, выучил его привычки, запомнил, что тот любит, а чего терпеть не может, он научился считывать настроение соседа по походке и отличать его шаги на лестнице от десятков чужих шагов. Снова стал актуален давнишний вопрос: снизошёл бы Серёжа до Эрика, счёл бы достойным, если бы тот стал добиваться его? – и каждый раз читал в лукавом, ласковом взгляде красноречивое «нет». Томашевский смотрел на Эрика, как старший брат смотрит на младшего, как взрослый смотрит на капризное дитя, терпеливо, чуточку властно и без подтекста. Совсем.
Эрик молчал, делая вид, что ничего не происходит. Ходил на лекции, корпел по ночам над контрольными и лабораторными, гулял с университетскими приятелями, пудрил от нечего делать мозги хорошеньким девчонкам, занимался хозяйством – своим и, между дел, соседским, как мог помогал Серёже по работе, а вечерами старался ненароком пересечься с ним по пути домой, потому что тот, глупый, беспечно продолжал выбирать самый короткий путь через некогда милую сердцу Эрика подворотню, ныне пустовавшую, но не факт, что надолго.
По выходным оба отправлялись на тусовку в клуб, каждый – в свой и со своей компанией. Собственно, была ли у Томы компания и какая, Эрик не знал. Всё, что касалось личной жизни, Томашевский держал в строгом секрете и на единственное со стороны Эрика предложение составить компанию побледнел настолько красноречиво, что тема была моментально замята.
Выходные превратились для Эрика в сущий кошмар. Вместо того, чтобы вволю расслабляться в компании приятелей, на всё согласных красоток, алкоголя и оглушительной музыки, он сходил с ума от мыслей, где сейчас Томашевский, с кем и чем занят. Заканчивалось всё примерно одинаково – накачанный до состояния, когда уже всё равно, где он сам находится и с кем, Эрик хватал первую попавшуюся девицу, а то и двух, и трёх, тащил к себе или ехал в чужую квартиру, или заваливал прямо на кушетку в приватной зоне – неважно, сношал вне зависимости от обстоятельств дежурно и довольно пресно для самого себя, а едва закончив дело, прощался без лишних сантиментов.
И обязательно красной нитью сквозь всю ночь – мысли о Томашевском: «Где? С кем? Каково ему? Каков он? Так ли хорошо? Так ли хорош?» И потом, вслушиваясь в шорохи дремлющего глухой ночью дома: «Вернулся ли?»
Эрик выучил десятки примет, по которым можно было вычислить ответ на этот вопрос: скрип половиц этажом выше, журчание воды в ванной наверху, приглушённый свист чайника и стук чашки о блюдце за потолком, щелчок раскладываемого дивана.
Иногда ему как будто слышался даже жалобный вздох дивана, прогибающегося под худеньким телом.
Иначе – зловещая тишина; в сто раз хуже гадать, что она означает. Редкий гул проезжающей через двор машины – остановится или мимо? Шорохи на лестнице – хлопнет ли знакомая дверь? Пьяные голоса во дворе – кто, куда? Эрик возненавидел выходные, как только может ненавидеть их любовница женатого мужчины.
Наблюдая буквально четыре часа назад, как вполне себе живой и относительно невредимый Томашевский, пьяно пошатываясь, вывалился из такси и кое-как поплёлся к подъезду, Эрик в очередной раз испытал чувство облегчения от того, что очередное воскресенье можно считать завершённым. По лестнице Серёжа вползал так долго, что впору было идти проверять, не уснул ли он на чьём-нибудь коврике. Наконец дверь сверху хлопнула, диван скрипнул и наступил блаженный понедельник.
Сейчас, стоя над скрюченным в позе эмбриона Томой, Эрик с запозданием осознавал, что стоило, определённо, стоило, плюнуть на конспирацию и выйти навстречу, чтобы помочь ему подняться. Потому что чем более пьяный Серёжа возвращался после бурной ночи, тем скорее забирался в душ, тем яростнее звенел чашками на кухне, чтобы к утру обрести хоть сколь-либо вменяемый вид. Но сегодня… По всему выходило, что Томашевский просто вошёл, лёг, не раздеваясь, и даже нарядные беленькие кроссовки снял не в прихожей, а как будто уже лёжа сбросил кое-как на ковёр.
– Том… Ты ведь не принимал наркотики, нет?..
– Нет… Не знаю.
– Что значит «не знаю»?! Ты понимаешь, что несёшь?!
– Сам я ничего не брал, но подсыпать что-то украдкой всегда можно.
– Тома! Посмотри на меня! Мне надоело с твоей спиной беседовать!
– Отвали, Эрь… Оставь меня в покое. Ну как мне ещё сказать, чтобы ты понял?!
– «Отвали», значит?! Тогда пеняй на себя! – Эрик с силой крутанул Серёжу сразу за плечо и бедро, одним махом опрокидывая его на спину.
Не обращая ни малейшего внимания на сдавленный сип и искажённое болезненной гримасой лицо, он подцепил под мышки и резко усадил скрюченное, будто окаменевшее тело, прижав для верности к спинке дивана. Сиплый стон Томашевского перешёл в натуральный вой, из зажмуренных глаз брызнули слёзы, а пальцы судорожно сомкнулись на плечах Эрика так, что тот сам чуть не взвыл от боли.
– Отпусти меня! Положи! Положи меня, слышишь, пожалуйста, Эрик! – отчаянно захныкал Серёжа.
– Да ты сам меня отпусти для начала, – с удивлённой усмешкой ответил Эрик, неожиданно обнаруживший перед собой настолько безвольного и беспомощного Томашевского, что скорее поверил бы в розыгрыш, чем в реальность происходящего.
– Отпусти же, ну! Посидишь, ничего не случится.
– Я не могу… – проскулил Тома и, не расцепляя захвата, попытался сползти на бок, но мгновенно оказался усаженным снова.
– Да хватит уже дурака валять!!!
Глаза Томашевского распахнулись – чёрные омуты зрачков до краёв, лицо без единой кровинки разгладилось и губы – непослушные, неживые зашевелились механически, как у старинной фарфоровой куклы:
– Отпусти, Эрик, мне больно.
Подобной серьёзности Рау не ожидал. Стоило ослабить хватку, как Сергей разжал пальцы, перенёс вес туловища на ладони и ломаными, скупыми движениями сложился обратно в горизонтальное положение.
– Правда так больно? – осмелился задать вопрос Эрик, когда через пару минут лицо Томашевского приняло относительно спокойное выражение.
– Да. Спина болит. Поясницу сорвал. Не могу встать.
– Ты и шевелиться, кажется, не очень можешь. Как ты умудрился, Том? Ты же, вроде, в клуб ходил, а не вагоны разгружать! – Эрик потянулся одёрнуть задравшийся край светло-серого свитшота, в котором Серёжа вернулся из клуба, невольно задержался взглядом на полоске обнажённой талии и… – Это ещё что за хрень?!
Вместо того, чтобы спрятать покрывшийся зябкими мурашками голый бок, Рау поддёрнул край свитера ещё выше: свежий, багровый кровоподтёк узкой полосой спускался по диагонали от рёбер через низ живота и скрывался под ремнём джинсов.
– Ничего, – Томашевский попытался вернуть подол на законное место, но Эрик оказался проворнее.
– Обалдеть! Кто тебя так отделал, Тома?! – поперёк первого рубца на животе ложился второй, второй перекрещивался с третьим, четвёртым… Считать не было смысла – кожа на спине слилась в один огромный синяк, вспухший, ободранный, местами сочащийся сукровицей. – Что это за хрень? Слышишь?!
– Ничего, – упрямо повторил Сергей и прекратил сопротивляться. – Ничего особенного…
Эрик сдёрнул рукав с запястья, истерзанного, как и всё тело, сковырнул нечаянно присохшую к манжету багровую спёкшуюся корочку, и свежая, ярко-алая кровь лениво проступила в ранке, не торопясь сворачиваться вновь.
– Ничего?! Это называется ни-че-го?! – не помня себя от ужаса, заорал Эрик. – Да у тебя на шее следы от удавки! Ты выглядишь так, будто из пыточной камеры сбежал! Это твоё «ничего»?!
– Эрик, всё нормально, правда. Всё быстро пройдёт, вот увидишь. Просто дай мне полежать спокойно!
– Полежать спокойно?! Да ты разве встать можешь? Ты до туалета в таком состоянии не дойдёшь! Тебя избили, а ты твердишь «нормально»! Ты сам ненормальный! Я звоню в полицию!
– Никто не приедет. Забыл, где мы?
– Хорошо, звоню в «скорую», они точно приедут! Побои зафиксируют, в ментовку информацию передадут!
– Не надо, я говорю.
– Тебе мозги последние отбили?! Идиот! Если тебе угрожали, тем более молчать нельзя! Или… ты боишься, что все узнают про твою ориентацию?
– Эрик, не кричи, пожалуйста. Никакого избиения не было.
– Не было?! Не верь глазам своим, называется?!
– Не было. Я просто очень неудачно потрахался.
====== “Тамарочка” – Глава 7 ======
«Я забыл,
Что всего лишь хотел тебе сниться,
Ничего о любви не зная».
Yuki Eiri, «Без повода»
«Я просто очень неудачно потрахался», – эта фраза должна была звучать так небрежно, будто ему всё нипочём – не больно, не страшно, не стыдно, не мерзко от самого себя – банальная мелочь, которая случается едва ли не каждый день.
Томашевский обронил своё пояснение таким безразлично-будничным тоном, будто скабрезная болтовня о личном была обыденной привычкой для него.
На самом деле он не выносил пошлости. Непросто было даже сформулировать это короткое предложение, а уж произнести… Тем хуже, что объяснения требовались Эрику – человеку, перед которым Тома скорее согласился бы на роль импотента, чем выдал добровольно подробности интимной жизни.
Серёжа давно перерос трудный период юношества, когда только приходил к осознанию собственной природы, когда, осознав, цепенел от ужаса при мысли, что кто-нибудь узнает правду… Время шло, неминуемо появлялись люди, которые начинали об этом догадываться или банально попадали пальцем в небо, которые не понимали и не хотели понимать, не принимали и ненавидели Томашевского лишь за то, что он отличался от общепринятых норм.
То, что Тома был не такой, как все, инстинктивно чувствовали многие даже в детстве. Видимо неспроста его дразнили «Тамарочкой» пацаны во дворе. Однако в чём заключалось собственное чисто внешнее отличие от неприметной массы обычных мальчишек, он и сам не понимал – много было кудрявых, тьма голубоглазых, уйма худощавых, но дразнили далеко не каждого.
В любом случае, это было время, о котором Сергей не любил вспоминать до сих пор. Смятение, вечный страх быть раскрытым, вечная борьба за право быть собой и уверенность в пожизненном одиночестве.
Он до сих пор почитал высшей степенью везения знакомство с человеком, который шаг за шагом, терпеливо и бережно смог приручить его, расставил ориентиры по своим местам, научил не стесняться себя и получать удовольствие от жизни. Томашевский никогда не догадался бы при первой встрече, что этот строгий, требовательный, умный и успешный мужчина станет его первым любовником, первой любовью. Равацкого он, действительно, любил – безрассудно, слепо, отчаянно, как только и любят люди единожды в жизни, пока не познают вкус разочарования или предательства. Любил преданно, как щенок хозяина, а Равацкий, как и положено идолу, жаждал безусловного поклонения, ласкал и одаривал щедро: покровительствовал, учил, делал дорогие подарки, но никогда не ставил на одну доску с собой, оставлял на шаг позади, на ступень ниже, и, вынуждая бежать за собой, никогда не оборачивался.
Вспоминая этот скоропалительный роман, затянувшийся на несколько лет, – достаточно долгий срок для неопытного юнца, Томашевский был склонен считать свои чувства обычной влюблённостью, которая рано или поздно должна была застить юный разум и поработить душу, чтобы измять, истрепать, изорвать иллюзии и вылепить из груды ошмётков, имя которым опыт, то, что называется зрелостью.
И если бы не Равацкий, возможно, он никогда не дал бы себе губительного шанса поверить в мечту. Не сразу, далеко не сразу, но со временем что-то стало неуловимо меняться. В отношениях с немолодым, в общем-то, женатым мужчиной с положением в обществе априори иллюзиям места нет. Абсолютно ясно с самого начала, каковы правила игры, каковы шансы и риски. Тома принимал их сознательно и безропотно, без страха и сомнений, но такова уж человеческая природа, им суждено было родиться. Юнцу, едва перешагнувшему рубеж совершеннолетия, романтизировать действительность так же естественно, как и дышать.
Никаких открытий Америки. Незаметно, постепенно отношение стало меняться ко всему. Стоило почувствовать себя увереннее, научиться любить себя чуточку сильнее, захотелось другого: равенства, свободы, близости. Стабильности, единства, общности.
Сергей всегда стеснялся своей сентиментальности, а приверженность семейным ценностям в свете ориентации вообще расценивал как глупость, но в глубине души надеялся отвоевать у мира шанс на маленькое личное счастье – любовь, взаимность, которые и в горе, и в радости, и в здравии, и в болезни, и… Да не нужно многого – просто дорогой человек, к которому можно прийти вечером в общий дом, закрыть за собой дверь и забыть обо всём, что осталось снаружи.
Равацкий же был тождественен ожиданию без права голоса. Тома и ждал, и был готов сорваться в любой момент по первому зову – когда угодно, куда угодно, на сколь угодно краткий миг, но сам не имел возможности даже позвать.
Он сам попросился на свободу, не в силах примириться со своими амбициями. Профессор отпустил – с грустной улыбкой, но без единого возражения и упрёка, и Сергей почёл этот жест едва ли не высшим проявлением благородства Равацкого, во власти которого было разрушить до основания жизнь непокорного любовника. Профессор не только отпустил, он умудрился остаться рядом и не лишить Томашевского своей поддержки, заботы и дружбы.
Чем дальше оба уходили от перепутья – каждый своей дорогой, тем чаще Серёже казалось, что теперь уже не он, как щенок, неуклюже припрыгивая и путаясь в собственных лапах, бежит, из последних сил поспевая за хозяином, а Равацкий, подобно старому верному псу, грустно плетётся по обочине и с тоской заглядывает в глаза в надежде, что всё ещё нужен. И он оставался нужен, потому что быть безразличным к тому, кто некогда был едва ли не смыслом жизни, Тома не мог, просто не умел; потому что по сути сорокавосьмилетний учёный муж непостижимым образом занял место единственного друга своего двадцатилетнего студента.
Другое дело – Эрик. Эрик появился в тот период жизни, когда иллюзии рухнули окончательно, когда робкие надежды на счастье совершенно прогоркли в губительной атмосфере реальности. Одноразовые знакомства, случайные связи на ночь или две – циничные ухмылки, опасные лица, порочные речи, жадные руки, тёмные комнаты, чужие тела…
Секс-боль. Секс-грязь. Секс-удовольствие. Просто механический секс. Как повезёт.
Томе везло: жив, здоров, относительно успешен, относительно счастлив… Относительно. Он всё чаще задумывался о том, чтобы вернуться в тихую гавань к профессору.
Скорее всего, отпуская на волю своего наивного, неиспорченного любимца, тот был уверен, что птенец вернётся в клетку, не выдержав столкновения с законами мироздания. Скорее всего, Томашевский и отказался бы от погони за аистом в небе, но однажды чудо случилось: появился Эрик. Лихой, внезапный, непокорный, полный юности и противоречий, он коснулся нетронутых прежде струн души и затмил собою буквально всё. Вряд ли Тома мог себе представить, чтобы чьи-то проблемы вдруг стали важнее собственных, чьи-то мысли и поступки оказались интереснее своих.
Их отношения ничем не напоминали любовь с первого взгляда. С первого взгляда Эрик будил ненависть, резал глаз, резал слух, ударял по всем органам чувств сразу – резко, наотмашь, сбивал дыхание и уничтожал способность владеть собой. Эрик был уникален, он не был равнодушным – был живым, отчаянным, искренним в любом своём порыве. Он умел быть злым, циничным, ядовитым. Он был добр, заботлив и нежен душой.
Угрожая Эрику всеми возможными карами в ночь их знакомства, Сергей не кривил душой. От природы он был мстителен, злопамятен, и, кроме шуток, собирался побольнее ударить в ответ. Задав пару наводящих вопросов соседкам, Томашевский получил такое количество информации о прегрешениях свежевыявленной занозы, что поневоле усомнился в справедливости сплетен. Главная суть сводилась к тому, что отец непременно всыплет непослушному отпрыску по первое число, стоит только намекнуть. Даже для наглого Эрика это уж было чересчур, но всё-таки Серёжа, не теряя драгоценных минут, взлетел на третий этаж, как только бабульки у подъезда шепнули участливо, что «Сашенька Рау» только-только вернулся из рейса, и «если нужно ему пожаловаться, то именно сейчас самый лучший момент, пока он спать не улёгся, иначе, Эрик-змеёныш на порог не пустит».
Дальше начались чудеса: мальчишка, всё такой же нахальный, выглядел одновременно и возмущённым, и испуганным, но, очевидно, не за себя. Как только Александр Генрихович вступил в разговор, стало очевидно, что Эрик не боится отца. Напротив, он как будто переживал за него и пытался по-своему оберегать, активно демонстрируя себя хозяином в доме. Отец же изо всех сил не мешал сыну самоутверждаться, пока тот не переходил границ дозволенного. Впрочем, границы дозволенного были едва ли видны в обозримом пространстве, и парень, вместо того, чтобы чувствовать настоящую уверенность в своих силах, выглядел при ближайшем рассмотрении абсолютно растерянным, как человек, который потерял в темноте дорогу домой.
Ни открытая ругань, ни конструктивное противостояние не помогли бы разрешить конфликт, потому что ни то, ни другое не вернуло бы Эрику свет дня и ориентиры.
Поражаясь самому себе, Тома предложил помощь, и получил в ответ то, чего совсем не ждал – взаимопомощь. Он получил то, чего не чувствовал никогда или не чувствовал настолько давно, что успел совершенно забыть – ощущение собственной нужности, ощущение семьи.
Многие хлопоты, переживания и страхи оказались помноженными на нереализованное желание заботиться, оберегать, отдавать. Для Эрика Томашевский хотел быть лучше, чем есть, и если от проявлений натуры бежать практически невозможно, то можно попытаться спрятать, максимально скрыть неприглядную, презираемую большинством сторону своего существования.
«…Неудачно потрахался», – фиаско. Проигрыш. Разгромное поражение. Доигрался. Сам факт случившегося и его последствия деморализовали Серёжу, но нечаянное обнародование произошедших событий поставило его чувство собственного достоинства на грань уничтожения.
Не признаться было нельзя. Эрик не бросал слов на ветер и непременно дозвонился бы до скорой, достучался до полиции, не оставил бы шансов скрыть позор хотя бы от широкой общественности.
– Я просто очень неудачно потрахался, – Томашевский закрыл глаза и задержал дыхание, отчаянно борясь с желанием спрятать лицо в ладонях и тихо заскулить от безысходности.
Сделанного не воротишь. Он ждал чего угодно – громких криков, угроз, оскорблений, лавины вопросов, хлопка дверью, новой боли, но не тишины. Эрик не любил молчать и не молчал, если только не был очень сосредоточен на своём занятии. Говорил громко и обо всём на свете – всё, что видел, слышал, пережил за день или давным-давно, становилось темой для бурного обсуждения, которым сам Тома увлекался мгновенно, хотя от природы был не особенно общителен. Даже изучая учебник, Эрик умудрялся прерываться с некой периодичностью и комментировать прочитанное, даже отдаваясь музыке, он напевал отрывки любимых куплетов…
Теперь Эрик молчал. Молчал, наверное, целую минуту или даже пять – вечность для подсудимого в ожидании приговора. Это было страшно.
– Потрахался? – ожил он, наконец, и начал медленно подбирать слова. – Ты сказал «потрахался»?! Ты охренел, сволочь? И давно ты так трахаешься, чмо?! А? Кто бы мог подумать, что чистюля-Тамарочка любит погорячее!!! Чёртов педик! Извращенец! Давно бы сказал, чего тебе не хватает, я бы собственными руками свернул твою куриную шею! Или ты для хахаля своего расстарался? Дешёвая подстилка – вот ты кто!!! Ненавижу!.. – Эрик извергался яростью, подобно вулкану. Поток ругани вперемешку с площадной бранью разливался раскалённой лавой и топил остатки сознания Сергея в жгучем презрении и злости.
«Ненавижу!» – Эрик кричал, как безумный.
Томашевский открыл глаза снова. Он уже не разбирал смысла в отдельных словах, как пули свистящих над головой. Слишком много из них попало точно в цель – в самое сердце, но Сергей отчего-то не умер, не перестал дышать, чувствовать, мыслить… Он лежал неподвижно, по забытой детской привычке разглядывая узоры на вытоптанном паласе, пересчитывал завитки и цветочки, крошки и ворсинки, представляя, что его больше нет, он действительно умер – просто встал и ушёл, оставил своё бесполезное, приносящее только боль тело.
Куда ушёл? Никуда. Исчез. Не было в целом мире места, где ему хотелось бы очутиться сейчас, не было самой убогой каморки, где он мог чувствовать себя в безопасности, не было никого, чтобы довериться. И так уже много лет – один. Всегда один.
Самого важного для себя человека он только что отпугнул. Единственный человек, на чью поддержку Сергей поневоле привык рассчитывать, кричал теперь страшным голосом страшные вещи, вне всяких сомнений, ненавидел, и это было гораздо страшнее пережитой ночи.
Мучителя звали Кирилл. Он вышел на Томашевского сам, выловил анкету на сайте знакомств и впервые написал недели три назад. Кирилл был неглуп, остроумен, обеспечен и хорош собой. В совокупности признаков он оказался практически идеален, тем и настораживал. При встрече Сергей по привычке ждал подвоха – враньё случалось встречать всякое, начиная от подставной фотографии и выдуманной жизни, до скрытой с недобрым умыслом гомофобности. Кирилл оказался именно тем, за кого себя выдавал, и под конец вечера, когда дело дошло до постели на нейтральной территории, Томашевский почти полностью расслабился. Получив неожиданное предложение «немного поиграть», артачиться не стал и не без любопытства согласился.
Эксперимент можно было назвать пикантным. Элементы БДСМ имели, скорее, декоративный характер, выглядели ненатурально, местами забавно, местами наивно и даже глупо, но в целом, если отбросить ненужную мишуру и скрасить природным артистизмом Сергея, секс можно было назвать качественным, поэтому, получив приглашение встретиться снова, он согласился почти без раздумий. В конце концов, другого партнёра на эти выходные всё равно не предвиделось, а вариант в виде Кирилла, если прикрыть глаза на небольшие завихрения, выглядел вполне привлекательно.
Поскольку на сей раз знакомство можно было считать состоявшимся, потребовалось совсем немного времени и всего один бокал коктейля, чтобы перейти к основной части свидания. В конце концов, никому не пришло бы в голову изображать то, что в просторечии называют конфетно-букетным периодом. И ничего не было странного в приглашении в гости, и ничего удивительного в предложении поиграть снова – тоже. Возможно, стоило прислушаться к приглушенной мохито интуиции, но чувство опасности Томы вопило каждый раз, когда он отправлялся навстречу приключениям, поэтому привычка не давать воли панике и держать марку в любой ситуации давно была доведена до совершенства.
Умение владеть собой – дело чести, зачастую, единственный способ самосохранения.
Должно быть, именно оно и подвело Томашевского в ту ночь. Ему бы бежать, но он лишь беззаботно рассмеялся, окидывая взглядом спальню любовника, которая напоминала одновременно средневековую пыточную камеру и съёмочную площадку порнофильма в стиле садо-мазо. Он бы сбежал, плюнув на имидж опытного и смелого, плюнув на самолюбие, стыд и прочую ерунду, которые в итоге заставили его остаться, если бы только знал, во что выльется этот раунд.
В этот раз не было никаких элементов БДСМ, как и не было ничего, что входит в это понятие. Это был открытый садизм, во всей его жестокой неприглядности, а сам Кирилл единственным, кто знал, что их ждёт в конце этого пути, и наслаждавшимся каждым извращённым актом собственноручно написанной пьесы.
Знать наперёд не дано никому. Тома с улыбкой вступил в игру, не представляя, каков на вкус настоящий стыд и страх, каково, сцепив зубы, скованному по рукам и ногам, извиваться от жгучей боли во власти безумствующего садиста, каково терять последние крохи сознания вместе с последними глотками воздуха в лёгких, каково, приходить в себя в бессчётный раз и мечтать только об одном – вновь провалиться в равнодушное ничто, лишь бы не чувствовать ударов, уколов, тычков, каково забыть все слова и правила, а вспомнив, наконец, понять, что кляп во рту не выдаст ни одного членораздельного звука.
Сергей не помнил, как всё закончилось, не помнил, как очутился у выхода из комнаты, беспомощно прижимающим к груди ворох скомканной одежды.
– Малыш, ты куда? Оставайся до утра!
Серёжа вздрогнул, как от очередного удара хлыстом, и отшатнулся: Кирилл приглашающе похлопал ладонью рядом с собой. Влажный после душа, одухотворённый и безмятежный, он сидел на краю кровати в едва запахнутом атласном кимоно цвета крови и лениво покачивал на оттопыренном пальце перекинутой через колено ноги вульгарный, атласный с золотом шлёпанец.
– Хотя… У меня найдётся спальня поудобнее, – подмигнул Кирилл, – только душ прими. Полотенце на полке.
Томашевский опрометью ринулся в ванную и, из последних сил провернув защёлку замка, склонился над унитазом…
Горячие струи воды обжигали тело, тёплые – обжигали, холодные выбивали озноб, но обжигали не меньше. Он не помнил, как заставил себя натянуть грубую ткань поверх мокрой, изодранной кожи.
– Останешься?
– Мне на работу…
– Я вызову такси.
Он не помнил, как садился в машину, потом выходил из неё, как поднимался по лестнице, ложился поверх не разобранного дивана, как забыл снять кроссовки и оказался не в силах развернуть плед, но точно знал, что всё это сделал сам. Наутро, выпав из тревожного, серого с алыми всполохами забытья, Сергей никак не мог взять в толк, почему оказался не в состоянии ни встать, ни повернуться от дикой боли в пояснице.
«Неудачно потрахался», – вот и всё объяснение. И грустно, и стыдно, и смешно над самим собой, и страшно чувствовать себя, молодого, ещё вчера здорового парня, калекой.
Да так ли необходимо было встречаться с извращенцем Кириллом, ставить на карту здоровье, жизнь, маленький кусочек уюта и благополучия, с таким трудом обретённый? Неужели же всё пошло прахом ради сомнительного удовлетворения низменной плотской потребности?
«Один, два, три, четыре…» – пыльные корешки книг на полке. Звонкий крик ударяется о стены, рикошетом отлетает в потолок и смешивается с новым криком. Вибрирует пол, диван, окно, стеклянные висюльки на люстре…
«Один, два, три…» – фарфоровые слоники в ряд. Тишина.
«Один, два…» – Тома и Эрик на выцветшей бумажной распечатке, приколотой обычной иголкой над столом – случайная прошлогодняя фотка. Тишина.
«Один…» – тишина. Теперь он снова один.
«Один, два, три… – строем солдат по брусчатке шум крови в ушах, – четыре, пять, десять… Я просто дурак».
– Тома?
«Пятнадцать, двадцать пять, тридцать… – перед глазами плывёт, – сорок пять, сорок шесть, пятьдесят…».
– Тома!
Нет удавки на шее, но нечем дышать. Целлофан. «Вам пакетик не нужен?»
– Что с тобой, Тома?! Слышишь?!