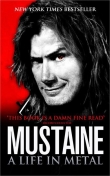Текст книги "Другая жизнь (СИ)"
Автор книги: Haruka85
Жанры:
Слеш
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
«Ключевое слово – «был», – тут же одёрнул он сам себя, вспоминая сегодняшний «недоминет» Томы, который, если оторваться от частностей, срежиссирован и исполнен был просто идеально.
Яркий свет во всех комнатах. Повинуясь интуиции, Эрик поспешил в гостиную, откуда ощутимо веяло холодом.
«Балкон!» – снова нехорошо ёкнуло в груди.
– Серёжа! – сгорбленная фигура Томашевского на фоне распахнутых настежь створок.
«Успел!» – схватить покрепче, прижать к себе, не отпускать: ни сейчас, ни завтра – никогда. Всю жизнь, полную боли и, несмотря ни на что, – счастья, удерживать в руках это всего за десяток дней ставшее таким хрупким тело, ощущать биение двух сердец как одного, дышать в унисон. Эрик, безотчётно следуя мыслям, затянул вдох, чтобы вобрать полные лёгкие сладкого, сырого воздуха февральской оттепели в один такт с Томашевским, задержал в себе так долго, как только мог бывший пловец, с наслаждением выдохнул и… Он насторожился, не сразу осознал, в чём дело, но органы чувств уже били в набат, оповещая об опасности. Вдох, вдох, выдох совсем короткий, снова вдох – судорожный, надрывный.
«Как это?! За вдохом всегда следует выдох! Это закон!» – Эрик отстранился и, продолжая твёрдо удерживать за плечи, присмотрелся к Сергею. Синюшнего оттенка нос и губы выделялись особенно жутко на фоне общей сероватой бледности лица – и яростная борьба за каждый кубический сантиметр выдыхаемого воздуха. Лёгкие, переполненные, казалось, до предела, прерывисто возвращали углекислый газ короткими, скудными дозами.
– Тома! Ты слышишь меня? – едва заметный сквозь панику кивок.
В облике Томашевского с каждой секундой всё явственнее читались признаки судорожной схватки за жизнь, так похожие на агонию.
– Что болит? – пальцы на запястье – пульс бешеный, даже считать не нужно.
Вместо ответа кулак Серёжи, стиснутый на воротничке рубашки, разжался и лёг ладонью на грудь, обхватывая большим и указательным пальцем основание шеи.
– Горло? Грудь? Дышать не можешь?
Томашевский кивал, как в бреду, лихорадочно перебрасывая взгляд, лишённый осмысленности, с пола на стены, со стен – на потолок…
– Ты подавился?
Если бы в ответ на этот вопрос Сергей ответил всё тем же механическим кивком, Эрик, пожалуй, заподозрил бы его в невменяемости, но тот отрицательно покачал головой и мучительно закашлялся, чем вызвал серию жутких хрипов за грудиной.
– Принимал что-то?
Неопределённое движение в сторону кофейного столика, сплошь заваленного облатками таблеток и бутылочками микстур: обезболивающих, жаропонижающих, муколитиков, противокашлевых.
– Неужели, все лекарства сразу?!
«Да», – мучительное движение из последних сил.
– Что с тобой? Вирус? Бронхит? Пневмония? Кто всё это прописал?
«Не знаю», «никто»…
Эрик чувствовал одно: если не начнёт сей же момент делать хоть что-нибудь, сам ударится в позорную панику, и ничем – то есть, совсем ничем – не поможет. Не отпуская влажную от пота, холодную руку Томашевского, он набрал «112».
Деловитая тётечка на проводе сыпала и сыпала вопросами, Эрик отвечал быстро, автоматически, но когда услышал дежурное «бригада выехала, ждите!», его прорвало:
– Подождите! Пожалуйста! Он задыхается! Что, если он умрёт?!
«Что, если ты умрёшь, Тома?! Не надо!»
– Адреналин, Преднизолон, Эуфиллин… – градом посыпались трудновоспроизводимые названия. – Развести в физрастворе… Инъекция внутривенная, молодой человек. Сможете?
– У меня нет ничего, – обречённость.
– Вот поэтому к вам и едет бригада. Проветрите комнату, усадите больного удобно, освободите горло, чтобы одежда не давила… Щелочное питьё по возможности. И постарайтесь его ус-по-ко-ить, – по слогам произнесла дежурная. – Вы меня поняли? Паника опасна. Сейчас главное – не сделать хуже, – Эрик отключил телефон.
«Я ничего не могу сделать! – такова была очевидная суть сказанного фельдшером скорой помощи. – Успокоить. Не сделать хуже. Паника опасна.»
– Тома? – Эрик и сам покрылся ледяной испариной, когда заметил, как кончики пальцев Томашевского яростно впились в ямочку между ключицами. – Не надо! Идём на диван, садись, спокойно. Сейчас всё пройдёт. Сейчас врачи приедут, и будет тебе и Адреналин, и Преднизолон, и Эуфиллин, и внутривенно, и внутримышечно, и подкожно. Будут тебе и спазмолитики, и бронходилататоры. Всё будет хорошо. Ты только потерпи!
Эрик кое-как расчистил себе место на заваленном вещами диване, чтобы сесть рядом с Сергеем, и накинул обоим на плечи старенький скомканный плед в клеточку – тот самый, родной, из прошлого, который Эрик тысячу раз предлагал заменить на новый и выбросить, а теперь вдруг ставший особенно дорогим сердцу, важным до боли.
Томашевский уже почти ни на что не реагировал, только хрипел беспрестанно, шевелил дрожащими губами, скрёб грудь ногтями, царапал себя, будто пытался ради свежего глотка воздуха разорвать кожу, мускулы, добраться до органов…
«Где же скорая?! – весьма некстати пришла в голову мысль, что если уж службы доставки всегда опаздывают себе в убыток, то врачи, и подавно, не приедут быстро. – Ну где же?!»
– Иди ко мне, мой хороший, – он ласково провёл по влажным, спутавшимся волосам Сергея и осторожно, удерживая руку на весу, приобнял его за плечи. – Не бойся. Всё будет хорошо.
Сергей крупно вздрогнул, привалился к плечу и, кажется, немного затих.
– Вот так, да. Я с тобой, я рядом, я никуда не уйду, – говорил и говорил Эрик – монотонно, словно механическая кукла, и блуждал беспомощным взглядом по комнате: пульт от телевизора, сброшенный в суматохе на пол; потрёпанная книга в мягкой обложке – конечно же, любимый Ремарк; примятая подушка в несвежей, запятнанной наволочке в углу дивана; батарея лекарств, а среди них – кружка с испитым чайным пакетиком и разворошенная упаковка сухарей.
– У тебя снова бардак, мой хороший, – «Ну где же врачи?»
«Вот так ты и жил, да? А я всё мстил тебе. За что я мстил?! За равнодушие?! За собственную трусость? – холод лёг на сердце. – Ну где же?!»
С ума не шли постельные спектакли с Шуриком, построенные по принципу «чем громче крики, тем слаще возмездие».
«Я выжил тебя из собственной постели. Из дома выжил. Даже на работе не пощадил… – Вспомнились и ночные прогулки Томашевского – теперь Эрик готов был сознаться себе, что именно Серёжу видел в окно – и не раз – среди фонарей и сугробов зимнего леса. – Где же?!»
Вдохи и выдохи исчезли совсем, на смену им пришло сдавленное бульканье и низкий, тягучий стон. Эрик едва сдержался, чтобы не вскочить к окну, не закричать в бессильном отчаянии, топая ногами, круша всё вокруг.
«Нельзя.»
«Ус-по-ко-ить!»
«Где?!»
– Тома! Продержись. Пожалуйста. Ты можешь. Ты сильный. Я очень тебя прошу, – тяжесть безвольного тела на плече.
– Тома, живи, пожалуйста, слышишь?! Тома! – темноволосая голова медленно кренится на грудь.
– Тома, я люблю тебя. Я так тебя люблю! Тебя одного. Никого больше, никогда? Понимаешь? – слеза, одинокая, жгучая, катится по щеке, и нет нужды её прятать – не перед кем.
– Прости меня. Я так виноват перед тобой… – «Умоляю, Господи, помоги!»
Шорохи. Голоса в прихожей. Топот ног.
«Отойдите!» – чужие руки тянутся со всех сторон.
«Остановка дыхания!»
«Угнетение сердечной деятельности. Пульс…»
«На спину, быстрее!»
«Респиратор, трубка…»
«Адреналин…»
И снова взгляд крадётся по стенам, споро перескакивает с предмета на предмет, и снова обшаривает каждую мелочь, обводит каждый цветочек узора на шторах, прослеживает каждую полосочку на обоях, оглаживает каждый книжный корешок на полке – что угодно, лишь бы не обернуться назад, не увидеть вместо Серёжи бледную, бесплотную тень, как в древней сказке об Орфее и Эвридике. «Если я выдержу и не буду смотреть, он будет спасён!» – глупый и смешной обет, за который уцепился Эрик, отказываясь мириться с собственным бессилием.
– Молодой человек! Мне нужны документы! – настойчивый голос молоденькой сестрички не сразу дошёл до его сознания.
– Документы?
– Паспорт, полис, СНИЛС, – перечислила девушка таким тоном, будто повторяла, как минимум, в третий раз.
– Чьи документы?
– Документы больного! – медленно, как умственно отсталому, объяснила медсестра.
«Больного? Больного?! Это значит, что…»
– Он будет жить?!
– Мы успели вовремя. Показатели стабилизированы.
И снова посыпалось: «Какие симптомы предшествовали? К врачу обращались? Какие препараты принимал? Хронические заболевания? Аллергия?..»
– Не знаю… Нет, вроде бы… – отвечая по мере возможности, а точнее, не отвечая толком ни на один вопрос, Эрик чувствовал себя скорее студентом-разгильдяем, который очнулся от загула прямо посреди экзамена, и даже название предмета не помнит.
– Кем вы приходитесь больному?
– Я его… – «Кто я ему? Любовник? Бывший. Друг? Тоже бывший. Враг? Коллега? Сосед?» – Я его сосед.
– Близкие родственники есть?
– Нет. Не знаю… – «Я его родственник! Я!»
– Это всё. Спасибо за помощь. Можете возвращаться к себе домой.
– Вы его увозите?! Что с ним такое?
– Ну, а чему вы удивляетесь? Похоже на бронхоспазм. Пневмония, обструктивный бронхит, скорее всего. Это вам не температуру сбить: приехали, инъекцию ввели и уехали. Остановка дыхания, острая сердечная недостаточность – счёт на минуты шёл, мы его едва не потеряли.
«Я его едва не потерял!..»
– Теперь всё хорошо будет?
– Необходимо провести полное обследование, палата интенсивной терапии – как минимум, на сутки. Потом сможете навестить.
– Почему – потом? Разве мне нельзя поехать с ним?
– Нет. Вы не родственник, да и машина реанимации – это вам не маршрутное такси.
– Пожалуйста!.. – «Мне он родной!»
– Вы сделали всё, что могли. До свидания.
«Ты сделал всё, что мог, чтобы случилось то, что случилось!»
Конечно, Эрик не собирался ждать до завтра, чтобы справиться о самочувствии «соседа» по телефону, как посоветовали медики. Он наскоро собрал кое-какие личные вещи, необходимые в больнице, откопал под подушкой телефон и уже перед тем, как погасить свет, вытащил зарытую в складках пледа книгу – читанную-перечитанную, несколько раз склеенную, но всё равно безнадёжно разваливающуюся. Одно неосторожное движение, и страницы листопадом разлетелись из переплёта.
«Как не вовремя! Не надо было возражения слушать, просто взять и новый томик подарить… – Эрик тяжело опустился на четвереньки, чтобы собрать бумажки в пухлую, растрёпанную стопку. – А это что?» – среди страниц мелькнула поблёкшая от времени распечатка – та самая фотография, сделанная на самом обычном принтере, что висела когда-то приколотая над столом в комнате Томашевского много лет назад. Эрик – хмурый, изо всех сил старающийся выглядеть взрослым, но такой ещё мальчишка, и Тома – беззаботный, улыбающийся, счастливый, ослепительно-красивый.
«Я думал, ты её выкинул, а на самом деле… – горло сдавило в мучительном спазме.– Когда я в последний раз видел тебя таким, Серёжа?! Таким открытым и радостным. Что с нами жизнь сделала? Что мы сделали со своей жизнью?!»
Чтобы не разрыдаться самым позорным образом, Эрик, как был на коленях, зарылся лицом в лежащую на диване подушку, вдохнул знакомый, родной – драгоценнее самого изысканного парфюма – запах и горестно всхлипнул. Слёзы покатились одна за одной, уже бесконтрольно, впитываясь в мягкую, прохладную, уже чуть влажную ткань.
«Что, если ты вот так же плакал? Приходил домой, ложился сюда, завёрнутый в одеяло, выключал свет и глотал в темноте слёзы».
– Почему так больно, Тома? – не удержался от вопроса вслух Эрик. – Ты всё знаешь. Скажи, почему?
– Потому, что ты, Эрик, мудак, – отчётливо разнесся по комнате чужой, полный презрения властный голос. – Потому, что ты его предал!
Поспешно утирая тыльной стороной ладони слёзы, Эрик выпрямился, готовясь нападать:
– Вадим?! – стоя неестественно прямо, не выпуская из рук книгу, и, как спасательный круг, прижимая подушку к груди, он выглядел одновременно воинственно и смешно.
– Да-да, он самый и есть, Вадим Барышев собственной персоной.
====== “Свободные отношения” – Глава 18 ======
– Ты предал его! И мало было просто предать, ты не смог остановиться, пока не поставил его на грань жизни и смерти! – Барышев зажёг большую хрустальную люстру под потолком, и секретов не осталось – сам он выглядел почти так же нелепо, как и Эрик. Коричневатые потёки туши, смешанные с тональником, под глазами и на скулах, искусанные, ещё более яркие, чем обычно, губы, встрёпанные пряди волос, выбившиеся из низкого хвоста, неопрятно ниспадали на лицо, ещё более бледное и осунувшееся, чем обычно. Но если Эрика встреча застала в состоянии горя и раскаяния, то в облике Вадима не было ни намёка на слёзы – чистая, без примесей, ярость.
– Что ты знаешь о нас, чтобы говорить подобное? – тихо, почти без выражения ответил Эрик, сознавая, что никогда ещё не обнаруживал перед врагом более уязвимого состояния.
– Я знаю о вас всё! А о нём, удивишься, знаю намного больше, чем знаешь ты, – уверенно заявил Вадим, наступая, подминая, если не физически, то морально.
– Думаешь, раз спал с ним когда-то, то он принадлежит тебе со всеми потрохами? – Эрик вспыхнул, как спичка – не лучшее состояние, чтобы удержать себя в руках.
– О, нет, дорогой. Это ты мне сейчас свою философию приписываешь. Да как тебе понять, если ты его за столько лет не понял, то меня и подавно не поймёшь, – высокомерно возразил Вадим.
– Тебя понимать у меня и нужды нет, а Серёжу я знаю, как себя, – вот уж в чём Эрик не сомневался никогда.
– Серьёзно?! – недоумённо приподнятая бровь. – Ты ни разу не усомнился, а мы, между тем, никогда – ни разу – не спали с Серёжей, которого ты, вроде бы, так хорошо изучил.
– Да мне плевать, как тебе нравится называть процесс соития! – сколько Эрик ни пытался стереть из памяти воспоминание о Томашевском, млеющем в этих мраморно-белых, даже на вид холодных руках, оно всегда вставало перед внутренним взором в мельчайших подробностях.
– Вот видишь, даже сейчас, когда я открытым текстом тебе говорю правду, ты не веришь! – самодовольное подобие улыбки скривило рот Барышева. – Тебе в потаскушку-Тому верить гораздо проще, чем принять его таким, какой он есть.
– Но тогда в клубе… Я всё видел! – ревность, не поддающаяся контролю.
– Смею разочаровать, ты, золотой мой, видел вовсе не «всё», а лишь то представление, которое я хотел тебе показать – тщательно срежиссированное и вами обоими, как по нотам, сыгранное. И пьянка, и разговоры по душам, и Марик, и сцена страсти в исполнении Серёжи, даже ваша встреча, – это иллюзия, обман разума и органов чувств, причём обман не особенно искусный, – Вадим оторвал изучающий взгляд от своих длинных, наманикюренных пальцев – взгляд, сияющий торжеством.
– О чём это ты? – «Чему он так радуется? Неужели, правда?..»
– Да вы двое – всё равно что дети малые, которые ждут Деда Мороза под Новый год, верят в сказки и принимают за чистую монету самые примитивные трюки фокусника. А та история с выблядком-Кириллом! Только полный дурак повёлся бы на такой тупой блеф. Расстрел на пустыре! Бандитские девяностые! Кирилл этот, понятное дело, – идиот и есть, а вот вы двое… Я не знаю, как не расхохотался тогда в роли эдакого Мефистофеля, – Барышев и сейчас едва не смеялся; сливая на соперника, тонны обескураживающей информации, он словно нашёл выход скопившемуся нервному напряжению.
– Но он, и правда, исчез, – довольно глупый аргумент.
– А ты чего ждал? Что он к вам на скамейку у подъезда переселится? – всё тем же шутливым тоном парировал Барышев. – Уметь надо с людьми разговаривать, всё решаемо.
– Не понимаю, зачем тогда тебе нужно было издеваться над Томой? Разбирался бы с непосредственными виновными, так нет, и его приплёл. Скучно стало?! – почти криком ответил Эрик, думая попутно о том, что не всегда слова решают дело, и вот прямо сейчас отчаянно боролся с желанием применить в качестве аргумента кулаки.
– Не понимаешь. Я всего лишь проверял вас, – не чувствуя ни малейшего опасения, продолжал вываливать информацию Вадим.
– Что значит «проверял»? – Эрик балансировал на грани натурального бешенства. – Мы не система пожарной сигнализации, на кой-чёрт тебе нас проверять?!
– Чтобы знать слабые места, разумеется. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Никогда не слышал такое мнение? Весьма неприятно, но, между тем, и познавательно было понять, что мой Серёженька, едва держась на ногах, примчится среди ночи на другой конец Москвы, чтобы стоять на коленях перед кучкой подонков, выгораживая сопляка вроде тебя.
Занимательно было выяснить, что у Серёженьки появился такой безголовый и пылкий воздыхатель, который от избытка гормонов готов и кулаками махать, и пистолетом, и с ветряными мельницами бороться, Дон-Кихот недоделанный! Откуда ты на мою голову свалился? Зачем?! За что?! – в подобии исступления Вадим театрально воздел руки к потолку.
– Прекрати свой очередной спектакль! Отвечай, с какой стати ты решил, что он твоя собственность, а? Вы ведь даже не спали, сам сказал!
– Ничего важнее постели для тебя нет? – посерьёзнел вдруг Барышев. – Потому ты Серёжу на сопляка мелкого променял?!
– Послушай, Вадим, это наши проблемы. Мы сами разберёмся. При чём здесь ты?! Займись своими делами!
– Нет, любезный Эрик, это ты всегда был лишним! Шесть лет я пытался избавиться от тебя, шесть лет я атаковал вас на разный манер, – неожиданно горячо и откровенно заговорил Вадим. – Ты, может, до сих пор наивно полагаешь, что я тогда по доброте душевной советовал тебе завалить и трахнуть его как можно скорее?! Да я сразу понял, что стоит скомандовать «марш!», и ты попрёшь на него, как танк. Серёжа не выносит давления, более того, он у нас сильно моральный тип, инициировать неискушённого мальчика не стал бы – и уж точно не повёлся бы на неумелое соблазнение в форсированном режиме. Хотя я не удивлюсь, если ты ему тогда, и правда, вместо младшего братишки был.
– Обвёл меня вокруг пальца… – «А я, как дурак, повёлся на твою мнимую честность! Даже не усомнился!»
– Именно. И не только тогда. Не стоило мне верить, тут Тома прав. Сам он никогда мне и не доверял, с ним по-другому надо. Дай Сереже правильную пищу для размышлений, и он сам её додумает, подсказывать не придётся. У одного – горе от ума, у второго шило в заднице. Я всё надеялся, ждал, когда же вас жизнь раскидает! А дождался только того, что вы, и в самом деле, встречаться стали. Хотя какое там «встречаться». Что это за любовь такая – «свободные отношения»?!
– Какая есть! Сам сказал, на Серёжу давить невозможно! – правдой на правду. – Я на какие угодно условия бы согласился, лишь бы он позволил рядом быть.
– Не надолго же твоего согласия хватило! Вот я его, знаешь, действительно, хотел! И подольше твоего, между прочим. Без единого шанса, слышишь?! Не шесть лет, а вот уже скоро двенадцать! Восемнадцать Серёже было, когда он впервые в клубе мелькнул. Двенадцать лет глаз с него не свожу, слежу за каждым шагом, лишь бы не случилось с ним чего дурного! Как его по юности заносило! Из одной крайности в другую. Пока в клубе ошивался, я хоть что-то мог контролировать, так ведь, кроме клуба, – целая жизнь соблазнов и опасностей! Пока он себя не принял, в ум не вошёл, чего я только не насмотрелся в его исполнении! – Вадим уже давно не смеялся, не издевался, не злился – просто рассказывал, как будто исповедовался.
– Стриптиз перед всем клубом, видимо, с особым удовольствием смотрел. Так ты его хотел? Так берёг?!
– Случалось и такое… Неужели, Серёжа сам рассказал? – секундное удивление снова сменилось горечью. – Это была, знаешь, глупая шутка. Ошибка. Не думал я, что Серёжа на подобное решится, уж больно самолюбивый. То же самолюбие, только другим боком повёрнутое, его туда и завело. Деньги понадобились. Ему бы только намекнуть, я бы дал сколько угодно. Но нет же, Серёжа – птица гордая, всё сам. Безвозмездной помощи не приемлет. Насилу удержался, чтобы его прямо посреди танца с подиума не уволочь! После той его выходки у меня весь персонал, вплоть до кастелянши, узнаёт Серёжу в лицо. Стоит ему только ступить на территорию клуба, и мне известен каждый его шаг. Был бы в безопасности да под присмотром, только больно самостоятельный стал, сам по себе гулять стал, приключения искать.
Двенадцать лет я у него за спиной тенью стою, но он по-прежнему шарахается от меня с таким отвращением, будто я инкуб какой-нибудь. Каково!
– Инкуб?! Не видел я тогда в клубе у него ни грамма отвращения – только неприкрытое желание в каждой ласке! – всё та же непроходящая боль, всё та же незаживающей рана. Чтоб, стоило вскрыть её, чтобы добраться до истины.
– После того случая, когда ты сам пытался его соблазнить? Всё очень просто. Он сумел сымитировать лишь похоть, хотя я, на самом деле, просил изобразить любовь. Я его заставил. Взыскал долг – тот самый, за тебя.
– Что же он тебе задолжал такого важного, если ты сам всё подстроил, чтобы его в угол загнать! Не утерпел, не умел иначе его в постель затащить? – что угодно, только бы Вадим продолжал говорить.
– Ты так и не понял? Он расплачивался за твоё благополучие. А я слишком заигрался тогда, – Барышев тяжело вздохнул, подошёл к окну и закурил. – Не простит он мне никогда ни того, что на коленях стоял, ни поцелуев этих через не могу, ни, что пуще всего, посягательства на драгоценного тебя. Мне не очень хочется повторять, ничего между нами серьёзного не было. Поцелуи – да, секс – нет. Я, конечно, хотел его – до сих пор хочу безумно, но я не насильник. Игры эти все, долги – знал бы ты, как я жалею! Двенадцать лет скоро будет, как я люблю его! Дал бы он мне хоть один шанс, я бы всё сделал, в лепёшку бы разбился, но сделал его счастливым!
– Какая разница, если Тома тебе его не дал? – Эрик не смог удержаться от маленькой мести врагу.
– А тебе дал, и не один – много. Что сделал ты? Спустил все до единого в унитаз? – не остался в долгу Вадим.
– Я хотел нормальных отношений! Хотел жить с ним вместе. Каждый день – вместе, понимаешь?! А он не хотел. Как будто не доверял мне, и это недоверие – оно же в каждом его взгляде, в каждом поступке, в каждом решении! Как будто стоит ему отвернуться, и я брошусь изменять направо и налево.
– А он и не доверяет: не только тебе – вообще никому. Разучился – слишком много разного повидал. Да и ты разве перестал ездить по клубам? Прекратил свои гулянки?
– Но я не изменял! Ни разу с тех пор, как мы стали встречаться!
– Откуда ему знать? Ты особой разборчивостью никогда не отличался, ни в любви, ни в верности ему не клялся.
– Мне нужно было клясться? Но это смешно! При чём здесь слова?! Я звал его с собой, но он ни разу не согласился ни на клуб, ни на отпуск, ни на самые обыкновенные горные лыжи…
– Лыжи?! Обыкновенные? Горные?! Ты идиот?! – вскинулся Барышев. – Инвалидом его сделать захотел?!
– Почему? Что за ерунда?.. – Эрик не сразу уловил, куда клонит Вадим. – Из-за позвоночника? Хочешь сказать, проблемы настолько серьёзны? Но он мог бы сказать!
– О! Неужели доходит? Оказывается, иногда слова имеют вес? Я вот не понимаю, что сложного сказать о том, что ты верен и не собираешься изменять любимому человеку, в чём трудность слов «прости» и «люблю»? Сообщить о том, что ты не можешь позволить себе покорять горки и трамплины из-за риска обезножеть до конца жизни – это немного другое. Не слишком приятно становиться объектом для жалости, особенно, если и без того чувствуешь себя неловко в плане возраста.
– При чем здесь возраст?! – «Действительно, при чём?!» – Я никогда не ощущал разницы!
– Он ощутимо старше, это не добавляет уверенности в себе. Уж поверь, я знаю, о чём говорю. И вот в итоге ты променял его на мальчишку моложе себя. Молодец. Красиво. Знаешь, смотрю я на тебя, разговариваю с тобой и вижу одни лишь претензии – ко мне, к Серёже… Ты страдал, тебя не поняли, тебя обидели. Все кругом плохие, а ты хороший.
Вам всегда было так легко вставлять палки в колёса, потому что каждый из вас думает за себя. Знал бы ты, чего мне стоило решение оставить вас в покое! Стоило оставить ситуацию без контроля, и Томашевский едва не погиб! Вы сами с размахом сокрушили всё, что у вас было хорошего; шесть лет прожили бок-о-бок, но так и не научились говорить и думать – «мы».
– Я… Мы научимся!
– Нет.
– Что значит «нет»? Я же сказал…
– Твоё время вышло, Эрик.
– Мне надоело, Вадим. Мне нужно ехать.
– Куда, дорогой? В больницу к Серёже, может быть?
– Нужно отвезти вещи. И вообще… Я должен быть рядом с ним.
– Рядом с ним ты должен был быть в прошедшем времени, а в настоящем ты должен быть там, – жест в сторону соседней квартиры, – с этим мальчиком, Шуриком, что ли? Разве он не ждёт тебя?
– Да при чём здесь это? – «Ждёт!»
– При чём? Объясню. Это очень просто. Ты собираешься поехать в больницу, собираешься оккупировать скамейку, ближайшую к двери Серёжиной палаты, собираешься, упорный ты мой, взять измором и дензнаками местный персонал, чтобы пробиться к нему?.. Допустим, ты своего добьёшся. Тома придёт в сознание, увидит тебя рядом. Что дальше? Думаешь, он простит твоё предательство?
– Мы разберёмся с этим, – «Не простит!»
– Думаешь, он забудет всё, что ты натворил? Сотрёт из воспоминаний то, что говорил, делал и чувствовал сам? – «Не забудет!»
– Вадим, я понимаю, о чём ты думаешь, но, пойми, мы сами… – Эрик упрямо возражал, но чувствовал, Вадим прав.
– Серьёзно? Может, ты на амнезию рассчитываешь? А что, отличная идея – добиться заключения о недееспособности, взять под личную опеку…
– Что ты городишь?! Соображаешь башкой своей, что несёшь?!
– А ты, милый? Как насчёт тебя? Считаешь, я предлагаю что-то чудовищное? А что предлагаешь ты? Серёжа очнётся, и ты ему скажешь, что всё хорошо? Ты любишь его, просишь прощения, готов обменяться клятвой верности? Может, и колечко по дороге прикупить? Нужен круглосуточный ювелирный? Я подскажу!
– Прекрати паясничать! Да, я скажу, что люблю его, что всё будет хорошо…
– А он тебя спросит: «А как же Саша, Эрик?» И что ты ему ответишь? Ответишь, что Саша дожидается вас обоих в твоём уютном семейном гнёздышке с пирожками, с метлой наперевес и в стрингах? Или попросишься пожить у Серёжи, пока не придумал, как избавиться от своего охамевшего вдрызг и влюблённого по уши квартиранта? Это ты Томашевскому скажешь?
– Мы разберёмся.
– Так не забывай, ты сам мальчишку к себе жить позвал, сам прилюдно поощрял его притязания и, если слухи не врут, не только трахал во все дырки, но и в любви признавался!
– Вадим, прекрати!
– Нет-нет, не торопись, проследи мою мысль до конца! Ты выставишь мальчишку за дверь, да? Рассчитываешь на его молчание? Только с какой стати ему, опозоренному, молчать? Сомневаюсь, что благородство Равацкого передалось ему по наследству. Тебе терять нечего, а вот Томашевского он с особым удовольствием смешает с грязью.
– Я устал повторять, мы разберёмся с этим сами, Вадим.
– Рано ты ухватился за это «мы». Есть проблемы, с которыми должен разобраться именно ты, не примешивая Серёжу. Ему и так досталось! Побереги его, в конце концов! – так похоже на просьбу.
– И что ты предлагаешь? Снова бросить его одного? У него никого, кроме меня, нет. Я нужен ему прямо сейчас.
– Прямо сейчас ему нужен аппарат искусственной вентиляции лёгких, контроль сердечного ритма и поддерживающие препараты. А кто конкретно привезёт запасные трусы и тапочки, это пока без разницы.
«Он прав».
– Поэтому отправляйся-ка ты к себе и разбирайся со своими проблемами, а пакет с вещами давай сюда, я его сам отвезу.
Эрик молча протянул пакет.
====== “Свободные отношения” – Глава 19 ======
«Вышел из комы ночью там, где Храм на крови без крова,
Капельницы в клочья, жить начинаю снова…»
Шевчук Ю. – «Новая жизнь»
Ему снова снилось то утро, когда он потерял Эрика.
Ощущал, как наяву, будто чьи-то безжалостные, неумолимые руки вскрывают грудную клетку – сперва страшно и медленно, как в фильме ужасов, занося в воздухе сверкающую металлическими бликами циркулярную пилу, а затем, так же медленно опуская, вонзают, погружают адскую машину в плоть, вздымая фонтанами капли крови, крошки костей, хрящей и внутренних органов, перерезая бронхи, вскрывая вены и артерии, выворачивая рёбра – всё, лишь бы добраться до скрытого под ненадёжной бронёй, больного, трепещущего в немом страдании сердца.
«Я тебя любил».
«Уходи».
«Ключи…»
Кончена пытка, сердце вынуто. Сосуды склеены, лёгкие запущены снова, мышцы и кожа накрепко сшиты тупой, кривой иголкой да суровой ниткой – будь любезен, существуй. Было у тебя сердце, а теперь – нет, и не будет уже. Но ты всё же поднимайся, не пробил твой час, покуда упрямо функционирует мозг и заставляет смотреть, дышать, думать, говорить, шевелить руками и ногами.
Мало ли на белом свете живёт людей, лишённых сердца? Мало ли людей, никогда его и не имевших? Мало ли на свете людей, не познавших любви? Много их – так много, что живут веками и не умирают сказки о верной любви и преданной дружбе. И верят наивные, доверчивые создания, что нет на свете чувства прекраснее, а на самом деле… Не познаешь любви – не познаешь и настоящего страдания души.
Ему снова снился тот день, когда он действительно потерял его навсегда. Он думал, что боль эта жуткая, если не убила сразу на месте, то непременно убьёт искреннее «ненавижу!», сказанное в глаза самым дорогим человеком на свете. Он думал, не доживёт и до вечера – просто сядет на свое роскошное директорское кресло, закроет глаза и сдохнет в корчах. Он и сел, по-прежнему сдавливая ладонью рёбра в проекции сердца, точнее, того места, где раньше билось оно, а теперь скручивалась ноющая, острая боль. И снова ничего не произошло. Даже во сне жгучие спазмы перебивали дыхание, слёзы кипятком обдавали переносицу изнутри, ослепляли, но ни единой каплей не просачивались наружу, и веки сухие, будто мелким песком присыпанные, царапали воспалённую роговицу.
Ему снова снилось, как он, переборов эти бесплодные рыдания, познал настоящий покой – абсолютное безразличие человека, у которого внутри нет ничего, кроме пустоты. Без наркоза выпотрошенный его откровением, он не перестал быть, но потерял всякий интерес к бытию.
Ему снилось ледяное равнодушие, серые, суетные будни и чёрные ночи, наполненные бредом, пошлыми вскриками из-за стены, едва перекрытыми бормотанием бесконечных мультиков в телевизоре.
Ему снилась бесконечная работа, нудная, тягостная, без начала и конца, которая превратилась из любимого дела в тяжёлую трудовую повинность.
Ему снился неясный шёпот и смешки за спиной, снился его злой, ускользающий взгляд, снились насквозь, до звона, промёрзшие сосновые стволы, синие тени и кислотно-оранжевый свет фонарей, снежная пелена и коченеющие без перчаток пальцы.
Ему снился мальчишка, жестокий и беспечный, как сама юность, который занял его место, украл его счастье, воплотил его мечту, отобрал весь мир и желание жить.