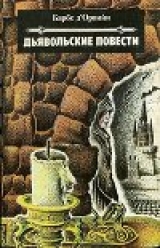
Текст книги "Дьявольские повести"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
– О! – вырвалось у нее с невыразимой горечью. – Я не ошиблась. Я все угадала точно. На ней маска.
Трагические слова, которые выражали для нее нечто страшное и которых Ластени, девственная Ластени, не поняла бы, даже если бы услышала их!
Поставив на ночной столик лампу, которую держала в руке, и не сводя глаз с дочери, г-жа де Фержоль повторила:
– Да, на ней маска!
И внезапным яростным движением она, как молот, подняла распятие над лицом дочери, чтобы раздавить ту маску, о которой говорила. Но это длилось лишь мгновение. Тяжелое распятие не упало на спокойное лицо уснувшей девушки, но – что не менее ужасно! – отчаявшаяся женщина повернула его и обрушила на собственное лицо! Она ударила сильно, ударила с неистовством покаяния, на которое обрекла себя в своем свирепом фанатизме. Брызнула кровь, и шум удара разбудил Ластени, издавшую крик при виде внезапного света, хлынувшей крови и лица, по которому мать била себя крестом.
– А, теперь ты возопила! – с раскатом отвратительной иронии в голосе воскликнула г-жа де Фержоль. – Ты не возопила, когда нужно было вопить. Ты не возопила, когда…
Но тут, вся растерзанная, она запнулась из страха перед тем, что собирается сказать, и как бы встав на дыбы перед собственной мыслью.
– О притворщица! – продолжала она. – Лицемерная дочь, ты сумела обо всем умолчать, все спрятать, все утаить. Ты не возопила, но твой грех вопиет на твоем лице, и это услышат все, как услышала я. Ты не знала, что существует маска, которая не обманывает и все выдает, и эта маска-обвинительница – на тебе.
Растерянная, перепуганная, ничего не понимающая в словах матери, Ластени, вероятно, сошла бы с ума от этой дикой ночной сцены, так неожиданно разбудившей ее, если бы девушку не спасла от помешательства потеря сознания; но без всякого сострадания к этому, ею же вызванному, обмороку г-жа де Фержоль оставила дочь в беспамятстве на подушках и, сжав обеими руками распятие, упала на колени.
– Прости меня, Господи! – вскричала она, лобызая ноги Распятого и раздирая себе губы о гвозди. – Прости мне грех, который я разделяю, потому что слишком мало пеклась о ней. Я уснула, как Твои нерадивые ученики в саду Гефсиманском. И лукавый подкрался, когда я спала.
Она опять принялась бить себя по груди, и кровь заструилась с новой силой.
– Да будет крест Твой орудием моей казни, Господи Боже, грозный Судия!
Не помня себя, раздавленная мыслью о своем грехе и вечном осуждении, она осела и рухнула на пол перед застывшим на кресте Христом, принимающим в объятия спасенный мир, подобно ее собственным застывшим рукам; но ее руки не простерлись к Богу, правосудию Его, не обратились с любовью к Кресту, а бросили полумертвой родную дочь, чтобы устремиться только к небу!
6
Когда Ластени пришла в себя, мать ее в изнеможении лежала на полу спальни, прижавшись лицом к распятию. Движение, сделанное девушкой, к которой вернулось сознание, и вырвавшийся у нее стон вывели г-жу де Фержоль из подавленного состояния; она встала и, с окровавленным лицом поднявшись во весь рост над дочерью, властно потребовала:
– Ты все мне скажешь, несчастная, я хочу все знать. Я хочу знать, кому ты отдалась в этой пустыне, где мы живем, как две затворницы, и где нет мужчины, достойного тебя.
Ластени опять вскрикнула, но, не в силах ответить, лишь тупо и ошеломленно уставилась на мать.
– Ну, довольно молчать, довольно лгать, довольно ломать комедию! – прошипела г-жа де Фержоль. – Не прикидывайся изумленной, не прикидывайся дурочкой! – добавила жестокая мать, которая была уже не матерью, а судьей, и таким, что готов стать палачом.
– Но, матушка! – вскрикнула бедная девочка и, возмущенная такой безмерной жестокостью и несправедливостью, разрыдалась от страха и обиды. – В чем я провинилась? За что вы гневаетесь на меня? Я ничего не знаю. Я слышу от вас ужасные слова, но ничего не понимаю, ничего. Вы убиваете меня. Вы сводите меня с ума, и, может быть, то же происходит с вами – так страшны ваши речи и окровавленный рот.
– Пусть он кровоточит! – перебила ее г-жа де Фержоль, ударив себе в лоб неистовым движением тыльной стороны руки. – Он кровоточит из-за тебя, негодяйка! Только не тверди мне, что ты ничего не понимаешь. Лжешь! Ты прекрасно знаешь, что с тобой. Когда это приходит, любая женщина это знает: стоит ей взглянуть на себя – и она сразу всё поймет. А, теперь я больше не удивляюсь, почему ты в тот вечер не пожелала пойти к исповеди!
– Матушка! – в отчаянии вскричала Ластени, внезапно уловившая смысл низкого обвинения, брошенного ей матерью. – Вы же прекрасно знаете: то, что вы имеете в виду, невозможно. Я больна, мне нехорошо, но мое недомогание не может быть той гнусностью, о которой вы думаете. Я же не вижусь ни с кем, кроме вас и Агаты. Я не расстаюсь с вами.
– Ты одна ходишь гулять в горы, – бросила г-жа де Фержоль с безжалостной недоверчивостью.
– О! – охнула девушка, уязвленная подобным подозрением. – Вы убиваете меня, матушка. Ангелы небесные, сжальтесь надо мной! Вам-то ведомо, что я такое!
– Не призывай ангелов, оскверненная! Ты отпугнула их. Они тебя больше не слышат! – отрезала г-жа де Фержоль, упрямо и слепо не веря невинности, заявлявшей о себе с таким простодушием и отчаянием. – Не отягчай ложь богохульством! – продолжала мать, наливаясь все большей яростью, и грубо добавила страшные в своей обыденности слова: – Ты брюхата, ты погибла, бы обесчещена. Отпирайся не отпирайся – какая разница! Сколько ни лги, ребенок родится и уличит тебя. Ты обесчещена, ты погибла! Но я хочу знать, с кем ты погубила себя, с кем утратила честь! Отвечай немедленно – с кем? С кем? С кем?
Повторяя это, она схватила дочь за плечи и встряхнула с такой силой, что вновь опрокинула ее на подушку, и слабая девочка упала на нее, став бледнее наволочки.
Ластени (за столь краткий срок!) уже вторично лишилась чувств, но жестокая г-жа де Фержоль и в этом случае выказала сострадания не больше, чем раньше. Теперь, когда она попросила у Бога прощения за грех дочери и собственное нерадение в присмотре за ней, она в своем материнском гневе готова была топтать Ластени ногами. Усевшись в изножье кровати девушки, которую уже дважды довела чуть не до смерти, г-жа де Фержоль предоставила Ластени приходить в чувство, как та сумеет. И это длилось долго! Ластени потребовалось много времени, чтобы опамятоваться. Гордость, которую религия не укротила в г-же де Фержоль, переворачивала сердце этой знатной и от природы столь надменной женщины, стоило ей – о, невыносимая мука! – подумать, что какой-то безвестный мужчина, может быть простолюдин, сумел тайком обесчестить ее дочь. И она хотела знать, кто этот мужчина. Когда Ластени открыла глаза, она увидела мать, почти приникшую к ее губам, как будто в надежде услышать или вырвать роковое имя.
– Имя! Имя! – алчно повторяла она. – Знай, лицемерная дочь, я вырву у тебя это проклятое имя, даже если мне придется проникнуть в твое чрево, где зреет его ребенок.
Но Ластени, раздавленная ужасами этой ночи, не отвечала матери и лишь глядела на нее большими пустыми и, казалось, мертвыми глазами.
Эти прекрасные глаза цвета ивы так и остались с тех пор безжизненными: никто уже не видел в них блеска, даже когда они увлажнялись слезами, а слезы им пришлось лить ручьем. Ни в эту ночь, ни потом г-жа де Фержоль не вырвала у дочери никаких признаний, и с этого времени для несчастных матери и дочери началась адская жизнь, которой нет подобных в волнующих и трагических ситуациях самых мрачных историй. Это действительно была безымянная история, обжигающе холодная схватка двух женщин одной крови и вдобавок любивших друг друга, никогда не расстававшихся и всегда живших вместе, но не ставших близкими людьми, которых соединяли бы доверие и самозабвение. О, теперь они дорого расплачивались за обоюдную сдержанность и самососредоточенность, в которых жили до этого. Им пришлось жестоко раскаяться! То была глубокая драма, столкновение двух душ, долгое и скрытное, причем скрытность его приходилось все время усугублять даже при Агате: служанка тоже не должна была знать о позорной беременности, секрет которой г-жа де Фержоль страстно желала бы упрятать на сто сажен под землю в отличие от Ластени, покамест не верившей, что она действительно в тягости. Испытывая незнакомые ощущения, девушка воображала, что терзается каким-то неизвестным недугом с обманчивыми симптомами, а мать ее пребывает в чудовищном заблуждении. Она страдальчески защищалась от материнских оскорблений. Она не склоняла голову под позорными пощечинами упреков. Ее оружием было возвышенное упорство невинности. И поскольку она была не похожа на свою страстную, деспотичную, неукротимую мать, которая на месте Ластени рычала бы как львица, она лишь отвечала с кротостью агницы, подставляющей горло под нож.
– Как вы будете в свой день раскаиваться, матушка, что заставили меня столько страдать!
Однако день, о котором она говорила, все не наступал, но сколько тем временем утекло дней у этой немилосердной матери, не знающей прощения, и дочери, почитавшей за честь не домогаться прощения. Шли дни – долгие, нелюдимые, изъязвленные, черные. Но среди них был один, еще более безнадежный, чем остальные, которого Ластени не ожидала, – тот, когда она ощутила внутреннее содрогание, то, что счастливые матери называют «первым толчком пяточки» ребенка, возвещающим о том, что он живет и, быть может, когда-нибудь принесет родительнице горе. Вот тогда злополучная девушка поняла, что заблуждалась она, а не ее мать.
Они, как обычно, сидели друг против друга в амбразуре своего окна, занимая работой лихорадочные пальцы и снедаемые одной и той же мукой. Серый, хотя светлый и свежий, день, как сквозняк через щель, просачивался через дыру, образованную где-то высоко в небе конусообразно сходящимися вершинами гор, и луч, словно нож гильотины, падал на склоненные шеи женщин в глубине немого зала.
Внезапно Ластени схватилась рукой за бок, издав непроизвольный крик, и по этому крику, а еще больше по невыразимому отчаянию, залившему и без того глубоко искаженное лицо дочери, мать, словно читавшая, что творится у той в душе, все угадала.
– Почувствовала его, да? – спросила она. – Он пошевелился. Теперь ты в этом уверена и не станешь попусту притворяться, упрямица. Больше ты не повторишь «нет», свое дурацкое «нет»! – И она положила руку на то место, за которое схватилась Ластени. – Но кто его туда пристроил? Кто? – пылко добавила она.
Г-жа де Фержоль вернулась к постоянному, ожесточенному вопросу, которым снова, как кинжалом, разила бедную девушку, ослепленную, словно вспышкой молнии, внезапным откровением, вырвавшимся из недр ее плоти и доказавшим, что мать ее права. Бессильно опустив руки, чувствуя, как ноги наливаются свинцом от убеждения в бесспорности свалившегося на нее несчастья, Ластени растерянно ответила: «Не знаю», повторив нелепые слова, разом пробуждавшие материнский гнев. Г-жа де Фержоль упорно считала, что рот ее дочери затыкает стыд, но ведь чаша стыда была теперь испита. Беременность подтверждала существование ребенка, который шевельнулся во чреве Ластени под ее рукой.
– Значит, тут скрыто нечто более постыдное, чем твоя беременность, – поразмыслив, решила она. – Ты стыдишься того, кому отдалась, коль скоро молчишь. И ей пришла мысль о капуцине, странном капуцине, которая однажды уже мелькнула в голове, но пришла не как Агате с ее суевериями насчет сглаза, а как женщине, верящей только в колдовство любви: она ведь сама стала когда-то его жертвой. Любовь, которая прикрывается ненавистью или притворной антипатией, а затем внезапно, как молния, обнаруживается через беременность, была для нее чем-то вполне вероятным. Но она отгоняла от себя мысль о таком преступлении, затмевающем для нее любое другое, коль скоро его совершил священнослужитель. Она отгоняла эту мысль не столько из веры в невинность дочери, сколько из почтения к сану человека божия. По собственному опыту она знала, сколь хрупка любая невинность! Однако из любопытства, упорного и непроизвольного любопытства, хотя и устрашенная до того, что не осмеливалась высказать вслух мысль, тайно снедавшую и пронизывавшую ее подобно ледяной стали меча, она вновь и вновь истязала и добивала своим постоянным ожесточенным вопросом доведенную до отчаяния девушку, полумертвую от непостижимости своей беременности и отупевшую до такой степени, что та в конце концов замкнулась в слезах и отчаянии.
Однако ни неисчерпаемые слезы, ни немота забитого животного, в которую впала и в которой пребывала Ластени под неутомимым бичом материнских вопросов, не утолили и не обезоружили раскаленную душу г-жи де Фержоль. Всякий раз, когда мать и дочь оставались одни, допрос с пристрастием возобновлялся. А ведь теперь они почти все время оставались наедине. Вечное пребывание с глазу на глаз двух этих женщин в колоссальном пустом доме у подножия гор, тесная сдвинутость которых словно подталкивала мать и дочь Друг к другу и усугубляла их близость, стало еще более полным, чем раньше. Прежде Агата, эта старая испытанная служанка, которая рассталась с родным краем, чтобы сопровождать похищенную г-жу де Фержоль в ее греховном бегстве, не думая о том каким презрением, может быть, встретят их с хозяйкой на новом месте, часто прерывала эти жуткие бдения вдвоем. Закончив уборку большого дома, она имела привычку шить или вязать в зале, где работали дамы, подчиняясь повседневной монотонной рутине, к которой и сводилось их однообразное существование. Но с тех пор как г-жа де Фержоль проникла в тайну дочернего недуга, она под тем или иным предлогом старалась не подпускать служанку к Ластени. Она боялась проницательных глаз старой верной слуги, обожавшей бедную девушку, и слёз, которые та не могла удержать и которые беззвучно стекали ей на руки в долгие часы работы.
– Ради стыда и всего остального, – твердила мать, когда служанки не было рядом, – сдерживайте слезы при Агате.
Теперь она больше не обращалась к дочери на «ты».
– У вас достаточно сил, чтобы молчать. Найдутся и на то, чтобы не реветь. При всей вашей субтильности, вы девушка крепкая. Пусть вы родились слабенькой – порок укрепил вас. Я – всего лишь ваша мать и наполовину в ответе за ваше преступление, поскольку не сумела помешать вам совершить его, но Агата – честная служанка и будет вас презирать, если хотя бы заподозрит то, что знаю я.
Она настойчиво играла на презрении Агаты, презрении служанки, служившем ей для того, чтобы лучше унизить Ластени и выдавить из нее грузом этого презрения имя, которое дочь не желала назвать. Г-жа де Фержоль знала толк в язвительных словах. Она бы охотно измыслила еще что-нибудь более низкое, чем презрение служанки, и швырнула находку в лицо и душу дочери. Но знай Агата скрываемую от нее постыдную правду, она и тогда не стала бы презирать Ластени, а испытала к девушке только жалость. Презрение надменной души преобразуется нежной душой в жалость, а у Агаты была нежная душа, и годы не задубили ее. Ластени это знала.
«Агата – не то, что моя мать, – думала она. – Она бы не презирала и не винила меня. Она бы меня пожалела». Сколько раз в беде, обрушившейся на злополучную девушку, ее подмывало броситься в объятия той, кого она в годы детства и детских огорчений называла няней. Но мать – вернее, мысль о матери – удерживала ее. Влияние г-жи Фержоль на дочь, и раньше-то непререкаемое, стало теперь устрашающим. Когда Агата бывала с ними, мать цепенила дочь неотрывным взглядом. Агата же, со своей стороны, не смела делиться бродящими в ее голове мыслями, когда глядела поверх очков на двух этих женщин, в молчаливом унынии работавших друг напротив друга.
Мысли ее не изменились, но она предпочитала хранить их про себя с тех пор, как г-жа де Фержоль встретила ее домыслы лишь пожатием плеч. Владелица особняка, чтобы как-то объяснить бледность, обмороки и «нервическую», по ее выражению, слезливость дочери, придумала болезнь, в которой «врач этого невежественного городка ничего не понимал» и по поводу которой она письменно запросила консультацию в Париже. Действительно, проще было не прибегать к врачу, который распознал бы все с первого взгляда, чем отдалить от Ластени суеверную Агату.
К тому же возможно ли было до бесконечности скрывать от нее положение Ластени? Разве оно, и сейчас уже непростое, не разрушает все хитрости г-жи де Фержоль и не станет вскоре настолько явным, не обнаружит себя такими уличающими симптомами, что даже старая дева Агата, которую ее невинность делает близорукой, увидит в конце концов правду?.. Неизбежная необходимость! Г-жа де Фержоль много размышляла об этом. Она чувствовала, что близок день, когда придется либо все открыть Агате, либо устранить ее. Устранить Агату, с которой ее хозяйка никогда не расставалась, чьи преданность и привязанность так глубоко изведала?.. Отослать ее на родину? Не брать другой служанки по причине, побудившей уволить Агату, и, возбуждая подозрения всего городка, почтительного, но любопытного и неблагожелательного, жить вдвоем с дочерью в доме без челяди, на дне горной бездны, словно две души в пропастях ада? Она с ужасом рисовала себе эту перспективу. Неустанно ломала себе голову над устрашающей задачей: «Что с нами будет через несколько месяцев?» Однако ее материнская гордость, усугубляемая природным высокомерием, останавливала ее, вынуждала медлить и мешала принять решение, которое надо было-таки принимать. Эта неизбежность, возмущавшая неукротимую душу г-жи де Фержоль, была чем-то вроде огненной точки, неподвижной и неугасимой, которая росла в ее мозгу расширялась в потемках неотвратимого и с каждым ем все ближе подступавшего будущего. Когда она молчала при дочери, с которой говорила лишь затем, чтобы взять ее за горло вопросом, не получившим ответа, и снова удариться о прекрасный, но ставший отупелым лоб Ластени, она в душе все-таки сопротивлялась признанию, немыслимому для той, кто носит имя Фержолей, – к признанию вины, бесчестившей имя, коим она так гордилась, и она повторяла про себя: «Как же нам быть?»
Г-жа де Фержоль думала об этом в любой час дня и ночи, даже когда молилась. Она думала об этом в церкви, глядя издали на дарохранительницу и опустелый жертвенник, потому что после преступления дочери больше не причащалась, считая для себя, янсенистки, невозможным вкушение Святых даров. Когда в церкви людям казалось, что она углублена в молитву, и она преклоняла колени, опершись локтями на молитвенную скамеечку, побелевшими пальцами вцепившись себе в густые черные волосы, где волнами накатывались теперь седины, появившиеся в дни страданий, она была целиком поглощена проблемой и сомнениями, подтачивавшими и снедавшими ее жизнь. Тревога доводила ее до головокружений, и постоянное беспокойство, к которому примешивалось горе, причиненное ей падением дочери, возбуждало в ней злость и жестокую до свирепости обиду на Ластени.
Но, увы, из двух жертв наиболее злополучной была все-таки девушка. Конечно, г-жа де Фержоль была очень несчастна. Она страдала в своем материнстве, в своей материнской и женской гордости, от своей религиозности, даже силы, за которую иногда платят нестерпимо дорого: у физиологически сильного человека нет такого средства самообличения и умиротворения, как слезы: он душит рыдания, не давая им вырваться наружу. Но в конце концов она была мать, воплощенные упрек и обида, тогда как Ластени – всего лишь ее дочь, предмет вечных укоризн, жертва, которой приходилось до дна пить чашу поношений от матери, за которой стояла теперь ее жестокая правота и которая сокрушала дочь неоспоримой очевидностью ее греха или, по словам г-жи де Фержоль, ее преступления! Кошмарная семейная жизнь, кошмарная для обеих! И разумеется, сильнее всего страдала от этой отвратительной близости именно Ластени. В несчастье бывает минута, когда, как это говорится о счастье, продолжать историю становится невозможно и воображению приходится угадывать то, что нельзя рассказать. Эта минута наступила для Ластени. Она изменилась до неузнаваемости, и те, что так недавно находили ее очаровательной, не отважились бы теперь сказать, что перед ними – прелестная м-ль де Фержоль!
Ластени, этот сладостный чистый ландыш, рожденный в тени гор и потому особенно выделявшийся своей блестящей белизной, теперь внушала страх. Это была уже не шекспировская «лилейная Розалинда»,[424]424
Героиня комедии Шекспира «Как вам это понравится».
[Закрыть] с той самой белизной, что составляет красоту нежных душ. Она стала всего лишь бледной мумией, но тело ее, вместо того чтобы усыхать, как это происходит с мумиями, размягчалось от слез, пропитывалось ими и расплывалось. Она с трудом несла свой отяжелевший стан и ужасно мучилась из-за живота, который все рос и рос. Будь ее воля, она не снимала бы пеньюара, таясь под его развевающимися складками, но мать не позволяла этого. Нужно было ходить в церковь. Мать не допускала тут никаких послаблений и упорно водила ее к службе. Религиозная г-жа де Фержоль, вероятно, думала, что посещение храма благотворно повлияет на виновную и замкнутую душу Ластени. Оно побудит ее открыть свое сердце и перелить то, что скрыто в нем, в сердце матери.
– Вы слишком близки к родам, – толковала она дочери с презрительной суровостью, – чтобы не отправиться молить прощения у Бога в его святом доме.
И, собираясь вести дочь туда, она собственноручно одевала ее: Агата и здесь была отстранена. Перед выходом мать сама окутывала дочери голову толстым вуалем: пусть даже Ластени задохнется, ей, матери, нужно скрыть ту маску, которую она видела и которую вряд ли сумела бы скрыть надежней, если бы то были следы проказы. А ведь прятать приходилось не только лицо! Живот Ластени разом раскрыл бы все самым ненаблюдательным глазам, и потому г-жа де Фержоль сама шнуровала корсет дочери, не боясь затянуть его слишком сильно и сделать ей больно. В том ожесточении, в котором она жила из-за упрямого молчания дочери, г-жа де Фержоль, шнуруя ее, испытывала подчас такой гнев, что ее конвульсивно стиснутая рука нажимала слишком сильно и бедная будущая роженица издавала непроизвольный стон от этого прикосновения.
– Ах! – с ироническим жестокосердием приговаривала мать. – Можно немного и потерпеть, когда приходится скрывать свою вину! – И г-жа де Фержоль с дикой горечью добавляла: – Боитесь, что я его изуродую! Успокойтесь. Дитя греха выдержит все.








