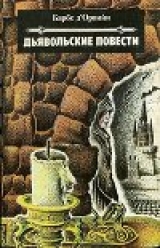
Текст книги "Дьявольские повести"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
7
Однако в разгар этих жестокостей наступил все-таки миг, когда мать, оскорбленная до глубины души, но все же не лишенная жалости, прекратила пытку, которой подвергала дочь. То ли она почувствовала, что, при всей виновности Ластени, наказание чрезмерно, то ли ее тронуло лицо девушки, прежде обворожительное, а теперь уподобившееся раздавленному цветку, то ли это была уловка ожесточенной души с целью выведать тайну слабого создания, впервые в жизни проявившего силу и с невероятной энергией защищавшего скрытую в его сердце тайну?.. Г-жа де Фержоль знала, что такое любовь.
«Она, без сомнения, отчаянно в него влюблена, коль скоро, столь кроткая от природы и столь мало приспособленная к сопротивлению, сопротивляется с такой силой», – подумала баронесса. И вот она внезапно заговорила с дочерью другим тоном. Язвительность ее смягчилась, и г-жа де Фержоль вернулась даже к нежному «ты».
– Послушай, бедное злополучное мое дитя, – начала она, – ты умираешь от тоски, а заодно убиваешь меня. Ты губишь свою душу, а заодно и мою. Блюдя молчание, ты лжешь и вынуждаешь меня участвовать в этой лжи, разыгрывая унизительную комедию каждую минуту, когда приходится исхитряться, чтобы скрыть твой позор, а ведь одно искреннее слово, сказанное тобою матери, могло бы, возможно, все спасти. Одно твое слово, может быть, вернуло бы тебя тому, в чьих объятиях ты уже побывала. Назови же мне имя того, кого любишь. Быть может, он стоит не настолько низко, чтобы тебе нельзя было выйти за него. Ах, Ластени, я кляну себя, что была так сурова с тобой. Я не имею на это права, дочь моя. Я скрывала от тебя свою жизнь. И ты, и остальные знали одно – что я безумно любила твоего отца и что он меня похитил. Но ни тебе, ни свету неведомо, что я, как и ты, моя бедняжка, оказалась виновна в слабости: когда он привез меня в этот край и женился на мне, я уже была в том положении, в каком находишься ты. Супружеское счастье скрыло грех, краснеть за который мне довелось лишь перед ликом Господним. Твой грех, моя бедная дочь, – это, без сомнения, кара во искупление моего греха. Бог прибегает порой и к такому страшному воздаянию. Я вышла за твоего отца. Он был моим богом! Но Господь небесный не терпит, когда ему предпочитают кумиров, и он покарал меня, отняв у меня мужа и попустив тебе стать такой же грешницей, какой была я. Так почему бы и тебе не выйти за того, кого ты любишь – а ведь ты любишь его! Любишь так же безумно, как я твоего отца, иначе ты не молчала бы.
Г-жа де Фержоль умолкла. Как бы ужасна ни была цена этого признания, она его сделала. Мать признала, что равна дочери в грехе. Она не отступила перед унижением – последним оставшимся у нее средством выведать правду, желанием узнать которую она сгорала. Ей, так высоко ставившей идею материнства и почтения, которым дочь обязана матери, пришлось залиться краской стыда перед собственным ребенком. Открыв ей сегодня то, чего не знала ни одна живая душа, о чем никто в мире даже не подозревал и что так удачно прикрылось браком, она унизила себя как мать в глазах Ластени – вот почему она так долго медлила, прежде чем решиться на унизительное признание. Она пошла на него лишь в последней крайности, но мысль о нем вынашивала уже давно. Вот что значило подобное признание для этой могучей души и какое усилие потребовалось, чтобы решиться на подобное унижение в глазах дочери! Но, так или иначе, она укротила себя и сказала то, что должна была сказать.
Однако жертва оказалась бесполезной. Она не растрогала Ластени. Дочь выслушала признание матери, как слушала теперь все – ничего не отвечая: тщетные отрицания исчерпали ее силы. Как мертвый зверь, она была не чувствительна к упрекам, нетерпению, выговорам и гневу г-жи де Фержоль. Точно так же она встретила и ее признание. Быть может, это была отчаянная решимость, быть может, уверенность, то ей все равно не убедить мать в своей невиновности перед неопровержимой уликой – беременностью. Как бы то ни было, нежность, столь нежданно проявленная г-жой де Фержоль, доверие, взывающее к ответному доверию, исповедь в той же, что у дочери, слабости, которая так дорого стоила материнской гордыне перед лицом ее ребенка, не проникла в душу Ластени, которая никогда не раскрывалась перед матерью и которую к тому же доводили до отупения муки ее непонятного состояния. Было уже слишком поздно! Ластени давно предполагала все что угодно, кроме беременности. В городке, где они жили, она слыхала о несчастной, которую сочли брюхатой, публично позорили и бесчестили самыми поносными словами все время ее пребывания в тягости и которая по прошествии девяти месяцев осталась с животом, раздутым от злокачественного отвердения желез; болезнь еще не добила ее, но, конечно, развязка была не за горами. Ластени – какое безумие! – уповала на этот недуг, как уповают на Бога!
«Моя болезнь будет матери наказанием за все, что она наговорила дурного!»– думала девушка.
Но теперь у нее не было и этой страшной надежды. Она больше не сомневалась. Ребенок зашевелился, и эти толчки в утробе пробудили в сердце несчастной нечто похожее на материнскую любовь.
– Девочка моя, твое молчание отныне бесполезно. Ответь матери доверием на доверие, признанием на признание! – почти ласково просила г-жа де Фержоль. – Тебе нечего меня бояться: ведь я когда-то согрешила, подобно тебе, и могу тебя спасти, отдав тому, кого ты любишь, – добавила она.
Но Ластени даже не слышала: голос, обращавшийся к ней, просто не достигал ее слуха. Она была глуха. Она была нема. Мать смотрела на нее в ожидании ответа, который все не слетал с побелевших губ.
– Ну, девочка моя, назови же мне его! – вновь попросила она Ластени, приподняв и ласково потянув на себя одну из ее повисших рук, чтобы привлечь дочь к себе на грудь. Истинно материнское движение, но тоже слишком запоздалое!
Дамы находились в ту минуту в высоком зале, где проводили все время и куда горы, кольцом обставшие этот печальный дом, бросали тень, умножавшую его печаль. Дамы сидели в оконной амбразуре. Ах, кто знает, сколько безмолвных трагедий разыгрывается между дочерьми и матерями в этих оконных амбразурах, где они на первый взгляд так спокойно работают. Ластени, прямая, застывшая и бледная, на фоне темных дубовых панелей стен, напоминала гипсовый медальон. Г-жа де Фержоль склоняла мрачное лицо над работой, а Ластени уронила из безвольных рук свою вышивку на пол и была неподвижна как статуя – воплощение бесконечного отчаяния, словно над нею разверзлись небеса, чтобы ее поглотить! Ее глаза, такие перламутровые, свежие, чистые, буквально потухли от слез, края век набрякли, покраснели и опухли от все увеличивающихся отеков, и эти глаза, побагровевшие так, словно ни источали кровь, не выражали больше ничего – даже безнадежности, потому что девушка постепенно опускалась ниже незыблемой самопоглощенности помешанного: она погружалась в незыблемую пустоту идиотизма.
Мать долго глядела на дочь с жалостью, смешанной ужасом, который вселял в нее распад этого лица. Она никогда не говорила Ластени, что находит ее красивой, но в глубине души гордилась ее красотой, хотя никогда не заводила об этом речь: суровая янсенистка боялась пробудить две гордыни – дочернюю и свою. Сегодня взгляд на это опустошенное лицо надрывал ей сердце. «Ах, – думала она, – эта очаровательная девушка завтра, быть может, станет безобразной и окончательно полоумной». Она уже видела первые проблески отвратительного идиотизма в чертах этого создания, мертвого еще до смерти: считается, что тело умирающего большинстве случаев уходит из мира первым, раньше души, но бывает и так, что оно остается жить, когда душа давно уже покинула его.
Потом для них, сидевших лицом к лицу на четырех квадратных футах, на которых сосредоточилась их жизнь, наступал вечер, спускавшийся на безвестный городок быстро, как на дно колодца, и опять приходило время идти в церковь возносить вечернюю молитву.
– Ступай молиться Господу, чтобы он отверз сердце и уста твои, ниспослав тебе сил заговорить, – сказала г-жа де Фержоль. Но, равнодушная ко всему, даже к Богу, который не сжалился над ней, Ластени не шелохнулась, и г-жа де Фержоль вынуждена была сжать запястье дочери, которая стала теперь просто изболевшейся плотью, и девушка, автоматически подчинясь матери, поднялась с места.
– Смотри-ка! – воскликнула г-жа де Фержоль, поднимая руку Ластени на уровень своих глаз. – У тебя больше нет отцовского кольца. Что ты с ним сделала? Потеряла? Или считаешь себя недостойной его носить?
Обе женщины так погрязли в своей семейной неурядице, что ни та, ни другая не заметили, что кольца давно уже не было на привычном месте.
Ластени, переставшая что-либо вообще понимать, посмотрела на свою руку, бессмысленно раздвинув пальцы.
– Разве я его потеряла? – спросила она, словно приходя в чувство после обморока.
– Да, ты потеряла его, как потеряла себя, – откликнулась г-жа де Фержоль, взгляд которой вновь стал темен и неумолим. – Ты отдала его тому, кому отдалась сама.
И к ней вернулась прежняя ее суровость. Эта женщина, бывшая не столько матерью, сколько супругой, переживала потерю не сбереженного дочерью кольца, которое носил обожаемый баронессой мужчина, гораздо больнее, чем утрату чести дочерью. В тот вечер и в последующие дни Агата обшарила весь просторный дом в поисках перстня: он вполне мог упасть с исхудалого пальца Ластени. Она его не нашла. И это стало еще одной причиной того, что сострадание ни на минуту не возвращалось больше в сердце г-жи де Фержоль и обида ее стала настолько глубока, что уже не смягчалась.
В тот вечер они забыли пойти в церковь.
Если бы они отправились туда, г-жа де Фержоль пошла бы в храм с мыслью, которая упорно вновь и вновь появлялась у нее, а теперь, после непобедимого молчания Ластени, окончательно, как когти хищника, засела в ней.
«Раз она не желает назвать мне виновного, – заключила хозяйка особняка, – значит, не может выйти за него». И тогда ей на ум вновь пришел тот страшный капуцин, мысль о котором леденила ей мозг и чье имя она не смела произнести ни при дочери, ни про себя, когда о нем думала. Ей было страшно назвать не то что его имя – даже буквы, из которых оно складывалось. А уж составить эти буквы и шепотом прочитать их вместе представлялось ей чудовищным святотатством. Чем иным мог быть для нее дурной помысел о духовном лице, монахе, который, живучи под ее кровом, казался ей безупречным! Она трепетала, думая об этом, хотя то, что она думала, было, разумеется, вполне мыслимо с человеческой точки зрения, но она, благочестивая янсенистка, верившая в сверхъестественную благодать таинств, отгоняла от себя возможное, почитая его невозможным в священнике, ежедневно вкушающем кровь и плоть Господню. «О Боже, – восклицала она, молясь, – сделай так, чтобы это оказался не он». Она даже в мыслях именовала монаха только местоимением он. К тому же в какую минуту, спрашивала она, когда пыталась рассеять свои страхи, могло совершиться преступление – преступление не столько против ее дочери, сколько против Господа? Он никогда не оставался наедине ни с одной из двух дам, приютивших его в сорокадневье. Если не считать часов трапезы, он никогда не выходил из своей комнаты, которую превратил в келью. Следовательно, все ее предположения – вздор, безумие! Но мысль, которая осаждала ее и которую она отгоняла как искушение ада, с адским упорством возникала в ней снова и снова, несмотря на явную свою нелепость. Наваждение, галлюцинация, устрашающее видение, в которое она неутомимо вперялась духовным взором, как тот безумец, что не сводил глаз с солнца, пока не выжег их себе лучами всепожирающего светила, но более несчастная, чем он, вскоре ослепший, с двумя кровавыми дырами вместо выжженных глаз, она не ослепла духовно, созерцая страшное внутреннее пламя, которое испепеляло ее, но в которое она постоянно вперялась и которое по-прежнему видела. Кончалось это тем, что она погружалась в молчание, подобное молчанию Ластени. А если ей случалось на минуту отвлечься от этого всепоглощающего наваждения, избавить ее от которого она тщетно молила Бога, перед ней вставала другая, не менее сокрушительная и властная, проблема – мысль об утекающем времени.
В самом деле, оно утекало беспощадно, как всегда утекает время, и вскоре должно было предать огласке позор дам де Фержоль в том городке, где они, окруженные уважением, прожили восемнадцать лет. Роды Ластени приближались. Надо было уехать, скрыться, исчезнуть! В одно прекрасное утро г-жа де Фержоль – сама она ни с кем не общалась – распространила через Агату слух на городском рынке, что она возвращается на родину. Покинуть ненавистный Агате край, одиночку в тюремном подземелье, где она задыхалась, было единственным способом смягчить горе служанки, удрученной непонятным и, может быть, неисцелимым недугом Ластени, которая, по мнению старухи, оставалась во власти беса. Итак, она вновь увидит свой Котантен и его пастбища. Предлогом для отъезда г-жа де Фержоль избрала недомогание дочери. Ей необходимо переменить климат, и мать ее, естественно, отдает предпочтение родному краю, где располагает крупным состоянием. Она привела Агате всевозможные глупые доводы, маскировавшие подлинную нравственную причину отъезда, и Агата, восхищенная возвращением в Нормандию, не задумываясь и не споря, с несказанной радостью встретила решение хозяйки. Она была без ума от мысли, что возвратится в родной край. Но и от Агаты, как от всех на свете, г-жа де Фержоль жаждала скрыть тайну дочери, которая была и ее тайной, поскольку перед судом ее совести беременность Ластени бесчестила мать почти так же, как дочь. С этой точки зрения г-жа де Фержоль без конца обдумывала, как ей скрыть беременность дочери, но о преступном выходе не помышляла. Мысль о нем, то есть об искусственном выкидыше или детоубийстве, которые при наших мерзких нравах сделались такой ужасной повседневностью, что их можно было бы назвать преступлением девятнадцатого века, – мысль о нем даже не возникала в этой сильной, прямой и верующей душе.
За этим исключением, г-жа де Фержоль билась и ранила себя обо все углы грозной проблемы. Она составила и отбросила сотни планов. Она могла бы, например, уехать с дочерью в огромный Париж, где так легко затеряться и исчезнуть, или в какой-нибудь заграничный город и вернуться лишь по разрешении Ластени от бремени. Она была богата. При деньгах, больших деньгах можно спасти все, даже видимость приличий. Но как оправдать в глазах Агаты отъезд с больной дочерью бог весть куда без старой и преданной служанки, с которой в самый важный и опасный момент жизни – в день похищения – признательная г-жа де Фержоль обещала не разлучаться, что бы ни случилось? Она поклялась ей в этом. К тому же, пойди она даже на такую неблагодарность, это, несомненно, вселит в Агату подозрение, которым г-жа де Фержоль ни за что не хотела осквернять дочь в глазах тех, кто, видя чистую жизнь Ластени, почитал ее ангелом невинности. Вот тогда-то ей и пришла мысль о возвращении в Нормандию, и она остановилась на этой мысли. Она подумала, что после двадцатилетнего отсутствия она там прочно забыта, что те, кто знавал ее в юности, поумирали или поразъехались, и сказала себе: «Там мы затеряемся. Агата, опьяненная радостью возвращения, не заметит того, что должно остаться между мною и Ластени. Мы отгородимся от нее стеной волнения от встречи с родным краем».
Г-жа де Фержоль приняла во внимание, что новое одиночество, которого она так добивается, будет совсем иным, чем в севеннском городке. В Нормандии она обоснуется не в городе, городке или деревне, а в собственном старом замке Олонд, расположенном в забытом Богом уголке между побережьем Ла-Манша и одной из оконечностей полуострова Котантен. В те времена туда не вела ни одна шоссейная дорога. Замок охранялся скверными проселками с глубокими колеями, а известную часть года еще и северо-западными нагоняющими дождь ветрами, словно это здание среди затерянных тропок воздвиг некий мизантроп или скупец, ненавидевший посетителей. Там, как кроты под землей, они обе похоронят свой позор. Решительная г-жа де Фержоль дала себе слово, что даже в последний и судьбоносный миг не позовет врача: на все хватит ее самой, она сама выполнит священную обязанность и материнскими руками примет роды у дочери. Но тут все естество этой героической и несчастной женщины начинало содрогаться и из недр его вырывался вопль:
– Ну, а дальше-то, дальше что? Она разрешится ребенком, и прятать придется уже не мать, а дитя, чья жизнь сама по себе обвинение, сводящее на нет все прежние предосторожности.
И вновь она начинала биться над задачей, которую тщилась решить и которая душила ее, как петля. Но времени для колебаний больше не было. Срок приближался с каждым днем, как волна за волною подступает прилив. Ждать было дальше нельзя. Как можно скорее нужно уехать, вырваться из наблюдавшего за ними городка!
Как все отчаявшиеся люди, г-жа де Фержоль не рассуждала: она не знала, как спастись от гибели, – любой ее шаг только отдалит неизбежную катастрофу. Как все в таких случаях, она твердила себе пустые слова, утешая ими себя и не веря в них: «В последнюю минуту все как-нибудь образуется» – и, словно в пропасть, бросилась вместе с дочерью в почтовую карету, которая их увезла.
8
Эта безымянная история таинственного семейного несчастья, свалившегося неизвестно как и откуда на двух женщин, скрытых как бы в тени глубокой пропасти, но все равно видных взору Судьбы, развертывалась во мгле другой тени, накладывавшейся на первую и сгущавшей ее. Это была тень вулкана, который внезапно разверзся под ногами Франции и в кратере которого частные беды на мгновение сплавились в общей беде. Когда г-жа де Фержоль покинула Севенны, разразившаяся уже Революция не зашла еще так далеко, чтобы поездка двух дам в Нормандию могла вызвать подозрения и наткнуться на препятствия, что непременно случилось бы позднее. Поездка, хотя и в почтовой карете, оказалась долгой и мучительной. Ластени так страшно страдала от толчков кареты, которая трясла и выматывала ее на дорогах, бывших тогда далеко не такими, какими они стали с тех пор, что, к унижению почтальонов, в те времена еще лихих, им приходилось каждый вечер останавливаться не для простой смены лошадей, а на ночевку и возобновлять путешествие лишь на следующее утро. «Плетемся, как катафалк», – презрительно ворчали они, но в словах их было больше правды, чем они предполагали: их рыдван вез полумертвую Ластени. Бледная, вздрагивающая при каждом столкновении грубой почтовой кареты с булыжником дороги, она все время пребывала в предобморочном состоянии. Бес, вечно улавливающий из незримой засады даже самые лучшие и сильные души, тут же молниеносно пронзил мозг г-жи де Фержоль зловещим желанием. «Если б у нее случился выкидыш!»—думала она, но добродетельная женщина подавляла в себе греховный помысел. Она подавляла его с отвращением к себе: как мог он у нее зародиться?
В карете мать и дочь были еще ближе, чем в вечной оконной амбразуре, но разговаривали они не больше, чем там… Что еще им было сказать друг другу? Они уже все сказали. Повергнутые в тоску и поглощенные собою, ни та, ни другая ни разу не высунулись из экипажа, чтобы развлечь на ходу взгляд каким-нибудь пейзажем или мало-мальски любопытным предметом, Их ничто больше не интересовало. Они проводили долгие часы дневных перегонов в молчании, гораздо худшем, чем перебранка, не испытывая сострадания друг к другу, – обеих ожесточила нестерпимая обида обе питали взаимное озлобление: одна – из-за того, о не сумела ничего вытянуть из упрямой и глупой девчонки, хотя та была ее дочерью и сидела с нею колено к колену; вторая – из-за всего, что думала о ней мать, ее несправедливая мать. Долгая поездка по Франции оказалась крестным путем в полтораста лье для обеих… и для Агаты, как та ни радовалась возвращению на родину, потому что служанка откликалась на любое страдание Ластени. Она придерживалась все того же мнения о неизвестном недуге ее «голубки»,
от которого не спасают людские лекарства и от которого, на ее взгляд, было только одно верное средство – изгнание бесов. Однажды она даже попыталась убедить в необходимости этого г-жу де Фержоль, но та. неколебимая в своей вере, отклонила ее совет, что показалось вовсе уж непостижимым благочестивой Агате. Однако по прибытии в Олонд она дала себе слово настоять перед хозяйкой на том, что предлагала. Нормандка, она сохраняла все культовые пристрастия родных краев. Одним из самых древних таких пристрастий, поскольку оно восходит к Людовику Святому,[425]425
Людовик IX Святой (род. 1213) – король Франции в 1226–1270 гг.
[Закрыть] там является почитание присноблаженного Тома де Бивиля, исповедника этого короля. Агата вознамерилась отправиться босиком к гробнице святого человека, который исцелением Ластени умножит число совершённых им чудес, а уж если не поможет и он, она обратится к духовному наставнику девушки и попросит изгнать из бедняжки бесов. Невзирая на свою полную и доказанную преданность баронессе и фамильярность в разговорах с ней, Агата была не очень-то смела с властной хозяйкой, умевшей затыкать ей рот одним словом, а то и просто молчанием. Впрочем, власть этой надменной души над другими как раз и объяснялась ее способностью охлаждать симпатию, вселяя чрезмерное почтение к своей особе, и отправлять обратно на небо божественное Доверие, когда оно, раскрывая объятия, излетало с горних высей на землю.
Наконец, после многодневной поездки, они добрались до Олонда. Если что-нибудь и могло расшевелить оцепеневшее воображение мрачной и еле живой Ластени, то это был радостный, сияющий день, хлынувший на путниц по выходе из кареты, которая во время путешествия казалась им гробом. Эта сверкающая веселость погожего зимнего утра (шел январь), какого они никогда, даже весной, не видели в Форе, этом горном гроте, где скупой свет падал сверху, словно сквозь отдушину, восхитительно затопила бы душу девушки, будь ее душа еще настолько жива, чтобы испытать благотворное влияние внезапного и могучего светового душа. На ясном солнце этого дня, составившего исключение в одном из тех дождливых девятидневий,[426]426
Девятидневье – у католиков серия молитв по обету, продолжающаяся девять дней; в переносном смысле – ряд однообразных, скучных дней.
[Закрыть] как выражаются у нас на Западе, где так часты непогоды, особенно отчетливо выделялись бесконечные просторы полей, зеленеющих подчас даже зимой, и сверкали изумрудные искры неувядающей промытой дождями и продутой ветром листвы падубов в живых изгородях. Нормандия – это зеленый Эрин[427]427
Зеленый Эрин (ныне Эйре) – Ирландия.
[Закрыть] Франции, но (в отличие от другого Эрина) ухоженный, плодоносный, тучный и достойный носить цвет счастливых и победоносно осуществленных чаяний, в то время как злополучный английский Эрин вправе притязать лишь на ливрею безнадежности.[428]428
В XIX в. борьба за освобождение Ирландии достигла особой остроты: в мае 1882 г., как раз в год написания данной повести, в Феникс-парке в Дублине были убиты фениями (ирландскими революционерами) английский министр по делам Ирландии Кэвендиш и его помощник Бэрк.
[Закрыть] К несчастью, перемена климата благотворно подействовала только на Агату. Баронесса, которая, покинув в глухом уголке Севенн могилу мужа, вырвала последний корень, связывающий ее с этой землей, где она хотела быть похороненной в свой черед, вся сосредоточилась на мысли о том, как любой ценой спасти честь дочери, – баронесса осталась столь же невосприимчива к красотам края, что и страдалица Ластени, превратившаяся в колыбель ребенка, возникшего так же загадочно, как некое злокачественное отвердение желез, в коем она долго видела свою надежду.
Увы, и та, и другая стали нечувствительны к внешней красоте природы. Обе во всех смыслах утратили свою былую натуру и с ужасом это сознавали. Они еще любили друг друга, но ненависть, непроизвольная ненависть уже цедила отраву в эту неизжитую и спрятанную в глубине сердца любовь, горькую и взбаламученную, как источник, мутный от яда. Баронесса с дочерью, одержимые овладевшими ими чувствами, обосновались в замке Олонд, своем убежище, со слепой беззаботностью людей, утративших связь с повседневной жизнью. Последняя воплощалась для них в Агате. Старая дева, помолодевшая и обновленная встречей с отчим краем и красотой его, вновь с восторженной жадностью пившая родной, насыщенный кислородом любви воздух, одна справлялась со всем, избавляя хозяек от домашних забот. Она была связующим звеном между миром и этими женщинами, которые явились в заброшенный замок, не предупредив округу, где они не хотели ни с кем знаться. Агата в одиночку привела в жилой вид обветшалый, почти разрушенный замок, в котором она все знала наизусть и который напомнил ей молодость. Ставни она оставила наглухо закрытыми, зато распахнула почерневшие и заржавленные окна за ними, чтобы немного проветрить помещения, где, как она выражалась, пахло цвелью. Цвель на нормандском диалекте означает плесень, следствие сырости. Она выбила и вычистила мебель, хотя та трещала и рассыпалась от ветхости. Она раскрыла шкафы с бельем, слипшимся и пожелтевшим за столько лет, и застелила кровати простынями, которые прогрела во избежание той схожести их с саваном, что ощущает тело под старыми простынями, слишком долго хранившимися без употребления в шкафах. Несмотря на возвращение в замок трех человек, внешний вид его не изменился. Крестьянам, проходившим мимо и обращавшим на него не больше внимания, чем если бы его вовсе не существовало, он по-прежнему казался местом, где души живой не слышно. Они давным-давно привыкли к нему, к его заделанным косым проемам, придававшим жилью все тот же облик отлученного, как говорили местные жители, пользуясь глубоким и зловещим церковным термином давних времен, и привычка не замечать его отбила у них всякий интерес к странному зданию, пораженному схожим со смертью забвением.
Олондские фермеры жили недостаточно близко от хозяйского замка, чтобы знать, что происходило там после тайного приезда дам де Фержоль. Агату, которой было сорок, когда она исчезла вместе с похищенной м-ль д'Олонд, двадцать лет отсутствия изменили настолько, что ее никто не мог узнать на окрестных рынках, куда она по субботам отправлялась за провизией. Среди старых крестьянок она была единственной, кто расплачивался за покупки наличными, после чего она одиноко возвращалась в Олонд, не обмолвившись ни с кем ни словом. У нормандских крестьян неразговорчивость вызывает уважительную ответную неразговорчивость. Они настолько подозрительны, что раскрываются не раньше, чем собеседник сделает первые попытки пообщаться. К тому же за то короткое время, что оставалось до развязки нашей истории. Агата не встретила ни одного любопытного, который смутил бы ее каким-нибудь вопросом: в этом краю каждый занят лишь собственными делами. Дороги, которые вели в Олонд, почти всегда были безлюдны, потому что замок отстоял довольно далеко от шоссе, идущих мимо него прямиком к деревням Денвиль и Сен-Жермен-сюр-Э. Домой служанка возвращалась не через ворота в большой заржавленной решетке, забранной изнутри щитами, полностью маскировавшими парадный двор, а через низенькую калиточку, скрытую в углу садовой стены по другую сторону замка. Прежде чем вставить ключ в скважину, осторожная Агата оглядывалась по сторонам, как воровка. Но это была излишняя предосторожность. Никогда на этих разбитых тропах, где одноколки увязали в колеях по самые ступицы, она не замечала ничего подозрительного.
Выполняя данное себе слово, баронесса зажила там в еще более полном одиночестве, чем в Форе. Это было не просто уединение: это была тюрьма вдобавок к уединению. Ластени, послушная Ластени, которая дрожала перед матерью и с детства покорялась любым решениям ее деспотичной натуры, и теперь не восстала против глубокого одиночества, которое навязала ей энергичная воля баронессы. Понятие чести в светском его толковании занимало меньше места в ее девственном невежественном и ослабевшем мозгу, нежели в сознании ее матери. Захлебнувшаяся в слезах, душа ее превратилась в податливую глину, мнущуюся под крепкими пальцами такой ваятельницы, перед которой не устоял бы и мрамор. Что до Агаты с ее фанатической привязанностью к девушке, которую она просто была не способна заподозрить в том, что невинность ее осквернена, она нисколько не удивлялась такому чудовищному и таинственному удалению от людей. Она находила вполне естественным желание баронессы скрыть состояние Ластени, которой не следовало показываться в таком полном упадке на родине своей матери: нельзя, чтобы о г-же де Фержоль говорили: «Вот что принесло гордой м-ль д'Олонд ее скандальное похищение!» К тому же Агата не забыла о своем сверхъестественном лекарстве для Ластени и все время размышляла о паломничестве к гробнице присноблаженного Тома де Бивиля и о последующем экзорцизме, если присноблаженный не вонмет молитве над его гробницей. Это была последняя надежда души, полной простодушной веры, а вера всегда простодушна. Баронесса не встретила ни препятствий, ни возражений со стороны дочери и старой служанки, без которой она не сумела бы создать для себя монашеское существование. Действительно, Олонд был монастырем на троих, только без капеллы и богослужения, что еще более отягчало и мучило совесть баронессы. Даже под вуалем она не могла ходить к мессе в соседние приходы: оставлять Ластени хоть на минуту в последний месяц тревожного ожидания было слишком опасно.
«Мне придется принести ей в жертву даже свои религиозные обязанности!»– огорчалась она: буква закона для этой янсенистки всегда значила больше, чем сам закон. «Моя дочь обрекает на вечную гибель нас обеих», – сокрушалась она в своей неистовой и экзальтированной праведности. И нужно понять это религиозное чувство, чтобы отдать себе отчет, как отчаянно терзалась совестью эта сильная женщина. Поймет ли читатель его? Сомневаюсь… Этот дом без монахинь и капеллы, который за царящее в нем одиночество я сравнил с монастырем, вскоре стал для нее и Ластени столь же тесен и душен, что и карета, производившая на них во время поездки впечатление гроба. К счастью (если подобное слово может быть употреблено в такой надрывающей сердце истории), этот дом-гроб был достаточно просторен, чтобы в нем физически можно было существовать. Стены сада, за которым долгое время не ухаживали, были достаточно высоки, чтобы скрывать обеих отшельниц, когда им требовалось хоть на несколько минут выйти наружу, чтобы не задохнуться в пустоте, как умершая за четырнадцать месяцев от самоудушья энергическая принцесса Эболи,[429]429
Обстоятельства смерти принцессы Эболи заимствованы Барбе д'Оревильи из какого-то легендарного источника. Ана де Мендоса и Ла Серда (1540–1592), долго игравшая видную роль при дворе Филиппа Испанского (1356–1598) и его любовница, была приговорена к тюремному заключению, где и провела до смерти более 12 лет.
[Закрыть] заточенная по приказу Филиппа II в камере с зарешеченными и запертыми на замок окнами и вынужденная дышать лишь воздухом, который выдыхала и который возвращался обратно ей в грудь. Страшная казнь!.. Но через несколько дней Ластени перестала даже выходить. Она предпочитала лежать у себя в спальне на кушетке, где ночью ее место занимала мать, потому что баронесса всегда была рядом, как тюремщик, и даже хуже, чем тюремщик, потому что в заключении не всегда остаешься наедине со своим стражем, тогда как Ластени жила вместе с ним, теперь безмолвным, но вездесущим и безжалостным в своем упорном безмолвии. Баронесса приняла решение, отлично живописующее душевную ее твердость. Она больше не говорила дочери ни слова. Ни в чем ее не упрекала. Она, такая сильная, почувствовала, что не может победить эту слабую девушку, и все слова отскакивают от дочери назад и хлещут ее же по сердцу. Увы, это молчание всю жизнь занимало слишком большое место в общении двух женщин. Теперь оно стало молчанием двух мертвецов, но живых мертвецов, запертых в одном гробе, которые вечно и безмолвно видели и касались друг друга между четырьмя стиснувшими их досками. Это мрачное обоюдное молчание было самой нестерпимой из их пыток. Дыхание души человеческой – это не молитва, как утверждает Сен-Мартен.[430]430
Сен-Мартен, Луи Клод, маркиз де (1743–1803) – французский мистик, прозванный Неизвестным философом.
[Закрыть] Нет, это выражение чувства в целом, что бы оно ни передавало – любовь или ненависть, проклятие или благословение, молитву или богохульство. Поэтому приговорить себя к молчанию – это все равно что приговорить себя задыхаться, но не мочь умереть от удушья. Мать и дочь по своей воле и от отчаяния осудили себя на это. Их обоюдное молчание было палачом для каждой из обеих. Баронесса де Фержоль, глубокой веры которой никто не мог поколебать, говорила хотя бы с Богом: она бросалась на колени перед дочерью и тихо молилась. Но Ластени больше не молилась, говорила с Богом не больше, чем с матерью, и даже улыбалась недоброй, презрительной улыбкой, глядя, как та молится на коленях у ее постели. Для нее, жертвы судьбы, справедливости не существовало ни у Бога, ни у людей, коль скоро она не нашла ее для себя даже у родной матери. Да, самой несчастной из двух была все-таки Ластени. Что до Агаты, постоянно устраняемой г-жой де Фержоль, она не осмеливалась работать в комнате, где больше не разговаривали, и, хотя состояние Ластени надрывало ей сердце, она вновь увлеченно вступила во владение вещами, окружавшими ее и, как она выразилась, «знакомыми с нею» с юности, прошедшей в этом замке; она хлопотала в саду и у колодца, взвалив на себя все домашние заботы, о которых ее хозяйки, судя по всему, утратили всякое представление. Без Агаты, которая заботилась о них, как о детях или умалишенных, они, поглощенные снедающими их мыслями, вероятно, умерли бы с голоду.








