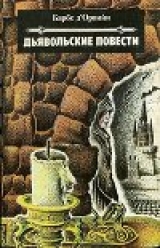
Текст книги "Дьявольские повести"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
4
Между тем пробило полдень, а отец Рикюльф так и не возвратился в особняк де Фержоль. Агата не ошиблась. Он ушел, и толпа, скопившаяся у его исповедальни в приделе Святого Себастиана, прождала его напрасно. Разразился скандал, за которым назавтра в городке, приверженном к старинным обычаям, последовал другой, когда кюре вынужден был заменить того, кто проповедовал на посту и, следовательно, должен был проповедовать также в Воскресение Господне между обедней и вечерней. Однако впечатление, произведенное этими странностями, вскоре рассеялось. Да и что на свете длится долго? Дождь дней, капля за каплей падающий на нас, смыл это впечатление, подобно тому как первый осенний ливень уносит листья, по которым скатывался. Жизнь дам де Фержоль, застойность которой нарушало пребывание в доме отца Рикюльфа, вновь стала монотонной. Уста обеих забыли, как произносится его имя. Но может быть, дамы все же думали о нем? Бог их знает. Эта безымянная история на редкость темна… Однако впечатление, произведенное этим человеком, которого, увидев хоть раз, уже не забывают, несомненно оказалось глубоким, тем более глубоким, что объяснить, почему это происходит, было невозможно! Холодный и почтительный отец Рикюльф пробыл у дам сорок дней, проявляя в повседневных отношениях с ними сдержанность, свидетельствующую о немалом такте и о воспитанности. Но о себе он, естественно, хранил полное молчание. Что представляло собой его прошлое? Каковы были его жизнь, воспитание, происхождение? Всего этого г-жа де Фержоль слегка касалась в мыслях, но, как подлинно светская женщина, перестала этого касаться, когда увидела, что это человек из мрамора и столь же холоден, непроницаем и неприступен. Разглядеть в нем можно было только капуцина.
В то время капуцины уже перестали быть тем, чем были когда-то. Этот орден, восхищавший своим христианским смирением, давно утратил это восхитительное достоинство. Общество стояло на грани самых зловещих своих дней. Атеистический эпикуреизм царствования Людовика XV, тянувшийся еще долгие годы при Людовике XVI, расшатал все доктрины и нравы, и самые прославленные своей святостью ордена утратили ту суровость, которая вселяла почтение к ним даже в неверующих. Общественное мнение уже начало повсеместно требовать упразднения иноческого жития, что выбросило столько монахов на мостовую порока. Те виды жизненного призвания, которые считались наиболее надежными, были поставлены под сомнение… Г-жа де Фержоль вспоминала иногда, что в городке, где она танцевала свой первый контрданс с очаровательным беломундирным офицером бароном де Фержолем, был капуцин такой красоты, какой нельзя не заметить, хоть он и капуцин; так вот, явившись, как отец Рикюльф, проповедовать под Пасху, он умудрился упрятать щегольскую кокетливость под одеяние нищеты и нестяжательства. Говорили, что он очень высокого рода, и это, возможно, отчасти смягчило дворянское общество, хотя в тех краях оно осталось по-прежнему суровым к этому непристойному минориту, почти по-женски пекшемуся о своей особе, прыскавшему духами бороду и носившему под грубошерстной рясой шелковые рубашки вместо власяницы. Г-жа де Фержоль, в те поры еще барышня д'Олонд, встречала его в свете, где он сидел за вечерним вистом, отпуская женщинам комплименты и нередко шушукаясь с ними в углах гостиной, словно один из тех римских кардиналов, коих поминает Президент Дюпати в своем, очень тогда читаемом, «Путешествии в Италию».[417]417
Барбе д'Оревильи допускает легкий анахронизм: эта книга (точное название: «Письма об Италии 1785 г.») Шарля Маргерита Жана Батиста Мерсье по прозвищу Президент Дюпати (1746–1788) появилась несколькими годами позднее.
[Закрыть] Но хотя всего через несколько лет, усугубивших всеобщую развращенность и разложение, все превратилось в гниль и прочная древняя бронза Франции потекла в выгребную яму Революции, отец Рикюльф был не похож на этого салонного капуцина. От него не разило пороками. Он, как имя его, казалось, пришел из средних веков. Отличай его неподобающая светскость, столь неуместная в духовном лице, г-жа де Фержоль поняла бы, почему он внушает отталкивающее чувство, за которое она себя упрекала, но, как Ластени и Агата, столь же стойкие в своей антипатии без видимой причины и столь не сведущие в природе ее, г-жа де Фержоль этого не знала.
Задумывались ли они с дочерью об этом? Трудно предположить, что нет. Для них эта антипатия оставалась тайной. А что сильнее действует на человеческое воображение, нежели тайна? Тайна – это религия для народа, но она же религия для наших бедных сердец… Ах, никогда не давайте познать вас до конца тем, чьей любовью вы хотите обладать! Пусть даже в ваших поцелуях и ласках всегда остается нечто не познанное до конца!.. Пока отец Рикюльф жил у дам де Фержоль, он оставался для них тайной; когда же он ушел, она стала еще больше. Пока он был рядом, им верилось, что в свой срок они проникнут в эту тайну, но теперь, исчезнув, он превращался в неразрешимую загадку, а ничто не терзает мысль сильнее, нежели то, чего она не разгадала.
А извне – ни крупицы света, ничего, что могло бы объяснить появление этого человека, ушедшего из особняка дам де Фержоль утром так же, как он вошел в него однажды вечером. Из каких мест он появился, когда пришел, куда удалился, когда ушел – одна неизвестность. Оправдывалось библейское речение: «Скажите мне, откуда он пришел, и я скажу вам, куда он ушел».[418]418
Сочиненная самим Барбе д'Оревильи цитата, навеянная, вероятно, евангельским стихом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Еванг. Иоан., 3, 8).
Неправда. Писатель имеет в виду цитату: «Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду» (Иоанн.; 8, 14).
Amfortas
[Закрыть] Он не сказал, откуда он пришел. Он был из дальнего монастыря и скитался по Франции, как его братья по ордену, которых безбожники презрительно обзывали бродягами. Исчезнув из городка, где проповедовал сорок дней, он не сказал, куда понесет глагол своей бесконечной проповеди. Он исчез, как прах, возметаемый ветром.[419]419
Псалт., 1, 4.
[Закрыть] Ни в одном из городов, соседствовавших с тем, который он потряс силой своего красноречия, он не поднялся вечером на кафедру, не прошел утром по улицам, а ведь это был не заурядный капуцин, и где бы он ни появлялся, привлекал к себе все взгляды – настолько был величествен и высокомерен в своей чиненой-перечиненой рясе, настолько достоин вдохновить стих, который один великий современный поэт влагает в уста другого капуцина: «Он императором казался, хоть был нищ!» Он, без сомнения, ушел в края достаточно отдаленные, чтобы здесь о нем больше не говорили, хотя – при такой внешности! – должен был повсеместно оставлять о себе воспоминание как об опустошителе душ.
Оставил ли он где-нибудь о себе подобную память? На вид он был молод, но люди, выглядящие молодыми, бывают подчас страшно стары душой, и если отец Рикюльф до сих пор не оставил по себе подобное воспоминание, то, быть может, должен был оставить его в этом городишке и в душе бедной Ластени де Фержоль, которая трепетала перед ним как лист, его уход породил чувство освобождения и дал ей блаженство вздохнуть полной грудью. Он всегда был для нее тем, что девушки, испытавшие уже к кому-нибудь антипатию, называют «своим кошмаром», и если Ластени не называла его так, то лишь потому, что ее речь, равно как все существо, была недостаточно энергична. Очаровательная, но хрупкая девушка, над которой как рок тяготела ее слабость, Ластени была счастлива избавиться от присутствия человека, который беспричинно, но неодолимо производил на нее впечатление заряжаемого в дальнем углу ружья. Теперь ружье исчезло. Ластени была счастлива, но счастье бывает и ложным. Ведь будь она действительно счастлива, почему счастливое чувство освобождения не озарило ее лицо, почему меж широких бровей, еще недавно таких печальных и таких кротких, с недавних пор пролегла складка какого-то тайного ужаса?.. Г-жа де Фержоль с ее несгибаемой душой и здравым смыслом нормандки смотрела на вещи слишком свысока и слишком общо, чтобы откинуть волосы с лица дочери и разгладить морщинки, которые промывала иногда влага слез на этом челе мечтательницы, чистом, как меланхолическое озеро; но зато их видела Агата, простая служанка Агата. Инстинктивная ненависть, питаемая ею к этому хрычу капуцину, как выражалась она, чтобы не прибегать к другому словцу, представлявшемуся ей куда более греховным, – как оно, впрочем, и было на самом деле, – обостряла зрение служанки и вооружала ее проницательностью, которой не хватало той, в ком супруга, неутешная супруга в трауре, вытеснила мать. Будь Агата не нормандкой, а родись в Италии, она верила бы в сглаз. Она объяснила бы все этой таинственной jettatura,[420]420
Сглаз, порча (итал.).
[Закрыть] которою объясняют непонятные им несчастья страстные итальянцы, верящие только в любовь и ненависть. О, эти странные астрологи, усматривающие в человеческих глазах благоприятное или вредоносное стечение звезд нашей жизни, столь же хаотичное, как стечение светил небесных! Но на родине Агаты суеверие носило иной характер. Она верила в незримые чары, в невидимое для глаз колдовство. Отца Рикюльфа, «о котором она думала плохо», Агата подозревала в способности наводить порчу, которую он навел, в частности, и на Ластени. Почему именно на нее, добрую невинную девочку? Да как раз потому, что она добра и невинна: что нечистый, творящий зло ради зла, особенно остро ненавидит невинность; что он, падший ангел, особенно завидует тем, кто остался в царстве света. Словом, для Агаты Ластени была ангелом, который, пребывая на земле, не перестает жить в горних лучах.
Вся во власти мысли о «порче», старая служанка унесла черные четки из бусин-черепов, на которых у Ластени однажды свело пальцы. Агата этого не забыла и обошлась с четками, как с оскверненной святыней. А так как огонь очищает все, она благочестиво их сожгла. «Но порча-то все равно в Ластени сидит», – сокрушалась Агата. «Порча», приходящая из ада, где все горит, должна напоминать ожоги, проникающие в тело и изъязвляющие его; точно так же она должна проникать в душу и изъязвлять ее… Вот что втолковывала себе суеверная Агата, когда прислуживала за столом и, стоя за стулом г-жи де Фержоль с зажатой под мышкой салфеткой и упертой в фартук тарелкой, подолгу смотрела на день ото дня все более бледное лицо Ластени, сидевшей напротив матери и ничего не евшей. Девушка начала утрачивать даже свою хрупкую красоту. Со дня ухода отца Рикюльфа минуло едва два месяца, а зло, которое он привнес в дом, уже стало обретать осязаемые формы. Дьявольское семя, посеянное им, дало первые всходы. Конечно, печаль Ластени никого не удивляла и не пугала. Девушка всегда была такой. Она родилась в ненавистном Агате мерзком краю, где даже в полдень сумеречно и где Ластени росла рядом с матерью, думавшей только об утраченном муже и не находившей для дочери ласкового слова. «Не будь меня, – добавляла про себя Агата, – малышка не знала бы, что такое улыбка. Она никогда никому не показала бы свои хорошенькие зубки. Но теперь ее гложет не только печаль, теперь это порча, а порча – это смертные корчи, как гласит присказка в наших краях». Таковы были внутренние монологи Агаты. «У вас что-нибудь болит, барышня?» – часто осведомлялась она у Ластени с тревогой, в которой чувствовался ужас, несмотря на все усилия не выдать мысли, которые шастали у нее в голове, но Ластени побелевшими губами неизменно отвечала, что у нее ничего не болит. Видно уж, всем девушкам, этим кротким стоикам, суждено отвечать, что у них ничего не болит, когда это совсем не так. Женщины настолько созданы для страдания, боль настолько их удел, они начинают испытывать ее так рано и так мало ей дивятся, что утверждают, будто не испытывают ее еще долго после того, как она начинается.
И боль пришла. Ластени явно страдала. Вокруг глаз у нее легли круги. На ландыше ее лица появились пятнышки, как от ожогов, и складка бровей на опаловом лбу перестала быть только следом мимолетной мечты. Она выражала теперь нечто большее. Внешне жизнь Ластени не изменилась. Это по-прежнему была рутина домашних обязанностей, то же шитье в той же оконной амбразуре, то же хождение в церковь в обществе матери и – опять-таки в обществе матери – прогулки по зеленым склонам гор, где трепетали ручьи, то взбухавшие, то пересыхавшие в зависимости от времени года, но никогда не перестававшие низвергаться вниз. Особенно часто дамы прогуливались по вечерам – обычное время прогулок на своей земле. Но они делали это не как более счастливые обитатели равнин и берегов, отправляющиеся полюбоваться закатом. В этом зажатом между горами краю не было солнца: они как бы образовывали экран, защищавший от его лучей. С вершин, правда, было видно, как оно садится на горизонте, но до них требовалось добраться, а они были изрядно высоки. В самых долгих своих прогулках дамы де Фержоль не поднимались выше, чем на полпути.
Вечером ковер лугов, заросли, кое-где почти непроходимые, могучие деревья на склонах, которые гнутся долу, скручиваясь и переплетаясь между собой, придавали этим горам с тучной почвой, и ничуть не похожим на тощие и жаркие рыжие Пиренеи, характер, который хорошо, пожалуй, даже слишком хорошо сочетался с мыслями и чувствованиями обеих прогуливающихся женщин. Приближающаяся ночь окрашивала более темными тонами или расцвечивала звездами синюю орбиту, простертую над головами, а когда всходила луна, та луна, которой не замечаешь, она озаряла молочно-бледным светом убогое слуховое окно неба, благодаря которому, подняв глаза, можно было убедиться, что небо действительно существует… В любом ландшафте вечером появляется нечто фантастическое; этот тоже не был исключением. Выстроившиеся кругом горы, вершины которых только-только не целовались друг с другом, представлялись воображению хороводом гигантских фей, тихо шепчущихся между собой, словно закончившие визит и уже вставшие с мест гостьи, которым что-то торопливо договаривают, перед тем как облобызаться на прощание и разъехаться. И это сравнение казалось тем более разительным, что испарения, поднимавшиеся от зелени и бесчисленных орошающих траву источников, как бы набрасывали белый бурнус жемчужного тумана на просторные зеленые платья фей-великанш, слегка колышемые серебром ручьев. Только эти феи не уходили. Они оставались на прежнем месте, и там же их находили на следующее утро… Дамы де Фержоль почти никогда не возвращались с вечерних прогулок прежде, чем под их ногами не разнесется «ангелус», взметающийся к ним из небольшой долины, где прижималась к земле черная романская церковь, откуда вздымалась молитва, которую Данте именует «агонией умирающего дня». Тогда они спускались в темнеющий городок и шли в эту похожую на гробницу церковь, куда по обычаю ходили к вечерне перед ужином.
Подчас, когда г-жа де Фержоль по той или иной причине не могла уйти из дома, Ластени осмеливалась совершать подобные прогулки одна. Никакой неосторожности в этом не было. В краю – прежде всего в силу его удаленности – царил порядок. В этой со всех сторон наглухо заткнутой дыре жили, подобно некому троглодитскому племени, домоседы, многие из которых никогда не покидали кольца обставших их гор, как будто некое колдовское заклятие удерживало их в пределах мрачного магического круга. Ни чужаков, ни подозрительных бродяг здесь не попадалось, нищие и всевозможные путники, столкновение с коими могло бы сулить девушке недоброе, встречались лишь на внешних склонах этого хребта, который пересекает Францию и одним из центров которого была Форе; с внутренней же его стороны обитали только описанные нами насельники темной и сырой, как колодец, долины. К тому же дамы де Фержоль были окружены едва ли не суеверным почтением. Ластени знала по имени всех пастушков, гонявших своих коз по почти отвесным горным пастбищам, всех коровниц, отправлявшихся вечером на дойку на обрывистые луга, всех ловцов форели, удивших ее в маленьких водопадах и приносивших домой полные корзины этой рыбы, которой они кормили округу, как ловцы семги – Шотландию. Кроме того, г-жа де Фержоль никогда не разлучалась надолго с дочерью. Она отыскивала Ластени тем легче, что, уговорившись заранее, куда та пойдет, девушку нетрудно было обнаружить издалека на склоне расположенных амфитеатром гор и даже прямо из окон большого серого дома г-жи де Фержоль, из которых открывалась все та же перспектива – обрывистые Уступы гор, громоздящиеся перед глазами, словно шпалеры вдоль стены.
Однажды вечером Ластени непривычно быстро вернулась с подобной прогулки, усталая, изнемогающая, еще более изменившаяся. Изменилась она так, что это мог заметить не только острый наблюдатель, – зримо, грубо, очевидно. От Агаты, не перестававшей расспрашивать девушку, как та себя чувствует, она больше не скрывала, что сильно недомогает. Однако что она испытывает, Ластени объяснить не захотела. Она отделалась одной фразой: «Да не знаю я, что со мной, бедная моя Агата!» В тот вечер кое-что заметила даже ее мать, не желавшая ничего видеть и с головой ушедшая в благочестие и в воспоминания о муже, снедавшие ее. Ластени, уговорившаяся с матерью, что та, помолясь в церкви, поднимется вечером за дочерью в горы, сама спустилась в церковь – ей было так худо, что у нее не хватило терпения ждать. Войдя в храм, она увидела спину г-жи де Фержоль, преклонившей колени в исповедальне, и опустилась на скамью позади нее, сломленная усталостью. Быть может, она слишком много ходила пешком? Церковь, и без того темную, затопляли сумерки. Витражи ее померкли. Однако, когда г-жа де Фержоль вышла из исповедальни, час ужина еще не наступил, и мать предложила Ластени:
– Завтра праздник. Почему бы тебе завтра не причаститься со мной, а сейчас не исповедаться, пока я сотворю благодарственную молитву? Время у тебя есть.
Но Ластени отказалась, сославшись на то, что не готова, и продолжала сидеть не молясь, покамест г-жа де Фержоль, преклонив колени на плитах пола, творила молитву. Она была совершенно ошеломлена и, как бывает в такие минуты, совершенно ко всему безразлична. Отказ исповедаться и причаститься удивил г-жу де Фержоль, которая не пожелала настаивать, боясь, как бы сопротивление дочери не раздражило ее (она хорошо себя знала!), и она сочла, что дочь обязана будет раскаяться в отказе причаститься вместе с ней. Г-жа де Фержоль, эта ревностная богомолка, была сильно раздосадована, но воля ее не уступала неколебимостью вере, и когда мать с дочерью направились из церкви домой, Ластени не могла не почувствовать, что рука матери, лежащая на ее руке, дрожит от подавленного волнения. Они дошли до дому, не обменявшись ни словом. На углу маленькой квадратной площади, отделявшей церковь от особняка де Фержоль, стоял кузнец, чья кузница бросала через открытую дверь сноп огня, отблеск которого пересекли дамы, и Ластени оказалась настолько бледна, что даже красное пламя не смогло обагрить страшную в эту минуту бледность девушки.
– Как ты бледна! – изумилась г-жа де Фержоль. – Что с тобой?
Ластени ответила, что она устала. Но когда они сели за стол, одна, как обычно, напротив другой, черные глаза г-жи де Фержоль, обращенные на Ластени, потемнели, и девушка поняла, что мать сердится на нее за отказ причаститься вместе с нею. Она не поняла, она еще не могла понять, что заронила в свою мать впечатление, которое позднее окажется страшным гвоздем, и в один прекрасный день ее мать повесит на этот гвоздь отвратительное подозрение.
5
На другой день г-жа де Фержоль послала служанку за городским врачом, и Агата с задушевной и давно дозволенной фамильярностью выпалила:
– А, сударыня, заметили-таки, что барышня больна! Я-то уж это давно ясней ясного вижу и сама выложила бы все сударыне, не запрещай мне барышня: ей совестно тревожить мать из-за недомогания, которое, уверяет она, само по себе пройдет. Ан, глядь, не прошло, и я рада, что пожалует врач… – Агата не договорила, потому что в силу своей суеверности была отнюдь не убеждена в способности врача справиться с недугом Ластени. Тем не менее она со всей поспешностью отправилась за врачом, и тот явился. Он расспросил м-ль де Фержоль, но в ответ услышал мало что вразумительного. Она сказала, что чувствует надломленность и непобедимый упадок сил, сопровождаемые смертельным отвращением ко всему на свете.
– Даже к Богу? – бросила ей мать с горькой иронией.
Слово вырвалось у нее непроизвольно – так она сердилась на дочь за вчерашний отказ причаститься совместно. Ластени, которая никогда ни на что не роптала, безропотно отнеслась и к этому выпаду. Но она почувствовала, словно грозное пророчество грядущего, что всегда казавшаяся ей суровой набожность матери может в один прекрасный день стать жестокой.
Права ли была Агата в своих сомнениях? Но врач, если что-нибудь и понял в болезни м-ль де Фержоль, ничем не намекнул на это ее матери. Он не сказал ничего определенного о состоянии дочери, а сама г-жа де Фержоль никогда не болела. «Здоровьем мне возмещено то, что недодано счастьем», – говаривала она подчас. Она едва была знакома с врачом, к которому обращалась лишь по поводу мелких детских расстройств Ластени, когда та была еще совсем ребенком. Доктор уже лет десять практиковал в этой дыре, как презрительно выражалась Агата, что, впрочем, отнюдь не ставило под сомнение его медицинские способности. Из всех, кому нужен обширный театр, чтобы продемонстрировать свои таланты и даже свой гений, врач – тот, кому легче всего обойтись без такого театра. Разве он не повсюду находит материал для своих ученых занятий? Самый, может быть, лучший практик XIX века Рокаше[421]421
Знакомый Барбе д'Оревильи во время пребывания последнего в 1862 г. у г-жи де Буглон в Бастид-д'Арманьяке в департаменте Ланды на юго-западе Франции.
[Закрыть] прожил всю жизнь в глухом городишке черного Арманьяка, где больше полувека творил сущие чудеса исцеления. Правда, врач из городишка в Форе был не похож на своего коллегу из городишка в Ландах. Это был всего-навсего здравомыслящий и опытный человек, который придерживался выжидательных методов и не насиловал природу, каковая, будучи женщиной, не прочь иногда быть изнасилованной. Возможно также, симптомы, подмеченные им у Ластени, были слишком неопределенными, чтобы он решился сказать, что думает, если и усмотрел в них намек на нечто серьезное. Короче, даже если у него и появились основания для тревоги, он не поделился ими, предпочитая выждать, прежде чем поведать о них матери, в чьих черных глазах он читал такое суровое материнское чувство. Он повел разговор о недомоганиях, столь свойственных юным особам в возрасте Ластени, когда их организм, ослабленный кризисом, который превращает их в женщин, еще не успевает обрести былое равновесие, и прописал не столько лекарства, сколько определенный гигиенический режим.
– Все это – что мертвому припарки, – решительно заключила Агата после его ухода. – Такими глупостями барышню на ноги не поставишь!
И действительно, в странном недуге, казалось снедавшем Ластени, не наметилось никакого улучшения. Щеки ее приобрели свинцовый оттенок, меланхолия обострилась, отвращение ко всему возросло.
– Хотите знать, что я думаю, сударыня? – спросила Агата г-жу де Фержоль как-то раз, когда они остались одни.
Обед подходил к концу, и Ластени, которую за едой, казавшейся ей отвратительной, то и дело подташнивало, ушла к себе полежать.
– Вот уж месяц как у нас побывал врач, а толку что? – закипела Агата. – Третьего дня он опять приходил, – наливаясь злостью, продолжала она. – Так вот, сударыня, думаю я, что бедной барышне нужнее священник, который изгонит из нее бесов, чем лекарь, который все равно не лечит.
Г-жа де Фержоль посмотрела на старую Агату, как смотрят на человека, которого постиг первый приступ безумия.
– Да, сударыня, – гнула свое старая верная служанка, ничуть не напуганная большими глазами, которые сделала г-жа де Фержоль, – да, сударыня, священник, который сведет на нет сатанинские труды капуцина.
Глаза г-жи де Фержоль метнули черное пламя.
– Что такое? – спросила она. – Вы смеете думать, Агата?..
– Да, сударыня, – бесстрашно отпарировала Агата, – и думаю, тут не обошлось без нечистой силы, и бес оставил здесь то, что оставляет всюду, где проходит. Не может погубить душу – вымещает злость на теле.
Г-жа де Фержоль не ответила. Она стиснула виски руками и оперлась локтями о стол, с которого Агата убрала скатерть. Она размышляла над словами старой служанки, сказанными тою с глубокой убежденностью, словами, которые, словно копье, вошли ей в душу, столь же религиозную, как у Агаты, а то и больше.
– Оставь меня на минутку, Агата, – распорядилась она, расстроенно подняв голову и тут же вновь опустив на руки.
И Агата, пятясь, вышла, чтобы подумать на свободе о состоянии, в которое ввергла эту женщину, поразив ее, как молнией, всего одним словом.
– Ах, Святая Агата! – пробурчала служанка, уходя. – Раз она сама ничего не видит, нужно было ей это сказать.
Г-жа де Фержоль не была суеверна, говоря языком света, который ничего не смыслит в сверхъестественных вещах; не была она склонна и к христианскому мистицизму, но зато отличалась глубокой религиозностью. Слова Агаты произвели на нее глубокое впечатление. Разумеется, она вовсе не отрицала возможность физического вмешательства и зримого воздействия того, кого Священное писание именует нечистым духом. Она верила в это. И хотя разуму ее были свойственны и сила, и твердость, она верила в это спокойно и в соответствии с христианской доктриной в той мере, в какой разрешает верить в это церковь, мать всяческого благоразумия и враг всяческого вольнодумства. Поэтому мысль Агаты завладела ею с меньшим неистовством, чем это произошло бы, будь ее воображение более созерцательным и экзальтированным. Вот только мысль эта озарила ее иначе, нежели Агату. Женщина, которая любила, которая уже пятнадцать лет тщилась успокоиться и охладеть, но все еще пылала и бурлила неистребимой страстью к мужчине, тайно подсказывала ей вещи, которых не могла открыть наивная старая Агата, прожившая жизнь в безбрачии сердца и немоте чувств. Так же, как простушка Агата, г-жа де Фержоль верила, что на службе у лукавого состоят грозные плотские соблазны, но по собственному опыту знала то, чего не знала Агата, – что самый грозный из таких соблазнов – любовь. Такова была мысль, внезапной молнией сверкнувшая у нее в мозгу. «Что, если Ластени полюбила? – спросила она себя. – Что, если недуг ее – любовь?» И она сидела, поникнув и обхватив голову руками, но ее внутреннее зрение – те глаза, что даются нам, чтобы видеть во тьме своей души, – сосредоточилось на внезапной мысли: «Что, если она любит?» А так как в заштатном городишке проживали только мелкие буржуа, не было ни светского общества, ни молодых щеголей, и они с дочерью проводили дни в недрах своего пустынного особняка, словно в какой-нибудь Фиваиде,[422]422
Фиваида – пустыня около Фив (Египет), место уединения отшельников в первые века христианства.
[Закрыть] в душевной ночи г-жи де Фержоль возник образ непостижимого капуцина, вошедшего в их жизнь, исчезнувшего, как видение, и тем более волновавшего воображение женщин, что они ничего не могли в нем понять и не поняли.
Ужас, вернее нечто вроде ужаса, что Ластени постоянно испытывала перед этим страшным сфинксом в рясе, который сорок дней, непроницаемый, провел рядом с нею, не мог быть причиной, которая помешала бы ей безумно влюбиться в него. Напротив, это было достаточной причиной, чтобы полюбить его до исступления. Женщины это знают. Если даже им не подсказывает этого женский инстинкт, их этому учит жизнь страстей. Как часто любовь начиналась со страха, ненависти или отвращения, представляющего собой сочетание страха с ненавистью, доведенных до предельного напряжения в робких взбунтовавшихся душах. «Вы действуете на нее, как паук», – сказала как-то раз одна мать мужчине, влюбленному в ее дочь, бедная мать даже не подозревала, с каким неистовством преступного и тайного счастья дочь ее через два месяца после этой жестокой и уничижительной фразы росилась в волосатые лапы паука, позволив ему до последней девственной капли высосать из нее кровь ее сердца! Ластени трепетала перед холодным и загадочным капуцином. Но женщина, не трепетавшая перед мужчиной, никогда его не полюбит. Надменная г-жа де Фержоль тоже, вероятно, трепетала перед неотразимым беломундирным офицером, который похитил ее, как Борей – Орисию.[423]423
Орисия (миф.) – дочь Эрехтея, царя Афин, похищенная северным ветром Бореем.
[Закрыть] Чтобы испугаться того, что угрожало ее дочери, г-же де Фержоль достаточно было припомнить времяпрепровождение Ластени. «Если Ластени знает, что с ней, – рассудила г-жа де Фержоль, – она будет молчать и таиться. Болезнь засела глубоко». Вспомнила она и то, как таилась сама, когда была влюблена. Любовь – это свирепая стыдливость, легко становящаяся ложью, и притом ложью самой сладострастной и низкой. С каким отвратительным наслаждением мы приклеиваем лживую маску на свое пылающее лицо, жар которого все равно пожрет ее и превратит во прах, так что оно предстанет, снедаемое страстью, которой больше уже ничто не скроет!
Когда г-жа де Фержоль подняла голову, она была спокойна и полна решимости узнать, что с дочерью. О враче она больше не думала. «Пронаблюдать и увидеть – это мой долг», – сказала она себе. Она еще раз осудила себя за главный грех своей жизни – за то, что была сперва супругой и лишь потом матерью. Бог продолжал карать ее за это и правильно делал. Она заслужила наказание. Когда Ластени, еле волоча ноги, спустилась вниз и уселась в оконной амбразуре, где они работали с матерью, она наверняка испугалась бы выражения глаз г-жи де Фержоль, если бы заглянула в них, но она в них не заглянула. Она и не пыталась это делать. Она никогда не видела в них нежности, этого магнита, с которым так заслуженно ту сравнивают, и она избавляла себя от перспективы снова увидеть в них любые чувства, кроме кротости.
– Как ты себя чувствуешь? – осведомилась г-жа де Фержоль у Ластени, помолчав и перестав орудовать иглой, которою метила белье.
– Лучше, – отозвалась Ластени, не поднимая лица и продолжая работать.
Однако из-под наклоненного лба, не коснувшись щек, отвесно упали две крупные слезы, увлажнив руки и работу девушки. Г-жа де Фержоль, держа иголку на весу, увидела, как вслед за ними скатились две другие, более крупные и тяжелые.
– Тогда почему ты плачешь? А ты ведь плачешь? – спросила мать голосом, прозвучавшим как упрек или даже обвинение.
Растерянная Ластени утерла глаза тыльной стороной руки. Она была бледнее своих пепельных волос.
– Не знаю, матушка, – ответила она. – Это, наверно, что-то физическое.
– Я тоже думаю, что это нечто физическое, – отчеканила г-жа де Фержоль. – С какой стати тебе плакать? Чего огорчаться? С чего считать себя несчастной?
Она умолкла. Ее черные сверкающие глаза всмотрелись в светлые и прекрасные глаза дочери, еще влажные от слез, торопливо высыхавших под огнем вперенных в них темных зрачков.
Ластени вобрала в себя слезы, молчание возобновилось, и обе иглы опять заработали.
Короткая, но чреватая угрозой сцена! Обе женщины наклонились над разделяющей их пропастью недоверия и больше в тот день не сказали ни слова. Жестокое молчание вновь и вновь вставало между ними.
Это молчание становилось как бы неподвижным. А что может быть печальнее и даже зловещее, чем совместная жизнь, над которой нависло безмолвие? Несмотря на решимость г-жи де Фержоль, боязнь увидеть воочию удерживала ее, и прошло еще несколько безмолвных дней. Но наконец однажды ночью, лежа без сна и размышляя о немоте, которая гнула ее и дочь одну перед другой, под бременем тревоги, с обеих сторон превращавшейся в ужас, г-жа де Фержоль устыдилась своей слабости. «Пусть выказывает трусость она, я – не буду!» – решила та, что была матерью, взяла со стола лампу, которую никогда не гасила, чтобы в часы бессонницы постоянно видеть распятие, висящее над альковом, и, видя его, молиться с еще большим рвением. Только в эту ночь, вместо того чтобы созерцать распятие и молиться, г-жа де Фержоль рывком сдернула его с алькова и унесла с собой, как последнее отчаянное средство против несчастья, которого она искала, зная, что несчастье уже поджидает ее. Нужно немедленно покончить со снедающей ее тревогой! С лампой в одной руке, с распятием в другой, похожая в своих белых ночных одеждах на странное привидение, она вошла в спальню дочери. К счастью, вокруг не было никого, кто мог бы ее увидеть и кого она могла бы привести в ужас. Она сама была воплощенный Ужас! Что собиралась она предпринять?.. Ластени спала почти не дыша и без сновидений, спала тем безжизненным сном, который похож на смерть и охватывает вечером тех, кто много страдал днем. Г-жа де Фержоль подняла лампу выше лица дочери и направила а него свет, дрожавший в ее дрожащей руке. Потом, пустив лампу, она обвела ею вокруг лица своего ребенка, чью болезненную тайну хотела прочесть, воспользовавшись простодушием сна.








