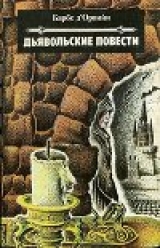
Текст книги "Дьявольские повести"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Но Хартфорд явился не один. Он подошел к маркизу, поздоровался и представил ему – как щит против возможных упреков – своего приятеля шотландца мистера Мармера де Каркоэла, который во время обеда свалился на него наподобие бомбы и был лучшим игроком в вист во всех Трех королевствах.[120]120
То есть Англии, Шотландии, Ирландии.
[Закрыть]
Такое обстоятельство, а именно то, что перед ним лучший игрок в вист во всех трех частях Великобритании, изогнуло в очаровательной улыбке бледные губы маркиза. Партия тут же составилась. Мистеру де Каркоэлу так не терпелось начать игру, что он даже не снял перчаток, безукоризненностью своей напоминавших знаменитые перчатки Брайена Бреммеля, которые выкраивались тремя специальными мастерами: один занимался большим пальцем, двое других – остальной рукой. Он оказался партнером господина де Сент-Альбана. Сидевшая напротив маркиза вдовствующая госпожа де Окардон уступила чужеземцу свое место.
Так вот, сударыни, этот Мармер де Каркоэл казался по осанке мужчиной лет двадцати восьми, но жгучее солнце, неведомые труды, а может быть, и страсти надели на него маску тридцатипятилетнего человека. Лицо у него было некрасивое, но выразительное. Свои черные очень жесткие и прямые волосы он стриг чуточку слишком коротко и часто сдвигал их рукой с висков, отбрасывая назад. Жест этот получался у него естественным, но каким-то зловеще красноречивым. Шотландец словно отгонял от себя угрызения совести. Это поражало с первого взгляда и, как все глубокое, не переставало поражать и в дальнейшем.
Я знал Каркоэла много лет и могу заверить, что этот мрачный жест, повторенный раз десять за час, неизменно оказывал действие и наводил многих на одну и ту же мысль. Правильный, хотя и низкий лоб шотландца говорил о смелости. Выбритая верхняя губа (тогда не носили усов, как теперь) была так неподвижна, что привела бы в отчаяние Лаватера[121]121
Лаватер, Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский богослов, создатель физиономики (физиогномики) – искусства по лицу и жестам определять характер и психику человека.
[Закрыть] и всех, кто полагает, будто тайна человеческой натуры явственней передается подвижными линиями рта, чем выражением глаз. Когда он улыбался, глаза его не улыбались, а рот обнажал жемчужно-белые зубы, которые бывают иногда у англичан, сынов моря, хоть те и чернят их на китайский лад своим отвратительным чаем. Лицо у него было вытянутое, впалощекое и от природы оливкового цвета, но с теплым загаром, приобретенным под лучами солнца, которое, судя по тому, как оно кусается, никак не могло быть приглушенным солнцем туманной Англии. Длинный прямой нос, выступавший тем не менее за кривую лба, разделял черные, словно у Макбета, вернее, не столько черные, сколько мрачные глаза, очень узко посаженные, что, как говорят, служит приметой чудаковатости или определенной интеллектуальной необычности. Одевался он изысканно. Небрежно сидя за столом для виста, он казался выше, чем на самом деле, из-за небольшой непропорциональности верхней части тела, потому что был скромного роста, хотя в остальном превосходно сложен и полон той же дремлющей силы и гибкости, что и тигр в своей бархатной шкуре. Хорошо ли он говорил по-французски? Гармонизировал ли его голос, этот золотой резец, которым мы запечатлеваем наши мысли в душе слушателя и обольщаем ее, – гармонизировал ли он с вышепомянутым жестом, который, стоит мне о нем вспомнить, встает у меня перед глазами? Твердо могу утверждать одно – в тот вечер голос шотландца никого не заставил задрожать. Он в самом обычном диапазоне произносил «вист» и «онёр» – единственные выражения, которые в этой игре нарушают через равные промежутки времени величественную тишину, окутывающую игроков.
Итак, в просторной гостиной, полной людей, для которых появление еще одного англичанина отнюдь не представляло собой чрезвычайное событие, никто, кроме лиц, сидевших за столом маркиза, не обратил внимания на приход незнакомого вистёра, притащившегося туда за Хартфордом. Девушки даже не повернули головы, чтобы глянуть через плечо на пришельца. Их поглощала дискуссия (в то время уже начинали дискутировать) о составе бюро своей конгрегации и отставке одной из ее вице-председательниц, которой не было в тот вечер у госпожи де Бомон. Это было куда важнее, чем разглядывать какого-то англичанина или шотландца: они уже несколько пресытились постоянно ввозимыми англичанами и шотландцами. Мужчина, который, как и другие, интересуется только бубновыми или трефовыми дамами! К тому же протестант, еретик! Будь это хотя бы ирландский лорд-католик!.. Что до особ повзрослее, которые уже играли, когда доложили о мистере Хартфорде, то они лишь бросили беглый взгляд на иностранца, сопровождавшего его, и вновь со всем вниманием углубились в свои карты, словно лебеди, погружающиеся в воду на всю длину шеи.
Когда маркиз де Сент-Альбан избрал партнером мистера де Каркоэла, играть в паре с Хартфордом пришлось графине дю Трамбле де Стасвиль, чья дочь Эрминия, самый прелестный из цветов, распускавшихся в оконных нишах гостиной, беседовала с мадмуазель Эрнестиной де Бомон. Случайно мадмуазель Эрминия обратила взор в направлении стола, за которым играла ее мать.
«Посмотрите, Эрнестина, – вполголоса бросила она, – как сдает этот шотландец».
Мистер де Каркоэл только что снял перчатки. Он вытащил из этих раздушенных замшевых футляров белые подлинно скульптурные руки, над которыми, будь у нее такие же, дрожала бы любая щеголиха, и сдавал карты, как положено в висте, одну за другой, но таким молниеносным круговым движением, что это удивляло не меньше, чем аппликатура[122]122
Постановка пальцев музыканта.
[Закрыть] Листа. Человек, умевший вот так управляться с картами, не мог не быть их властелином. За этой ошеломительной и провиденциальной манерой сдавать чувствовались десять лет игорного дома.
«Это трудность дурного тона, побежденная в дурном тоне», – отрезала высокомерная Эрнестина, как можно презрительней оттопырив губу.
Суровый приговор в устах столь юной барышни, но для этой хорошенькой головки отличаться хорошим тономзначило больше, чем обладать умом Вольтера. Мадмуазель Эрнестине де Бомон не удалось осуществить свое предназначение, и она умерла с горя, что так и не стала camarera major[123]123
Обер-статс-дама (исп.).
[Закрыть] какой-нибудь испанской королевы.
Манера игры мистера де Каркоэла была под стать этой великолепной донье. Он доказал свое превосходство над старым маркизом, и тот прямо-таки онемел от удовольствия: шотландец облагородил манеру игры былого партнера Фокса и возвысил ее до своей. Всякое превосходство – неотразимый соблазнитель, который увлекает вас и влечет по своей орбите. Но это не всё. Увлекая вас, он вас еще и оплодотворяет. Вспомните великих мастеров беседы. Их реплики вдохновляют на ответ. Когда они смолкают, глупцы, лишась золотившего их луча и поблекнув, вновь всплывают на поверхность разговора, словно снулые рыбы, являющие глазам не прикрытое чешуей брюхо. Мистер де Каркоэл не только дал испытать новые ощущения человеку, для которого они уже исчерпались, – он сделал гораздо больше: он укрепил маркиза в высоком мнении о себе самом, увенчав еще одним камнем давным-давно измеренный обелиск, который этот король виста воздвиг себе в безмолвном одиночестве своей гордыни.
Несмотря на волнение, омолодившее его, маркиз во время партии следил за иностранцем сквозь гусиные лапки (как мы именуем когти Времени в благодарность за наглость, с которой оно вцепляется ими нам в лицо), взнуздавшие его умные глаза. Распробовать, проверить, оценить шотландца мог только игрок исключительной силы. Его отличало глубокое сосредоточенное внимание, которое прячется за случайными комбинациями игры и которое он маскировал великолепным бесстрастием. Рядом с ним сфинксы, возлежащие на застывшей базальтовой лаве, показались бы гениями доверчивости и откровенности. Он играл так, словно держал карты тремя парами рук, нисколько не интересуясь, кому принадлежат эти руки. Последние порывы вечернего августовского ветерка шевелили своим дыханием волосы трех десятков девушек с непокрытыми головами и, напитавшись на этом сверкающем поле новыми ароматами духов и девичьего тела, волнами разбивались о широкий, низкий, меднокожий и без единой морщинки лоб шотландца, словно о риф из одушевленного мрамора. Де Каркоэл ничего не замечал. В этот миг он вполне оправдывал свое имя – Мармер.[124]124
Мармер – английская форма латинского слова marmor – мрамор.
[Закрыть] Излишне говорить, что выиграл он.
Маркиз всегда уходил около полуночи. Хартфорд, предложив ему руку, услужливо проводил его до самого экипажа.
«Этот Каркоэл – бог шлема![125]125
Шлем (от англ. slani – бить, убивать) – положение в картах, при котором противник не получает либо ни одной взятки (большой шлем), либо одну (малый шлем).
[Закрыть] – с восхищенным удивлением сказал маркиз провожатому. – Устройте так, чтобы он не покинул нас чересчур быстро».
Хартфорд обещал, и старый аристократ, невзирая на свой возраст и пол, приготовился играть роль сирены гостеприимства.
Я остановился на первом вечере пребывания де Каркоэла в городе, которое затянулось на годы. Я на этом вечере не присутствовал, но мне рассказал о нем один мой родственник постарше меня, который, будучи игроком, как все молодые люди нашего изголодавшегося по страстям города, где единственной отдушиной была игра, проникся интересом к богу шлема. Если посмотреть назад и оживить впечатления прошлого с их магическим воздействием на нас, то этот вечер, прозаический, банальный, заурядный, сразу приобретает пропорции, которые, вероятно, вас удивят.
Четвертая участница партии графиня де Стасвиль, – добавил мой родственник, – потеряла деньги со свойственным ей во всем аристократическим равнодушием. Быть может, за этой партией ее судьба и была решена там, где вершатся судьбы. Кто понимает хоть что-нибудь в этой тайне жизни? Никому не было расчета наблюдать за графиней. Гостиная бурлила лишь звуками жетонов и фишек. Было бы очень любопытно подметить в женщине, которую тогда все считали учтивой и колючей ледышкой, то, что в ней увидели и о чем с ужасом шептались много лет спустя после этого дня.
Графиня дю Трамбле де Стасвиль была сорокалетней особой очень слабого здоровья, отличавшейся бледностью и миниатюрностью, но такими, какие я видел только у нее. Бурбонский нос с поджатыми ноздрями, светло-каштановые волосы и очень тонкие губы обличали в ней как породу, так и гордость, переходящую при случае в жестокость. Бледность ее, подкрашенная тонами серы, выглядела болезненной.
«Ей следовало бы именоваться Констанцией: тогда ее можно было бы называть Констанция Хлор»[126]126
Констанций Хлор – римский император в 305–306 гг. Хлор (греч.) – зеленовато-желтый.
[Закрыть] – говаривала мадмуазель де Бомон, подбиравшая заготовки для своих острот даже у Гиббона.[127]127
Гиббон, Эдуард (1737–1794) – знаменитый английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776–1785).
[Закрыть]
Тот, кому был известен склад ума мадмуазель де Бомон, легко мог угадать неблагожелательный смысл этой эпиграммы. Несмотря на бледность лица графини, несмотря на губы цвета увядшей гортензии, именно в этих почти бесплотных, тонких и вибрирующих, как тетива лука, губах искушенный наблюдатель сразу усмотрел бы признак воли и подавляемой неистовости. Провинциальное общество этого не видело. Оно видело в напряженном рисунке этих узких и убийственно насмешливых губ лишь стальную струнку, на которой непрерывно плясала оперенная стрела эпиграммы. Зеленые глаза (потому что зелень, расцвеченная золотом, была у нее и в зрачках, и в гербе), как две неподвижные звезды, украшали ее лицо, не согревая его. Два этих изумруда с желтыми прожилками, оправленные светлыми, но неяркими бровями на выпуклом лбу, были столь же холодны, как если бы их извлекли из внутренностей и икры поликратовой рыбы.[128]128
Поликрат – тиран острова Самос, ум. в 522 до н. э. После сорока лет непрерывных удач он встревожился и, чтобы умилостивить богов, пожертвовал им свой любимый перстень, швырнув его в море. Однако почти сразу же перстень отыскался в животе рыбы, принесенной на кухню дворца Поликрата, который затем попал в плен к персам и кончил жизнь на кресте.
[Закрыть] Только ум, блестящий, закаленный, отточенный, словно шпага, зажигал в этом стекленеющем взгляде молнии того обращающегося меча, о котором говорится в Библии.[129]129
Библия, Быт., 3, 24.
[Закрыть] За остроумие женщины ненавидели графиню дю Трамбле так же люто, как ненавидели бы за красоту. Как у мадмуазель де Рец, чей словесный портрет, писанный любовником, который отрезвел после безумств юности, оставил нам кардинал,[130]130
Имеется в виду Жан Франсуа Поль де Гонди (1613–1679) – французский прелат, политический деятель и автор знаменитых «Мемуаров», проживший весьма бурную жизнь.
[Закрыть] у нее был небольшой изъян – невысокий рост, что, на худой конец, можно было считать недостатком. Состоянием она обладала значительным. Умирая, муж оставил ей не слишком тягостное бремя – двоих детей: обворожительно глупого мальчугана, вверенного заботам некоего старца аббата, который ничему его не учил, и дочь Эрминию, чья красота восхитила бы самые взыскательные художнические кружки Парижа. Что касается последней, то воспитание – с точки зрения официальной – она получила безупречное. В безупречности, как понимала это слово госпожа де Стасвиль, всегда был какой-то оттенок наглости. Она пользовалась этим понятием как меркой своей добродетели, и почем знать, не было ли оно единственным основанием, побуждавшим графиню дорожить таковой. Во всяком случае, она была добродетельна и ограждена от клеветы своей репутацией. Ни одно змеиное жало не вонзилось в это чудо совершенства. Поэтому, неистово сожалея о том, что насчет графини нельзя позлословить, свет обвинил ее в холодности. Говорили (вернее, рассуждали – мы же теперь все умники!) о том, что это, вне всякого сомнения, объясняется у нее обесцвеченностью крови. Если бы малость подтолкнуть ее лучших подруг, они открыли бы у нее в сердце закупорку, которую приписывали некоей очаровательной и очень знаменитой женщине минувшего века[131]131
Несмотря на слова «минувшего века», в виду явно имеется прославленная своей красотой и остроумием Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Бернар де Рекамье (1777–1849), в чьем салоне перебывали все, начиная с Наполеона, знаменитые люди эпохи, с которыми она неизменно поддерживала дружеские, но не более того, отношения.
[Закрыть] чтобы объяснить, как она ухитрилась десять лет держать у своих ног всю элегантную Европу, никому не позволив подняться ни на волос выше. Веселый тон рассказчика спас его на последних, слишком резких словах, ответом на которые стали протестующие взмахи ручек оскорбленных в своей стыдливости жеманниц. Добавлю, однако: жеманниц беззлобных, потому что жеманство высокородных дам, приученных ничего не аффектировать, в высшей степени изящно. Впрочем, стало уже так темно, что это движение было не столько увидено, сколько угадано.
– Честное слово, графиня де Ста-а-свиль была именно такой, как вы описываете, – запинаясь по обыкновению, вставил старый виконт де Расси, горбун, заика и такой остроумец, словно он сверх всего был еще и хромцом.[132]132
Намек на Талейрана, большого остроумца: он страдал хромотой.
[Закрыть]
Кому в Париже не известен виконт де Расси, этот живой мемуаргрешков восемнадцатого века? У него, в молодости красивого с лица, как маршал Люксембургский,[133]133
Франсуа Анри де Монморанси-Бутвиль, герцог Люксембургский (1628–1695), маршал Франции, один из крупнейших полководцев XVII в., был горбуном.
[Закрыть] тоже была своя оборотная сторона медали, но только эта оборотная сторона и осталась от медали. Что же касается лицевой стороны, один Бог знает, где он ее потерял. Когда молодые люди нашего времени подмечали известные анахронизмы в его поведении, виконт отвечал, что, по крайней мере, не оскверняет свои седины: он ведь носил каштановый парик à la Нинон с искусственным кожаным пробором и невероятными, неописуемыми завитыми локонами.
– А, так вы ее знали! – отозвался прерванный повествователь. – Ну что ж, вы можете подтвердить, виконт, что я ни словом не исказил истину.
– Ваш по-о-о-ртрет верен, как копия через стекло, – отозвался виконт, легонько шлепая себя по щеке (он был нетерпелив, и собственное заикание раздражало его) и рискуя, что с нее осыпятся крошки румян, к которым, по слухам, он прибегал без всякого стыда, как, впрочем, во всем, что ни делал. – Я знавал ее во… во… времена, к которым относится ваша история. Каждую зиму она на несколько дней наезжала в Париж. Я встречался с ней у принцессы де Курте-е-не – они были в дальнем родстве. Это был ум, подаваемый в ведерке со льдом, женщина настолько холодная, что тянуло кашлять.
– За исключением краткого наезда зимой в Париж, – продолжал смелый рассказчик, не скрывавший своих персонажей даже под полумаской, как у Арлекина, – жизнь графини дю Трамбле де Стасвиль была разлинована, словно та скучная нотная бумага, какой уподобляется существование знатной дамы в провинции. Полгода она проводила в недрах своего особняка в городе, который я описал вам в нравственном плане, другие полгода меняла особняк на замок в прекрасном поместье, которым она владела в четырех лье оттуда. Каждые два года зимой она вывозила в Париж дочь, которую оставляла на попечении старенькой тетки мадмуазель де Трюфлевас, когда отправлялась в столицу одна. Ни в Спа, ни в Пломбьер, ни в Пиренеи она никогда не ездила. Ее ни разу не видели на водах. Не объясняется ли это боязнью злых языков? Чего только не выдумывают в провинции, когда женщина в положении госпожи де Стасвиль отправляется одна куда-нибудь далеко на воды! В чем ее только не подозревают! Зависть оставшихся мстит на свой лад радости уезжающих. Странный все-таки ветер рябит своими порывами чистую поверхность этих вод. Не походят ли они на Желтую или Голубую реку,[134]134
Хуанхэ и Янцзыцзян.
[Закрыть] на волю которых китайцы оставляют детей? Воды во Франции отчасти напоминают эти реки. В глазах тех, кто на них не ездит, им обязательно приносят в жертву если уж не ребенка, так хоть что-нибудь. Насмешливая госпожа дю Трамбле была слишком горда, чтобы пожертвовать в угоду общественному мнению хоть одной из своих прихотей, но в число их воды не входили, а врач графини предпочитал, чтобы она находилась рядом с ним, а не в двухстах лье от него, где не столь легко множить ежедневные заботы по десять франков за визит. Впрочем, еще вопрос, были ли у графини какие-нибудь прихоти. Ум – это вам не воображение. У госпожи дю Трамбле он даже в шутках был настолько четок, резок, положителен, что начисто исключал всякую мысль о прихоти. Когда его обладательница бывала весела (что случалось редко), он так напоминал вибрирующий звук кастаньет из черного дерева или баскского тамбурина с хорошо натянутой кожей и металлическими бубенчиками, что было невозможно себе представить, что в этом сухом мозгу, вечно идущем не по спинке, нет, а по острию ножа, гнездится нечто схожее с воображением, нечто смахивающее на мечтательное любопытство, которое порождает стремление сорваться с места или побывать там, где еще не бывал. Все десять лет, что она была богатой вдовой, а следовательно, хозяйкой самой себе и еще многому, она могла перенести свое местопребывание далеко от нашего дворянского захолустья, где коротала вечера за бостоном и вистом в обществе старых дев, видевших эпоху шуанов, и старых шевалье, безвестных героев, вызволивших некогда Детуша.
Она могла бы, как лорд Байрон, объездить мир с библиотекой, кухней и птичьей вольерой в своей коляске, но не выказала ни малейшего к тому поползновения. Она была больше, чем апатична – равнодушна, так же равнодушна, как Мармер де Каркоэл, когда играл в вист. Только Мармер был неравнодушен к самому висту, а в ее жизни не было даже этого: ей все было безразлично! Это была застойнаянатура, нечто вроде женщины-денди, как сказали бы англичане. Если не считать эпиграмм, она существовала как этакая элегантная личинка. «Она из класса холоднокровных животных», – твердил ее врач в самое ухо собеседникам, полагая, что объясняет этим образом ее характер, как описывают недуг симптомами такового. Несмотря на болезненный вид графини, сбитый с толку доктор отрицал у нее болезнь. Проистекло это из его деликатности или он действительно не замечал хвори? Графиня никогда не жаловалась ни на телесные, ни на душевные недомогания. У нее не было даже той зримой печати меланхолии, которая обычно читается на усталых лицах сорокалетних женщин. Дни ее как бы отделялись, хотя и не отрывались от нее. На то, как они утекают, она смотрела теми же насмешливыми сине-зелеными глазами русалки, какими взирала на все. Она словно изменила своей репутации умной женщины, не варьируя свое поведение ни одним из способов оставаться личностью, которые именуются причудами. Она естественно и просто делала все, что делает каждая женщина в своем круге общества, – ни больше и ни меньше. Она хотела доказать, что равенство, эта простонародная химера, существует на деле только в дворянской среде. Только там люди подлинно равны, потому что прерогативы рождения и четыре поколения принадлежности к высшему сословию, необходимые для признания человека дворянином, обусловливают определенный уровень. «Я всего лишь первый дворянин Франции», – говаривал Генрих IV, кладя этим притязания каждого в отдельности к подножию знатности сословия в целом. Будучи, как другие женщины ее касты, слишком аристократкой, чтобы стремиться первенствовать, графиня исполняла свои внешние религиозные и светские обязанности с расчетливой сдержанностью, которая представляет собой главное правило этого мирка, где строжайше возбранена какая бы то ни была восторженность. Она не выходила из рамок общества ни в какую сторону – ни вверх, ни вниз. Быть может, она укрощала себя для того, чтобы примириться с монотонным существованием провинциального городка, где, как в сонной воде под болотными кувшинками, иссякло все, что оставалось в ней от молодости. Мотивы, побуждающие к действию: рассудок, совесть, размышление, темперамент, вкус, – все эти внутренние светочи, сияние которых озаряет наши дела, не проливали света на ее поступки. Ни одна искра изнутри не вспыхивала во внешнем облике этой женщины. Ничто из того, что было снаружи, не отражалось внутри. Устав бесконечно следить за госпожой де Стасвиль, но так ничего в ней и не усматривать, провинциалы, хотя, желая что-нибудь узнать, они выказывают терпение узника или рыболова с удочкой, оставили наконец в покое эту головоломку, как швыряют подальше в сундук манускрипт, который оказалось невозможно расшифровать.
«Мы очень глупы, – безапелляционно изрекла графиня де Окардон, – коль скоро так долго свихивали себе мозгив попытках разгадать, что таится в сердце этой женщины. Там, вероятно, ничего нет!»
III
Мнение вдовствующей госпожи де Окардон было принято всеми. Оно имело силу закона для женских умов, раздосадованных и разочарованных безуспешностью своих наблюдений и искавших только повод для того, чтобы опять погрузиться в спячку. Это мнение еще царило в обществе, хотя и на манер королей-лентяев,[135]135
Прозвище последних франкских королей из династии Меровингов в VII–VIII вв., фактически отстраненных от дел правления.
[Закрыть] когда Мармер де Каркоэл, которому, вероятно, меньше всего следовало вторгаться в жизнь графини дю Трамбле де Стасвиль, явился откуда-то с края света и сел за зеленый стол, за которым как раз недоставало партнера. Он родился, – рассказывал его корнак[136]136
Корнак (араб.) – в Индии вожатый слона; здесь: провожатый.
[Закрыть] Хартфорд, – в туманных горах Шетландских островов, то есть был сыном края, где развивается сюжет превосходного романа Вальтера Скотта «Пират», сюжет и основу которого, правда с вариантами, Мармеру предстояло повторить в безвестном городишке на берегу Ла-Манша. Он вырос у моря, которое бороздил корабль Кливленда. В юности он участвовал в тех же танцах, что и молодой Мордонт с дочерьми старика Тройла.[137]137
Кливленд – главный герой романа Вальтера Скотта «Пират» (1822), морской разбойник. Мордонт, Тройл – персонажи романа.
[Закрыть] Он не забыл их и не раз исполнял в моем присутствии на дешевом паркете нашего прозаического, но достойного городка, как ни плохо тот гармонировал с дикой и причудливой поэтичностью этих плясок. В пятнадцать лет ему был куплен чин лейтенанта в одном английском полку, отправлявшемся в Индию, где Мармер двенадцать лет сражался с маратхами.[138]138
Имеются в виду жители княжеств Центральной Индии, долго сопротивлявшихся агрессии английской Ост-Индской компании в конце XVIII – начале XIX в. Последняя (третья) война с ними произошла в 1817–1818 гг.
[Закрыть] Все это стало известно довольно скоро от Хартфорда, равно как и то, что де Каркоэл – дворянин и родственник знаменитых шотландских Дугласов с окровавленным сердцемв гербе. Но это и всё. Что до остального, никто ничего не узнал ни тогда, ни потом. О своих приключениях в Индии, грандиозной и страшной стране, где люди научаются дышать так, что на Западе их расширенным легким не хватает воздуха, он никому не рассказывал. Они были начертаны таинственными письменами на его лбу из потемневшего золота, этой крышке, которая никогда не приоткрывалась, подобно азиатским коробочкам с ядом, хранимым в шкатулках индийских властелинов на случай поражения или беды. Они проявлялись в черной молнии взгляда, которую он умел тушить, избегая чужих взглядов, как вы задуваете светильник, если не хотите, чтобы вас видели, и в другой молнии – жесте, которым он раз десять за один роббер[139]139
Роббер – круг игры, состоящий из трех отдельных партий.
[Закрыть] в висте или партию в экарте взбивал волосы на висках. Но за исключением этих иероглифов жеста и лица, которые умеет читать настоящий наблюдатель и которым соответствует, как в языке иероглифов, очень малое количество слов, Мармер де Каркоэл на свой лад так же не поддавался расшифровке, как графиня дю Трамбле – на свой. Это был молчаливый Кливленд. Все молодые дворяне города, где он поселился, а среди них было немало весьма неглупых, любопытных, как женщина, и изворотливых, как уж, сгорали от желания заставить шотландца между двумя пахитосками из мэрилендского табака познакомить их с неизданными мемуарами молодости. Но их вечно постигала неудача. Этот морской лев Гебридских островов, обожженный солнцем Лахора,[140]140
Лахор – город на северо-западе Индостана (Пакистан).
[Закрыть] не попадался в салонные мышеловки, расставляемые на неуемное тщеславие, в те силки для павлинов, где французское фатовство лишается своего хвоста за удовольствие расправить его на людях. Обойти трудность не было никакой возможности. Мармер всегда был трезв, словно турок, чтущий Коран.[141]141
Коран запрещает мусульманам пить вино.
[Закрыть] Он охранял свои мысли, как немой страж – сераль. Я не видел, чтобы он пил что-нибудь, кроме чая и кофе. Карты казались его страстью, но была ли она подлинной или он сам придумал ее – мы ведь придумываем себе страсти, как и недуги? Не была ли она ширмой, за которой он скрывал свою душу? Я всегда предполагал это, глядя, как он играет. Он до такой степени вселил, внедрил, укоренил эту страсть в сердце каждого игрока, что, когда он уехал, отвратительный сплин, сплин обманутой страсти, налетел на наш городишко, словно нежданный сирокко, и придал ему еще большее сходство с английскими городами. Стол для виста расставлялся у Мармера уже с утра. День его, когда шотландец не уезжал в Ваннийер или иной окрестный замок, проходил просто как у всякого человека, зажегшегося навязчивой идеей. Вставал он в девять, пил чай с кем-нибудь из приятелей, пришедших повистовать, и играл до пяти часов пополудни. Поскольку на эти сборища являлось много народа, партнеры менялись с каждым роббером, и те, кто не играл, заключали между собой пари. Впрочем, на этих утренниках присутствовала не только молодежь, но и самые почтенные из горожан. Отцы семейств, как выражались тридцатилетние женщины, тоже осмеливались проводить в этом игорном доме целые дни, и дамы при каждом удобном случае не без умысла сдабривали кислыми виноградными выжимками тартинки сарказмов по адресу шотландца, как если бы тот в лице их мужей привил чуму всей округе: конечно, они привыкли видеть их за игрой, но не столь же неистовой и упорной. Часам к пяти пополудни игроки расходились, но вечером вновь встречались в обществе, где внешне вели чинную игру под присмотром хозяйки дома, но, в сущности, незаметно продолжали то же, чем занимались утром на висте Каркоэла. Предоставляю вам самим догадываться, какой силы игроками сделались эти люди, ничем другим не занятые. Они поднимали вист до высот труднейшего и великолепнейшего фехтовального мастерства. Разумеется, это было сопряжено со значительными денежными потерями, но катастроф и разорений, неизбежных спутников игры, не происходило – им препятствовали ее неистовость и искусство игроков. Силы как бы взаимоуравновешивались, и, кроме того, в таком малом пространстве каждый слишком часто становился партнером другого, чтобы через некоторое время не вернуть свое, выражаясь жаргоном картежников.
Влияние де Каркоэла, которым тайно возмущались рассудительные женщины, не только не уменьшалось, а, напротив, росло. Это понятно. Оно исходило отнюдь не от Мармера – страсть к картам сидела в каждом из обитателей городка, и шотландец лишь столкнулся с нею и, сам не чуждый ей, лишь усугубил ее своим присутствием. Лучший, возможно единственный, способ господствовать над людьми состоит в том, чтобы управлять их страстями. Так мог ли Каркоэл не быть могуществен? У него было то, чем сильно любое правительство, к тому же он и не помышлял кем-то править. Поэтому он достиг такого господства, которое кажется волшебством. Его оспаривали друг у друга. Все время, что он оставался в городе, его всюду ждал одинаковый прием, и назвать этот прием следовало лихорадочным искательством. Женщины, боявшиеся шотландца, предпочитали принимать его у себя, чем знать, что их сыновья и супруги торчат у него, и принимали Мармера так, как женщины принимают того, кто в центре внимания, всеобщего интереса или какого-нибудь движения, даже если они не любят этого человека. Летом Каркоэл проводил недели две, а то и месяц за городом. Маркиз де Сент-Альбан взял его под свое особое попечение – слова «покровительство» было бы здесь мало. В деревне, как и в городе, все время занимал вист. Я помню (я был тогда школьником на каникулах), что присутствовал однажды на великолепной рыбалке – мы ловили семгу в Дуве, и всю ловлю Мармер де Каркоэл просидел в лодке, играя с одним местным дворянином в вист с двумя «болванами» (double dummy). Свались он в реку, он все равно продолжал бы играть!.. Только одна женщина вовсе не принимала шотландца в деревне и почти не принимала в городе. Это была графиня дю Трамбле.
Кого это могло удивить? Никого. Она вдовела, у нее была очаровательная дочь. В иерархическом и завистливом провинциальном обществе, где каждый вторгается в жизнь ближнего, не бывает излишних предосторожностей там, где речь заходит о столь легком индукционном восхождении от того, что видят, к тому, чего не видят. Графиня дю Трамбле принимала эти предосторожности, не приглашая Мармера к себе в замок Стасвиль и открывая ему двери своего городского дома лишь на публике в дни, когда там бывали все ее знакомые. Ее учтивость с ним была холодной и безличной, типичное следствие хороших манер, когда их придерживаются не ради окружающих, но ради себя. Он, со своей стороны, отвечал ей вежливостью того же свойства, и это в обоих было так чуждо нарочитости, так естественно, что четыре года подряд вводило всех в заблуждение. Я уже отмечал: за игрой Каркоэл как бы переставал существовать. Говорил он мало. Если ему требовалось что-то скрыть, он без труда маскировал это своей привычкой к немногословию. Но у графини, если помните, был весьма экспансивный и язвительный ум. Таким умам, блестящим, агрессивным, стремящимся выплеснуться наружу, очень трудно вечно сдерживаться и таиться. Таиться – не то же ли это самое, что изменять самому себе? Однако от змеи у нее были не только ослепительная чешуя и тройное жало, но еще и осторожность. Таким образом, ничто ни умаляло блеск и жесткость ее обычных шуток. Часто, когда при графине заговаривали о Каркоэле, она отпускала на его счет слова, которые свистят и разят и которым завидовала мадмуазель де Бомон, ее соперница в эпиграмме. Даже если это была еще одна ложь, то никогда не бывало лжи более дерзостной. Не объяснялась ли страшная способность графини к притворству сухостью сжатостью ее телесной организации? Но для чего ей было прибегать к притворству, ей, воплощенной независимости по своему положению и насмешливой горделивости характера? Зачем, если госпожа дю Трамбле любила Мармера и была им любима, она маскировала это сарказмами, которыми время от времени его осыпала, отступническими, ренегатскими, нечестивыми шутками, которые оскверняют обожаемого идола, словом, самыми тяжкими кощунствами в любви? Господи, ну откуда мне знать? Быть может, в этом и заключалось для нее счастье…








