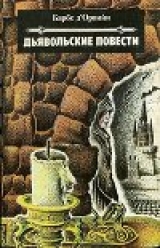
Текст книги "Дьявольские повести"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
В Ластени, несмотря на всю ее невинность, всегда было чуточку больше или меньше того, что нужно, чтобы быть счастливой только в Боге и только Богом. Она выполняла обязанности христианки со всей искренностью и простотой. Она ходила с матерью в церковь, сопровождала ее к беднякам, которых г-жа де Фержоль часто навещала, причащалась вместе с ней по причастным дням, но все это не проливало на ее матовое чело луч, озаряющий юность. «Быть может, ты недостаточно усердна в молитве?» – допытывалась у нее г-жа де Фержоль, обеспокоенная такой необъяснимой меланхолией при столь чистой жизни. Суровый вопрос, суровое сомнение! Ах, лучше бы эта мать, свихнувшаяся от большого ума, схватила руками голову своего ребенка, отягченную иным грузом, нежели копна ее великолепных пепельных волос, и положила ее себе на материнское плечо, эту столь сладостную для дочерей подушку, куда те могут излить свои мысли, слезы и сердце! Но она этого не делала. Она воспротивилась себе самой. Ластени всегда недоставало этой подушки, на которой, пусть даже без слов, говорят всё, и ее – поскольку Ластени знала только общество матери – не заменило даже плечо подруги. Бедное одинокое существо с задыхающейся душой, которая в момент, когда начинается наша история, еще не умирает от удушья!
3
Пост кончился. Было десять часов утра. Дамы де Фержоль вернулись к себе, поприсутствовав на службе и омовении алтаря, поскольку была Святая суббота, а это, как известно, последняя суббота Святого сорокадневья. Особняк г-жи де Фержоль возвышался в центре маленькой квадратной площади, которая отделяла его от церкви XIII века с ее романским фасадом, так удачно передающей своей энергической протяженностью приниженность варвара, в страхе и смирении простершегося перед крестом Иисуса Христа! Площадь, вымощенная мелким булыжником, была так мала, что дамы де Фержоль, постоянно посещавшие церковь по соседству, отправлялись туда без зонтика даже в дождливые дни. Их же собственный дом представлял собой обширное здание, лишенное стиля и восходящее к эпохе гораздо более поздней, чем церковь. Предки барона де Фержоля жили в нем в течение многих поколений, но дом уже не соответствовал роскоши и нравам той эпохи, которая называлась восемнадцатым столетием (и сама подходила к концу). Это древнее и неудобное жилище навлекло бы на себя насмешки и тех архитекторов, чья цель – комфорт, и тех, чья цель – приятность внешних форм; но когда у человека есть сердце, он не считается с насмешками и не продает такие дома. Чтобы иметь право избавиться от них, необходимо, чтобы они превратились в руины, невосстановимые руины, которые притягивают взор и отталкивают его, – нужны горечь и страх! Закопченные углы старых, а иногда и просто облезлых зданий, которые видели наше детство и в которых, может быть, обретаются где-нибудь души наших отцов, возопили бы против нас, продай мы жилище последних по той вульгарной и низкой причине, что оно не соответствует более изнеженности и роскоши века… Г-жа де Фержоль, уроженка не Севенн, а другого края, могла бы, разумеется, избавиться по смерти мужа от его большого и просторного дома, но предпочла сохранить его и жить в нем из почтения к традициям семьи своего возлюбленного мужа, а также потому, что для нее, единственной, кто видел это серое большое нескладное строение духовным взором, стены у него, как у Града небесного, были из золота, несокрушимые сверкающие золотые стены, воздвигнутые любовью в день счастья. Построенное в расчете на то, чтобы давать приют бесконечным поколениям, а на последнее наши отцы уповали с религиозной гордостью, и многочисленной челяди, это вместительное жилище, опустошенное смертью, казалось необъятным с тех пор, как в нем поселились всего две женщины, терявшиеся в его огромности. Дом был холоден, лишен всякого уюта, но внушителен благодаря своей просторности: простор придает величавость не только пейзажу, но и домам; однако даже в таком виде это здание, именовавшееся в городе «особняком де Фержоль», производило сильное впечатление на посетителей высотой потолков, переплетением коридоров и странной непрерывной, как у колокольни, лестницей, настолько широкой, что по ее ста ступеням могли подниматься в ряд четырнадцать всадников. По слухам, такое чудо имело место во время войны с «рубашечниками» и Жана Кавалье.[409]409
«Рубашечники» («камизары») – французские кальвинисты, восставшие в 1701 г. в Севеннах против отмены Нантского эдикта. Кавалье, Жан (1679–1740) – вождь восставших, талантливый полководец.
[Закрыть] На этой грандиозной лестнице, которая казалась выстроенной не для этого дома, а может быть, в самом деле являла собой остаток некогда рухнувшего замка, не восстановленного в своем первоначальном великолепии ввиду неблагоприятных времен и неудач населявшего его рода, – на этой лестнице маленькая Ластени без подружек, чьи игры она могла бы разделить, отделенная от всех печалью и строгой набожностью матери, провела долгие часы своего одинокого детства. Не острее ли ощущала рождающаяся в ней мечтательница в пустоте и свободе исполинской лестницы другую пустоту – пустоту существования, которую должна была бы заполнить материнская нежность, и не приучалась ли она – поскольку души, предназначенные быть несчастными, силятся заранее усугубить чаемое несчастие предчувствием его – взваливать на свое сердце сокрушительную тяжесть лестничного простора поверх сокрушительного груза одиночества? Обычно, когда г-жа де Фержоль, выходившая утром из спальни и возвращавшаяся туда только вечером, предполагала, что Ластени резвится в саду, забытый ею ребенок просиживал долгие часы на немых и звонких ступенях. Она долго пребывала там, подперев щеку рукой, опершись локтями о колени, в позе, неизбежной и привычной для всякого, кто печален, в позе, которую гений Альбрехта Дюрера[410]410
Дюрер, Альбрехт (1471–1528) – великий немецкий художник. Имеется в виду его гравюра «Меланхолия» (1514).
[Закрыть] без труда нашел для своей «Меланхолии», и девушка застывала, нет, почти цепенела в мечтах, словно созерцая, как ее судьба восходит и спускается по грозной лестнице, ибо у будущего, как и у прошлого, есть свои видения, и те, что уходят, быть может, печальнее тех, что возвращаются. Место, бесспорно, влияет на человека, и этот дом из сероватого камня, похожий на большую сову или огромную летучую мышь, рухнувшую с распростертыми крыльями к подножию гор, к которым Ластени сидела спиной, будучи отделена от них только садом, перерезанным посредине портомойной канавой, где в сточных водах черепичного цвета чернели вершины прозрачно-голубых гор, – подобный дом не мог не сгущать своим отражением другие тени, из которых выступало непорочное чело Ластени.
Что касается г-жи де Фержоль, ничто не могло усугубить ее неподвижной печали. Влияние места никак не сказывалось на этой бронзе, подзелененной патиной тоски. По смерти мужа, всегда ведшего широкий образ жизни богатого дворянина и отличавшегося вельможным хлебосольством, она разом предалась благочестию, которое пришло из Пор-Рояля[411]411
Пор-Рояль – в XVII – начале XVIII в. монастырь в Париже, центр французского янсенизма.
[Закрыть] и отпечаток которого в эту эпоху еще лежал на французской провинции. Все, что оставалось в ней от женщины, растворилось в этом благочестии, которое ничего не прощает себе и само себя умерщвляет. Этот мраморный столп она сделала своей опорой, чтобы охладить пылающее сердце. Она устранила всякий намек на роскошь в доме. Продала лошадей и экипажи. Уволила челядь, оставив у себя, как скромная горожанка, лишь одну служанку по имени Агата, которая состарилась за двадцать лет службы у нее и которую она привезла из Нормандии.
Видя эти нововведения, кумушки городка, представлявшего собой, как все небольшие поселения, банку с вареньем из мелочных слухов, обвинили г-жу де Фержоль в скупости. Затем это варево, показавшееся сперва лакомым, засахарилось и приелось сплетницам. Слухи о скупости рассеялись. На поверхность выплыла милостыня, которой, правда скрытно, г-жа де Фержоль оделяла бедных. В конце концов у низких душ, копошившихся на дне темной бутылки, сложилось смутное убеждение в добродетели и достоинствах г-жи де Фержоль, столь скудно жившей на отшибе от всех с таинственным достоинством сдерживаемого горя. В церкви – а видели ее почти исключительно там – прихожане издали с почтительным любопытством рассматривали эту величественную особу в длинных черных одеждах; она неподвижно отсиживала долгие службы на своей скамье под низкими сводами сурового романского рама с коренастыми опорами, словно древняя меровингская королева, восставшая из своей усыпальницы. Действительно, в своем роде это была королева. Не стремясь к этому, даже не думая об этом, она царствовала над мнениями и поведением жителей городка, хотя, конечно, последний не был ее царством. Да, она царствовала там, и если уж не на манер невидимых древних персидских царей,[412]412
Древних греков и римлян поражал пышный церемониал при дворах восточных царей (особенно персидских), где принимались все меры, чтобы подданный не мог заглянуть в лицо владыке: обычай простираться ниц, занавес, закрывающий трон, престол, спускающийся из-под кровли дворца на канатах, и т. д.
[Закрыть] чьей полной незримости, разумеется, не могла достигнуть, то, по крайней мере, почти как они, в силу того отдаления, на котором держалась от маленького узкого мирка, с коим никогда не становилась на короткую ногу.
Пасха в том году пришлась на первую половину апреля, а Страстная суббота у дам де Фержоль целиком посвящалась домашним заботам, носящим в провинции почти торжественный характер. Там производилось то, что именуется весенней стиркой. В провинции стирка – это целое событие. В богатых домах, где заведено, чтобы белья было много, ее приурочивают к началу времени года и называют большой стиркой. «Вы знаете, у госпожи такой-то большая стирка», – сообщают вам как важную новость в доме, куда вы отправляетесь скоротать вечер. Большие стирки делаются в полных доверху чанах, малые, для повседневных нужд, – в бачках. Выражение «у нас сегодня прачки» обозначает одно из самых серьезных, важных и подчас шумных обстоятельств жизни, потому что в большинстве случаев прачки – довольно трудно управляемые особы, порой вольные в обращении, задиристые, прожорливые, не промах выпить, с ногтями, не ставшими мягче от воды, в которой они плещутся целыми днями, и, ко всему, у них медные глотки, грозные фиоритуры которых накладываются на удары валька. «У нас сегодня прачки»– это перспектива, от которой, как правило, холодеет спина у самых властных хозяек дома… Однако в этот день их у г-жи де Фержоль не было. Они уже пронеслись смерчем по «особняку де Фержолей», тишину которого их голоса возмущали в течение нескольких предыдущих дней. Словом, шумная стиральная сессия завершилась еще накануне. Наступил день вывешивания, как до сих пор выражаются в провинции, а для того чтобы снять высохшее белье с веревок в саду, было вполне достаточно старой Агаты и «годичной» гладильщицы. Итак, с самого утра обе эти труженицы, стуча и шлепая сабо по аллеям сада, разукрашенным простынями и наволочками, казавшимися глазам и ушам вздутыми и хлопающими флагами, постепенно снимали, подносили и грудами сваливали их на стулья и круглый стол в столовой, где дамам де Фержоль предстояло отплоить их по возвращении из церкви. Эту обязанность дамы не доверяли никому. Как истая нормандка, г-жа де Фержоль любила белье и передала эту склонность дочери. Она задолго принялась готовить великолепное приданое ко дню ее замужества. И вот, возвратясь домой, обе, словно за приятную работу, поспешно уселись друг против друга в столовой за стол из узловатого темно-красного дерева и принялись в четыре свои аристократические руки, подобно простым поденщицам, плоить простыни, когда в столовую вошла Агата, неся на плече тюк сухого белья, которое лавиной обрушила на стол.
– Святая Агата! (Это была ее «излюбленная божба»,[413]413
Божба, то есть упоминание Бога или святого всуе, есть грех.
[Закрыть] но можно ли поставить в упрек богобоязненной женщине, что она по любому поводу произносит имя своей небесной покровительницы и призывает ее на помощь!) Святая Агата, ну и тяжеленная куча! Вот уж вес так вес! А белье белое, как снег, и сухое-пресухое, и пахнет вкусно! Здесь его больше, чем вам удастся наплоить до обеда, сударыня и мадмуазель. Ну да сегодня с едой можно и подождать: у вас обеих никогда аппетита нет, а капуцин ушел. И ушел так, что уже не вернется… Ах, Святая Агата! Похоже, капуцины так всегда и уходят: ни «здравствуйте», ни «прощайте» людям, дававшим им кров.
Старая Агата, трижды достигшая совершеннолетия с тех пор, как молодой красоткой, кровь с молоком или цвета спелого помидора, какие производит Котантен, она уехала вслед за юной и влюбленной хозяйкой в Севенны после скандального похищения последней бароном де Фержолем, – старая Агата имела право на известную вольность в речах со своими хозяйками. Она завоевала это право. На него у нее было три основания. Во-первых, ее участие в похищении м-ль Жаклины д'Олонд, для чего она немало потрудилась и за что «побывала на зубах у всех собак округи». Два других сводились к тому, что она вырастила м-ль де Фержоль и осталась в сурковой норе, местности, которую ненавидела как дочь края больших быков и привольных пастбищ, на каждом шагу вспоминая свою родину. В довершение следовало бы добавить, что она прожила всю жизнь вместе с хозяевами, а такая связь становится в нравственном плане тем теснее, чем меньше ей остается существовать. Однако, несмотря на добродушие, которое выказывают к маленьким людям важные гордые особы с возвышенной душой, потому что гордость не всегда сродни возвышенным душам, – однако, если бы г-жа де Фержоль, наделенная этими достоинствами, не уволила все двадцать человек своей прислуги, старая Агата, в сущности почтительная, но внешне фамильярная, может быть, и не позволяла бы себе теперешней прямоты и непринужденности в речах.
– Что вы несете, Агата? – неколебимо спокойно возразила г-жа де Фержоль. – Ушел? Отец Рикюльф? Что вам взбрело в голову, моя милая! Сегодня Страстная суббота, а завтра, в Светлое воскресенье, он должен проповедовать на всенощной о Воскресении Господнем, чем всегда и завершаются пасхальные проповеди.
– Ну и что? – отпарировала старая дева, которая была упряма, о чем явственно свидетельствовали и ее нормандский выговор, от которого она доныне не отвыкла, и нормандский чепчик, который она невозмутимо продолжала носить. – Подумаешь! Я знаю, что говорю. Он ушел всерьез и навсегда. Утром его не было в церкви – это мне причетник сказал: прибегает запыхавшись и спрашивает, где отец Рикюльф, а то там целая куча в его исповедальню на исповедь к завтрашнему дню ломится. А мне что отвечать? На рассвете я видела, как он спускался по большой лестнице: капюшон опущен, в руке походная клюка, которую он обычно у себя в комнате за дверью оставлял. Он прошел мимо меня, прямой как палка, и хоть я шла вверх, а он вниз, даже словечка учтивого мне не сказал. И глаза у него были опущены, а я так полагаю, что они у него похуже, когда опущены, чем когда подняты. Я удивилась, чего это он с клюкой, – идти-то ему мессу служить всего два шага отсюда, – и повернулась – дай, думаю, посмотрю, как он спускается, а потом следом и сама до дверей спустилась: куда это он в такую рань собрался? И тут я увидела, что он направился по дороге, проходящей у подножия Большого распятия. Ручаюсь вам: если он за это время не убавил шагу, он теперь в своих сандалиях далеконько отсюда.
– Немыслимо! – запротестовала г-жа де Фержоль. – Ушел!
– Как дым с моей кухни, – перебила Агата. – И так же бесшумно.
Это была правда. Капуцин действительно исчез. Но ни г-жа де Фержоль, ни старая Агата не знали, что у капуцинов в обычае незаметно покидать дом, где им оказали гостеприимство. Они уходят, как приходят Смерть и Иисус Христос. А те приходят, как тать ночью.[414]414
Еванг., 2 Петр., 3, 10.
[Закрыть] – говорит Священное писание. И уходят, как тать ночью. Когда утром входишь к ним в комнату, кажется, что они испарились. Это их обычай, и в этом их поэзия! Разве не сказал о них Шатобриан. знавший толк в последней: «На другой день их искали повсюду, но они исчезли, как те святые видения, которые посещают иногда достойного человека в его жилище»?[415]415
«Гений христианства», IV, кн. III. гл. VI (1802).
[Закрыть]
Однако в пору, когда начинается наша история, не было еще ни Шатобриана, ни «Гения христианства», и дамы де Фержоль до сих пор принимали у себя братию лишь из менее поэтических и суровых монашеских орденов, которые за пределами церкви оказывались вполне светскими людьми и, уходя из домов, где были приняты, проявляли подобающую учтивость.
Впрочем, дамы де Фержоль отнюдь не прониклись к отцу Рикюльфу столь сильным благоволением, чтобы, как Агата, оскорбиться его молчанием и нежданным уходом. Ушел? Ну и бог с ним. Все время пребывания в доме он скорее стеснял их, чем был им приятен. Долго огорчаться они, во всяком случае, не намеревались. Исчез – и не стоит больше о нем думать. Зато старую Агату это задело куда сильнее. Ей отец Рикюльф внушал то необъяснимое и безотчетное чувство, которое зовется антипатией.
– Наконец-то мы от него избавились! – брякнула она, хотя тут же спохватилась: – Может, я и не права, что так отзываюсь о божьем человеке, только, Святая Агата, ничего поделать с собой не могу. Ничего он мне не сделал, а мне все равно дурные мысли насчет его капюшона в голову лезут. Эх, почему он не такой, как те проповедники, что гостили у нас в прошлые года, – душевные, апостольские, ласковые к бедному люду! Помните, сударыня, приора премонстрантов два года назад? Уж до чего был кроткий да душевный! Весь в белом, вплоть до башмаков, что твоя новобрачная. Рядом с ним отец Рикюльф в своей выгоревшей рясе – все равно что волк рядом с ягненком.
– Ни о ком не следует думать дурно, Агата, – отозвалась г-жа де Фержоль для очистки совести: порицая старую служанку, она, как женщина набожная, порицала и самое себя. – Отец Рикюльф, священнослужитель и монах, наделен и верой, и силой убеждения; за все время, что он живет у нас, мы не усмотрели ни в его речах, ни в поведении ничего, что можно бы истолковать ему во вред. Поэтому у тебя, Агата, нет никаких оснований отзываться о нем дурно. Так ведь, Ластени?
– Совершенно верно, матушка! – поддержала дочь своим чистым голосом. – Но не надо бранить и Агату. Мы же столько раз говорили между собой, что в отце Рикюльфе есть что-то неуловимо тревожное. Откуда это происходит? Не думаешь о человеке плохо, а все-таки ему не доверяешь. Вы, матушка, как и я, не пошли к нему исповедоваться, а ведь вы такая сильная и рассудительная!
– И может быть, обе были не правы! – ответила суровая женщина, чей янсенизм по-прежнему докучал ее совести своими советами. – Нам лучше было бы перебороть себя: ведь прислушиваться к ничем не подкрепленным чувствам, которые не давали нам склонить перед ним колени, это уже означает приговор в глубине души, выносить который мы не правомочны.
– Ах, я никогда не смогла бы поступить так, матушка! – простодушно призналась девушка. – Этот человек всегда вселял в меня страх, который я не в силах была преодолеть.
– У него только и речи что про ад! Вечно один ад на языке! – разволновалась Агата, словно ей хотелось оправдать тот страх, что отец Рикюльф внушал Ластени. – Никогда я столько проповедей про ад не слышала. Он нас всех осуждал. Много лет назад знавала я в родных краях у валоньских августинцев одного священника – его все звали отец Любовь, потому как ни о чем другом, как о любви Господней и о рае, он не говорил. Но, Святая Агата, уж отца-то Рикюльфа никто таким именем не назовет.
– Полно! Замолчи! – прикрикнула г-жа де Фержоль, которой хотелось положить конец разговору: он оскорблял милосердие. – Ведь если отец Рикюльф вернется, а я не могу поверить, чтобы он ушел в канун Пасхи, он застанет нас за болтовней о нем, а это не пристало. Словом, так! Раз ты говоришь, Агата, что он не у себя, поднимись к нему в комнату: может быть, он оставил где-нибудь свой требник, и это докажет нам, что он не ушел.
Мать и дочь остались одни. Агата немедленно отправилась с поручением, данным ей хозяйкой. Больше они не добавили ни слова о загадочном капуцине, о котором им нечего было сказать, а слишком много думать – боязно, и они неторопливо принялись за прерванную работу. Какое простое и мирное зрелище представляли собой две эти женщины в высоком и просторном зале, окруженные со всех сторон кипами чистого белья, которое, по словам Агаты, «так вкусно пахло», распространяя вокруг свежий аромат росы и живых изгородей, где его сушили: оно таило этот аромат, словно душу, в своих складках. Женщины были молчаливы, но внимательны к тому, что делали, время от времени расправляя загнувшийся край, причем каждая вытягивала руку до половины неправильной складки и, устраняя ее, прихлопывала по ней прекрасной рукой – одна белой, другая розовой. Розовой была рука дочери, белой – матери. Каждую в целом, как и руки их, отмечал свой тип красоты. Ластени (этот ландыш) была восхитительна в темно-зеленом платье, обвивавшемся вокруг нее, как листья вокруг белого цветка и его меланхолической головки, меланхолию которой подчеркивали пепельные волосы, потому что пепел – примета скорби: в старину, в дни скорби, им посыпали голову; не уступала ей и г-жа де Фержоль, в черном платье, суровом вдовьем чепце и с висками, приподнятыми обильным слоем белил над копной темных волос с мазками гуаши, наложенными не столько годами, сколько горем.
Неожиданно в зал вернулась старая Агата.
– Думаю, что он все-таки ушел, – объявила она. – Я все облазила, но он оставил только вот это. Проповедники ведь всегда что-нибудь оставляют, когда уходят. Кто – образок, кто – реликвию. Это они так благодарят за оказанное гостеприимство. Наш оставил вот это, прицепив к распятию над альковом. То ли хотел их нам подарить, то ли забыл, уходя.
И она положила на простыню, которую плоили хозяйки, тяжелые четки, какие капуцины носили на поясе.
Они были из черного дерева, и среди нескольких Десятков черных бусинок в виде черепов была одна, Разделительная, из слоновой кости, цвет которой делал ее еще больше похожей на череп: казалось, что она извлечена из земли гораздо раньше остальных.
Г-жа де Фержоль протянула руку, благоговейно взяла четки, полюбовалась ими и опустила их на лежавшую перед ней простыню.
– Возьми! – бросила она дочери.
Однако Ластени, приняв подарок, почувствовала, как у нее сводит пальцы, и выронила четки. Уж не черепа ли подействовали так на нервы не в меру чувствительной девушки?
– Оставь их себе, матушка, – промолвила она.
О инстинкт, инстинкт! Иногда наша плоть видит дальше, чем мысль. Не могла же Ластени в этот момент знать причину того, что почувствовали ее очаровательные пальцы!
Что же до старой Агаты, она всегда – как до, так и после этой истории – верила, что четки, которые перебирал руками и на зернах которых оставил свои следы страшный капуцин, отравлены и заразны, подобно перчаткам,[416]416
В XVI в. отравленные перчатки использовались для устранения политических противников. Особенно часто молва приписывала такие злодеяния Екатерине Медичи (1519–1589), жене короля Генриха II и фактической правительнице Франции при ее сыновьях. В частности, Екатерину и ее парфюмера-флорентийца обвинили в отравлении Жанны д'Альбре, королевы Наваррской и матери будущего Генриха IV Бурбона.
[Закрыть] упоминаемым в хрониках времен Екатерины Медичи, хотя бедная служанка слыхом об этих перчатках не слыхивала. В этой вере Агата была неколебима.








