Струны: Собрание сочинений
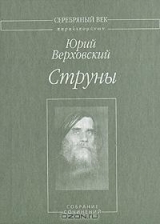
Текст книги "Струны: Собрание сочинений"
Автор книги: Юрий Верховский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
«Пусть ночь греха в душе моей бездонна…»
О, наконец ты на моей груди!
Но недвижим, но бледен, как лилея.
Напрасно я, как мать, тебя лелея,
Шепчу, кричу: «Откликнись! Погляди!»
Как я ждала, в желаньях тайно млея,
Когда один летел ты впереди –
И низко, низко. «Милый мой! Приди!» –
И руки подымала в полумгле я.
Как нежен шеи палевый загар…
Как кротко светит на тебя Плеяда…
Пошевелись, вздохни! Взгляни, Икар!
Любила солнце для тебя наяда!
О солнце! Взгляд твой – злейшая из кар!
Кому, за что – твой кубок, горше яда?!
Il faisait, tn l'honneur de la sainte Mere de Dieu,
less tours qui lui avaient valu le plus de louanges.
Anatole France. «Le Jongleur de Notre-Dame» [3]3
Те действия, которые он предпринимал, чтобы почтить Богоматерь, вызывали наибольшие похвалы. А. Франс «Жонглер Богоматери».
[Закрыть]Как оный набожный жонглер
Перед готической Мадонной…
Вячеслав Иванов
«Ваш голос пел так нежно о гавоте…»
Пусть ночь греха в душе моей бездонна;
Но разве я, один в ночную пору,
Неслышный уху и невидный взору,
Вам не служу, пречистая Мадонна?
Как некогда смиренному жонглеру,
Чья жертва к Вам всходила, благовонна,
Вы – к набожным порывам благосклонна –
И мне откройте путь к святому хору.
Как Барнабэ лишь – стройными делами,
Свершенными молитвенно и тайно,
Вас прославлял один необычайно, —
Так мне моими темными хвалами
Дозвольте воспевать, не именуя,
Мадонна, Вас – и слушайте, молю я.
«Мой друг, еще страницу поверни…»
Ваш голос пел так нежно о гавоте,
Танцованном у старенькой маркизы, –
Что имя бесподобное Элизы
Просилось на уста при каждой ноте.
Влюбленных ревность, ласки и капризы,
Свиданья шепот в полутемном гроте –
И поцелуй при мраморном Эроте,
И тайных нег веселые сюрпризы, –
Всё вспомнилось: любовь была премудра
И в песенке под звуки клавесина.
Ваш взгляд, румянец, милая кузина…
Вот локона развившегося пудра…
Вот новые таинственные мушки,
Как и тогда – на бале у старушки!
«Моя любовь шла голову понуря…»
Мой друг, еще страницу поверни –
И желтую, и нежную страницу;
Вновь вызови живую вереницу
Крылатых снов блаженного Парни.
Полны весенней негою они.
Приветствуй бодро юную денницу –
И в юный мир чрез шаткую границу
Уверенно и радостно шагни.
На фоне утра нежно-розоватом
За стройной нимфой гонится пастух;
Их смех поет хмелеющим раскатом,
Пока румянец утра не потух,
Любуйся им – твоим счастливым братом
И раскрывай влюбленной песне слух.
«Душистый дух черемухи весенней…»
Моя любовь шла голову понуря,
Чтоб скрыть лицо и не видать толпы;
И были тихи, медленны стопы,
Хотя в душе рвалась, металась буря.
Тянулись окна, стены и столпы –
И люди, люди; но, чела не хмуря,
Всё шла она, слегка ресницы жмуря,
Чтоб не сойти с предызбранной тропы.
Дневная жизнь, звеня и пламенея,
Вокруг текла – вдруг деву замечала —
И устремлялась взорами за ней.
Из-под волны распавшихся кудрей
Она безмолвным вздохом отвечала
И шла вперед, склоняясь и бледнея.
Н.
«Заклятую черту перешагни…»
Душистый дух черемухи весенней,
Ее зелено-белую красу,
Одетую в рассветную росу –
Я полюбил душой моей осенней.
Всё жизненней, душистей и бесценней
Моя любовь мне в жизненном лесу;
Всё осторожней я ее несу,
Всё путь мой долгий глуше и бессменней.
Когда ее я вижу в светлой чаще –
Нарядную любимицу мою –
Я взгляд ее невинных таз ловлю –
И мне дышать в глуши всё слаще, слаще,
И долго я любуюсь и стою,
И вновь иду, и счастлив, и пою.
М. В. Сабашниковой
«Под гул костров, назло шумящей буре…»
Заклятую черту перешагни –
И летнюю страду сменит награда –
Лилово-синих гроздьев винограда
И тусклые, и жаркие огни.
Не для тебя высокая ограда.
Покорных лоз объятья разогни,
Отважно душной чащи досягни,
Чтобы узреть царицу вертограда.
В волшебную дрему погружены
Хмельные гроздья. Чуть листвой колышут –
И винный запах в их огне лиловом.
В недвижном воздухе могучим словом
Завороженные, молчат – и слышат
Присутствие таинственной жены.
«Я в роще лавра ждал тебя тогда…»
Под гул костров, назло шумящей буре
Мы продолжали пир торжествовать,
Когда сквозь бор на разъяренном туре
Ты прискакала с нами пировать.
Вино – помин по нашем древнем щуре –
Мы по ковшам спешили разливать;
А ты валялась на медвежьей шкуре.
Мы все тебя бросались целовать.
Ты оделяла нас чудесным даром.
Казалась ты владычицей громов;
Ты хохотала – буря бушевала.
Вдруг бор потрясся яростным ударом.
Умчалась ты – и вспыхнул царь дубов,
За ним – раскрылся черный мрак обвала.
«Я к ней бежал, вдыхая дух морской…»
Я в роще лавра ждал тебя тогда.
Ручьи, цветы – деннице были рады.
Алела розой утренней отрады
У ног моих спокойная вода.
Уж просыпались дальние стада.
Кричали резво юные мэнады.
А я шептал, исполненный досады:
«Нет, не придет уж, верно, никогда».
Вдруг – легкий бег и плеск в воде ручья:
Ты, падая стремглав, ко мне взываешь,
Белеешь в алой влаге, исчезаешь…
Я ринулся к тебе, краса моя.
А за тобой – и смех, и вой кентавра,
И стук копыт гремел по роще лавра.
«На берегу стоял я у решетки…»
Я к ней бежал, вдыхая дух морской,
В забвении томящем и счастливом.
Над голубым сверкающим заливом
Стлал золото полуденный покой.
Вся розовея в пламени стыдливом,
Обвив чело зеленой осокой,
Она ждала с улыбкой и тоской
На лоне волн ласкательно-сонливом.
Вдруг над водой увидела меня…
Слепительные, пенистые брызги,
Прозрачные, пронзительные визги –
Рассыпались, сверкая и звеня.
И плеск далек. Но миг – спешат обратно
В лазурном блеске розовые пятна.
«За темным городом пылали дали…»
На берегу стоял я у решетки.
В ушах звенели звуки мандолин,
Назойливо одолевая сплин.
А нежен был закат и дали – четки.
Скользили разукрашенные лодки.
Чернели полумаски синьорин;
Их нежили и ласковость картин,
И тенора чувствительные нотки.
Как позы женственны, как вздохи сладки.
Но это чей малиновый наряд?
Тяжелые струящиеся складки…
Огромные глаза огнем горят –
Твоим огнем – в разрезах полумаски…
Ты!.. Меркнут звуки… потухают краски…
Надежде Григорьевне Чулковой
«Я думал, ты исчезла навсегда…»
За темным городом пылали дали
Сиянием закатным багреца.
Глухому дню покорного конца
В усталой дреме люди ожидали.
Нежданно мимо моего крыльца
На вороном коне вы проскакали.
За темной тенью бившейся вуали
Я не увидел гордого лица.
Но стройный образ амазонки черной,
Мелькнув на багрянице заревой,
Дохнул какой-то силой роковой.
И тишина казалась чудотворной:
Не я один поникнул головой,
А весь народ одной душой покорной.
«В сияньи электрических огней…»
Я думал, ты исчезла навсегда:
Судьба-колдунья все жалела дара.
И безнадежной едкостью угара
Пьянили дух шальные города.
Так проползли бесцветные года.
Толпа течет; скользит за парой пара
По освещенным плитам тротуара.
И вижу – ты, спокойна и горда.
Твое лицо прозрачное – из воска.
Темнеет брови нежная полоска.
В наряде черном строен облик твой.
И ты стоишь у пестрого киоска.
Как хороши – и шляпа, и прическа,
Стеклянный взор и профиль восковой.
«Я знаю, в той стране, где ночь лимоном…»
В сияньи электрических огней,
Под гул автомобилей и трамвая, –
Толпы не видя, глаз не отрывая
От черт знакомых, шел я рядом с ней.
Стеклянными глазами все ясней
Она глядела, – маска восковая.
И, в радостной беседе оживая,
Сияла ясно страстью давних дней.
Очарованье вечных новых встреч
Под масками – мы оба полюбили.
И сладко радость бережно стеречь!
Да, это ты! Как тьма нам не перечь, –
Горят огни, шумят автомобили,
И мы – вдвоем, и льется жизни речь.
Ночь лимоном
И лавром пахнет.
Пушкин. «Каменный гость»
«Сними же маску с этой робкой тайной…»
Я знаю, в той стране, где ночь лимоном
И лавром пахнет, где любовь поет
Свой добровольный, свой блаженный гнет
Под темным, пышнозвездным небосклоном, –
Там полумаска черная идет
Смиренно-гордым, нежно-дерзким женам.
Покорные им ведомым законам,
Сквозь прорези глядят они – вперед.
Их черт не видно, но они – прекрасны
И потому – свободно-сладострастны,
Капризной тайной красоту покрыв,
Так, затаивши – гордые – порыв,
Они глядят – и знают: жарче солнца
Ответит взор влюбленный каталонца.
«Богатый ливень быстро прошумел…»
Сними же маску с этой робкой тайной –
На кладбище, безмолвною порой.
Открой же мне лицо, открой –
В его красе, как сон необычайной!
Сегодня? В ночь? В судьбе моей случайной
К тебе вхожу не первый я – второй.
Пусть так! От глаз, от уст – желаний рой
Стремит к любви свободной и бескрайней.
И я любим! Мучительный раздор
В душе затих. Ты любишь, донна Анна –
И ты со мной… Как ночь благоуханна!
Постой! Вот он – почтенный командор.
Зови ж его! Пусть видит наши ласки!
Сегодня в полночь ты со мной – без маски!
«Широкой чашей быть – хмельным вином…»
Богатый ливень быстро прошумел,
Серебряный, веселый и прохладный.
Пустынный зной, немой и безотрадный
Он разорвал – прекрасен, юн и смел.
Он – юноша – среди веселых дел
Вбежал сюда, еще к веселью жадный,
Смеясь, хваля какой-то пир громадный,
Блестящими глазами поглядел.
И нет его. Он убежал, спеша.
Словами торопливыми прославил
Он молодость – и радость тут оставил.
На ветках, на стеблях – как хороша!
Алмазная, блестит, звучит, играя,
Поет стихи про пир иного края.
Счастиялегкий венец.
«Довольно». Вячеслав Иванов
Широкой чашей быть – хмельным вином
Налитой до избытка, выше края,
Шипеть, смеяться, искриться, играя
И разливаясь на пиру хмельном.
Широким морем быть – в себе одном
И адской бездны плен, и волю рая
Вмещать безмерно – пышно убирая
Себя валов серебряным руном.
Широким небом быть – и обнимать
За солнцем солнце синевой нетленной
И, распростершись, течь вкруг вселенной.
Широкой песней быть – себе внимать
И шириться так властно и раздольно,
Чтобы сказать самой себе: «Довольно».
СТИХОТВОРЕНИЯ. ТОМ ПЕРВЫЙ. СЕЛЬСКИЕ ЭПИГРАММЫ. ИДИЛЛИИ. ЭЛЕГИИ
СЕЛЬСКИЕ ЭПИГРАММЫ
I. «Как поучительно краткий досуг отдавать переписке…»Борису Лопатинскому
II. «В комнате светлой моей так ярки беленые стены…»
Как поучительно краткий досуг отдавать переписке
Старых – своих же – стихов: каждый в них виден изъян,
Видишь разрозненность их, и к цельности явно стремленье;
Пусть лишь осколки в былом, стройный в грядущий чертог:
Всякий художник рожден для единого в жизни творенья. –
Друг! Изреченье твое ныне я вспомнил не раз.
III. «В комнате милой моей и день я любить научаюсь…»
В комнате светлой моей так ярки беленые стены.
Солнце и небо глядят ясно в двойное окно,
Часто – слепительно-ясно; и я, опустив занавеску
Легкую – легкой рукой, ею любуюсь. Она –
Солнцем пронизанный ситец – спокойные взоры ласкает:
В поле малиновом мил радостных роз багрянец.
Крупную розу вокруг облегают листья и ветви;
Возле ж ее лепестков юные рдеют шипки.
Следом одна за другою виются малиновым полем;
Солнце сквозь яркую вязь в комнату жарко глядит,
Кажется, даже и бликов отдельных живых не бросая,
Ровным веселым огнем комнату всю приласкав.
Легкий румянец согрел потолок, и печку, и стены,
Белую тронул постель, по полу, нежный, скользнул,
Тронул и книги мои на столе, и бумагу, и руку…
Стены ль милей белизной? Роза ль румянцем белей?
IV. «Право, мой друг, хорошо на сельской простой вечеринке…»
В комнате милой моей и день я любить научаюсь,
Сидя часы у стола за одиноким трудом,
Видя в окно – лишь сруб соседней избы, а за нею –
Небо – и зелень одну, зелень – и небо кругом.
Только мой мир и покой нарушали несносные мухи;
Их я врагами считал – злее полночных мышей;
Но – до поры и до времени: мыши-то вдруг расхрабрились,
Начали ночью и днем, не разбирая когда,
Быстрые, верткие, тихие – по полу бегать неслышно,
Голос порой подавать чуть не в ногах у меня.
Кончилось тем, что добрые люди жильца мне сыскали:
Черного Ваську-кота на ночь ко мне привели.
Черный без пятнышка, стройный и гибкий, неслышно ступал он;
Желтые щуря глаза, сразу ко мне подошел;
Ластясь, как свой, замурлыкал, лежал у меня на коленях;
Ночью же против меня сел на столе у окна,
Круглые, желтые очи спокойно в мои устремляя;
Или (всё глядя) ходил взад и вперед по окну.
Чуткие ноздри, и уши, и очи – недобрую тайну
Чуяли; словно о ней так и мурлычет тебе
Демон, спокойно-жесток и вкрадчиво, искренне нежен.
Тронул он их или нет – как не бывало мышей.
Я же узнал лишь одно: в обыдённом почувствуешь тайну, –
Черного на ночь кота в спальню к себе позови.
V. «Как прихотливы твоих эпиграмм венецейских, о Гёте…»
Право, мой друг, хорошо на сельской простой вечеринке
Было, тряхнув стариной, мне засидеться вчера.
Девичьи песни я слушал, смотрел на игры, на пляски.
В окна раскрытые нам веял прохладой рассвет…
Только скажу – заглядевшись в окно, я подумал невольно:
Мог бы я дома сидеть, мог бы я Гёте читать!
VI. «Что за чудесная ночь! Лучезарнее звезд я не видел…»
Как прихотливы твоих эпиграмм венецейских, о Гёте,
Строки, – как струны стройны, – в трепете жизни живой.
Гёте и Пушкин – вы оба – и шутки в песнях шутили
Те, что и в жизни самой. Песня вам – жизнью была.
VII. «Свет этих звезд дотекает к земле мириады столетий…»
Что за чудесная ночь! Лучезарнее звезд я не видел.
Грудь не устанет вдыхать теплую душу цветов;
Груди ж дышать не тяжко ль? Напрягши ревностно шею,
К звездам лицом я к лицу голову поднял, о ночь!
VIII. «Тихо. Так тихо, что слышу: в соседней избе, полунощник…»
Свет этих звезд дотекает к земле мириады столетий;
Диво ль, что, к ним, обратясь, кружится вдруг голова?
IX. «Пусть понедельник и пятницу тяжкими днями считают…»
Тихо. Так тихо, что слышу: в соседней избе, полунощник,
Песню заводит сверчок, – словно родную, поэт!
Не вдохновеннее ль там он скрипит за теплою печкой,
Чем, у ночного окна, я – беспокойным пером?
X. «Мощного Шумана слушал, за ним – чарователя Грига…»
Пусть понедельник и пятницу тяжкими днями считают;
Среду и пятницу пусть строгим постом облекут;
Все дни у Бога равны на земле; а на этой, родимой,
Верю, под кровом благим мирно они протекут.
XI. «Яркий, лучисто-блестящий сквозь темные ветви густые…»
Мощного Шумана слушал, за ним – чарователя Грига,
Регер потом прозвенел, «прокарильонил» Равель.
Что же мудреного в том, что слабый мой голос срывался,
С Шубертом песней роднясь и с Даргомыжским томясь?
XII. «Дружбой недавней, но дальной я новые начал страницы…»
Яркий, лучисто-блестящий сквозь темные ветви густые, –
Радостен пруд голубой, в зелени парка сквозя.
Счастлив ли ты, вспоминая бывалые летние песни?
Просто ль доволен опять сладостью лени былой?
XIII. «Сладко меж зреющих нив проезжать на склоне благого…»
Дружбой недавней, но дальной я новые начал страницы;
Грусти – как пыли – налет их не покрыл ли слегка?
Ныне – среди их, в конце ли – старое дружество близко.
Радость в стихах, как в цветах, утренней блещет росой.
XIV. «Дети деревней бегут – обогнать гремящую тройку…»
Сладко меж зреющих нив проезжать на склоне благого
Тихого, ясного дня; свежею ширью дышать,
Духом ржаным да овсяным. И дышишь, смотришь. Невольно
Взгляд замечает иной, мало привычный узор:
Нивы лежат предо мною; но где ж полосатыенивы?
Да, ведь теперь хутора здесь разбросались и там.
XV. «Плыл я бушующим морем, стремился путем я железным…»
Дети деревней бегут – обогнать гремящую тройку,
Ей ворота отворить – и получить за труды.
Слышат обет: вот поедем назад – привезем вам баранок!
Глупые злобно кричат баловни кучеру вслед.
Всё ж не понятен ли больше обманутой голос надежды
Голоса веры слепой в путь предстоящий – назад?
XVI. «В зале знакомом старинном в углу я сидел на диване…»
Плыл я бушующим морем, стремился путем я железным;
Отдых – проселки одни для деревенской души.
XVII. «В парке – на небе ночном, я вижу, резко темнеет…»
В зале знакомом старинном в углу я сидел на диване
И простодушный напев старых романсов внимал.
В окна сквозь ветви июльская ночь звездами глядела;
В душу гляделась звездой глупая юность моя.
XVIII. «Юный, сквозь ветви березок краснеющий месяц июльский…»
В парке – на небе ночном, я вижу, резко темнеет
Елки, одной на пути, край жестковатый, косой.
Мне показалось минуту, что вот предо мной кипарисы
В звездную темную ночь дальной чужбины моей.
Да, но ужели же сердце, любившее годы и годы,
В милом своем далеке бьется и новой тоской?
XIX. «Как не люблю на стене и в раме олеографий…»
Юный, сквозь ветви березок краснеющий месяц июльский
Только над нивою всплыл, вот – уж садится за лес.
Тихо в ложбину спускаюсь – и он из глаз пропадает;
Дальше – еще, хоть на миг, вижу я, с горки, его.
Так и обратно иду, – а в небе нежно-зеленом
Светом прощальным горит алая низко заря.
Думаю: редко ли в жизни, хоть только старое мыслям
Скажешь ты, вечер, – душе новую тайну шепнешь?
XX. «Верно, певец, ты порою свои недопетые песни…»
Как не люблю на стене и в раме олеографий,
Так их в природе люблю, коль ими можно назвать
Черное море в сиянье лазурно-златого полудня,
Месяц над купой берез, ясный над нивой закат.
XXI. «Радуюсь я, в незнакомке узнав подругу-шалунью…»
Верно, певец, ты порою свои недопетые песни
Сызнова хочешь начать, с думою грустной о них?
Правда, не спеты они; но в душе не звучали ль живые?
Те пожалей, что могли б, но не запели в тебе.
Лучше ж – и их позабудь ты, счастливый душою певучей:
Жалок один лишь удел – душ от рожденья немых.
XXII. «Нынче на старый балкон прилетел воробей – и бойко…»
Радуюсь я, в незнакомке узнав подругу-шалунью,
Странный надевшую плащ, чтоб озадачить меня.
Счастлив я милой моей любоваться, привычно-прекрасной,
Если предстанет она, новой одеждой блестя.
XXIII. «Слушай, художница. Нынче опять я ходил любоваться…»
Нынче на старый балкон прилетел воробей – и бойко
Прыгал, чирикал, смельчак, словно приучен давно
Крошки клевать на полу, получая с ними и ласки;
Мне поневоле тогда вспомнился тотчас Катулл.
Вижу я: в трепетных пятнах и легкого света, и теплых
Тихих зыбучих теней, брошенных сетью плюща, –
Прыгнул воробушек раз, и другой, и вспорхнул – но куда же?
Птичкой порхнула мечта, резвая, следом за ним:
Вот, над перилами, листья, и нежная белая ручка,
Юная грудь, и плечо девушки милой… Увы!
Тщетно желал ты, бедняжка, коснуться остреньким клювом
Девичьих нежных перстов… Лесбии не было здесь!
Л. Верховской
XXIV. «Ночь и дождь за окном, и я у двери оставил…»
Слушай, художница. Нынче опять я ходил любоваться
Месяцем, рдяным опять. Той же дорогою шел –
Всё мимо ели, любимой тобой. Ты ее собиралась
Верной бумаге предать яркою кистью своей.
Ею ты днем восхитилась. Она и правда прекрасна
Мощной и свежей красой, ветви раскинув, стройна,
Темные – в ясной лазури; под ними – в солнечном свете –
Нивы ковром золотым, пышным далеко блестят;
Далее – зеленью мягко луга светлеют; за ними
Темной полоскою лес небо, зубчатый, облег;
Выше, в живой синеве, ее обняв и лаская,
Взорам приятна опять темных ветвей бахрома,
Близких, обильно-лохматых, широкими лапами низко,
Низко свисающих к нам – рамой живой. Но смотри:
Космы разлапых ветвей уж почти почернели на небе
Синем глубоко; меж них звезды, мигая, горят –
Крупные первые звезды – и, странно рдея без блеска,
Месяц проглянул внизу пятнами света в махрах
Хвои, не то – клочковатой разметанной шкуры; под нею –
В небе без отблеска – глянь: гроздь играющих звезд;
В их переменчивом свете, едва уловимом, но нежном,
Легкой подернуты мглой нивы, и травы, и лес;
Влажный чуть зыблется воздух, прохладными нежа струями,
И тишина, тишина… Но – ты не слышишь меня?
Ах, понапрасну речами художнице я о прекрасном
Думал поведать: могу ль живописать, как она?
Может, заране за дерзость мою я наказан: замедлив,
Месяц увидеть с горы лишний разок – опоздал.
XXV. «Молвил однажды Катулл: не видим сами мы торбы…»
Ночь и дождь за окном, и я у двери оставил
Мокрую обувь и плащ; спички нашарил впотьмах,
Лампу скорей засветил – и узор занавески знакомый,
Полузакрывшей окно, выступил ярко на свет;
Мухи вокруг зажужжали, и дождь за окошком лепечет;
Я же невинно пишу в старой тетради моей
И о шумящем дожде, и о мухах жужжащих – и разве
Так уж блажен мой покой, чтоб о дожде мне грустить?
XXVI. «Вот из Парижа письмо, а вот – из Швальбаха. Други!..»
Молвил однажды Катулл: не видим сами мы торбы,
Что за спиною у нас. Торба моя – тяжела;
Что в ней за ноша – не знаю, во многом грешный; но боги
Да не завидуют мне Цезий, Суффен и Аквин!
Если ж прогневал вас этой мольбой, простите, благие:
Чудятся мне за спиной всё эпиграммы мои.
XXVII. «Лесбии нет в эпиграммах моих; или только мечтою…»
Вот из Парижа письмо, а вот – из Швальбаха. Други!
С яркой палитрой один, с лирою звонкой другой.
Рад я внимать повторенные сладостной дружбы обеты,
В милой уездной глуши письмами вдвое счастлив;
Рад – и еще возвышаюсь душой в чистоте угрызений:
Скольким недальним друзьям, вечно с пером – не пишу!
XXVIII. «Если, усталый, ты хочешь пожить и подумать спокойно…»
Лесбии нет в эпиграммах моих; или только мечтою,
Словно пустынник во сне, женственный образ ловлю.
Вот отчего эти строки одна на другую похожи:
Тщетно уюта искать – там, где живет холостяк.
Если, усталый, ты хочешь пожить и подумать спокойно,
Если не прочь, уступив слабости милой, писать, –
В домике сельском, где ты – в радушном уединенье,
Кстати услуги тебе глухонемого слуги.
Изредка входит старик, издающий странные звуки,
Быстрый в движеньях живых, и, улыбаясь тебе,
Грустными смотрит глазами и свой разговор начинает
В знаках – житейски простой и торопливый всегда.
Ты, – не поймешь ли, поймешь, – а порой одинаково чуешь
Некий таинственный мир ясности и тишины.








