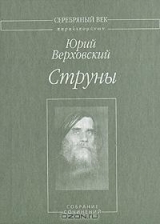
Текст книги "Струны: Собрание сочинений"
Автор книги: Юрий Верховский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Тифлис. 29.III.912
Вячеслав дорогой!
Слушай:
L’Amor che move il sole e I’altre stelle.
L'Amor– сила движущая, вдохновительная, певучая, ею движутся:
ilsole– сила творящая, дающая свет, и цвет, и образ, живописующая; и –
l'altre stelle– силою, дающей свет, засвеченные – силы, дающие познание и правящие волей живущего.
И как Любовию движется солнце, так Солнцем воспламеняются – как и оно движимые любовью – Другие Звезды.
Одна из этих звезд – звезда Поэта.
Луч ее – слова его.
Если он поэт символический, то луч его звезды – слом его – преломляясь в призме чужой души, оставаясь лучом словом, – горит и радугой завета.
* * *
Когда поэт, как бы закрыв глаза, весь отдается певучей силе, он одного ждет от своих творений: dulcia sunto – и тогда слово его – песня и молитва.
Когда поэт, как бы не слыша – не слушая, широко раскрывает глаза свету, и цветам, и образам, служит, живописуя, сим творящей, он желает от своего творения, чтобы оно было ut pictura, – и тогда слово его – образ и заклинание.
Когда поэт, и видя, и слыша («Раскрылись вещие зеницы» – «Слух, раскрываясь, растет, как полуночный цветок») проникается силою, дающею познание, он жаждет своими творениями высказать в полноте тайну, им познаваемую, – и тогда слово его звучит песней и сияет образом, но хочет только – быть словом; оно – и молитва, и заклинание, но прежде всего – исповедание.
Если поэт – символический, то песней его другой воспоет свои молитвы, его образами выразит свои заклинания; его словами выскажет свое исповедание: тройное очарование.
Итак, соответственно трем основным силам – три стихии творчества; несомненно – три и несомненно – органически-различные.
* * *
Цель символизма – катарсис, освобождение души. Не его ли, как личность самоцельная, достиг вполне Гёте, он, перед загробною жизнью, по слову Боратынского –
здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Всё дольнее долу отдавший?
Не о таком ли освобождении своем свидетельствует Боратынский? –
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бушующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая,
И мир отдаст причастнице своей.
Здесь – вера в актуальное могущество искусства (болящий дух врачует, искупит заблужденье, укротит страсть) и вера – для себя, а рядом – для другого. Ср. пьесы: «Благословен святое возвестивший»; «На посев леса» (конец); «О мысль, тебе удел цветка». – Для Боратынского поэзия сама по себе есть согласное излияние души. Она может быть излита и при помощи певучей силы: песнопенье; ср.: «…голос мой незвонок» («Мой дар убог…»); ср.: «Бывало, отрок, звонким кликом…»; «Когда твой голос, о поэт, смерть в высших звуках остановит» (о Лермонтове). Может быть излита душа и при помощи силы творящей, живописующей:
Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел
<…>
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.
(«Скульптор»)
Но для него, для Боратынского» поэт по преимуществу художник слова; силами, данными ему, прежде всего силами мыслипознающий – тяжко и трудно – тайну и о ней рассказывающий:
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова,
О жрец ее!..
Он готов завидовать художникам – кумиротворцам и – певцам:
Резец, орган! Кисть! Счастлив, кто влеком
К ним, чувственным, за грань их не вступая.
Для поэта слова перед мыслью – «как пред нагим мечом» – «бледнеет жизнь земная». – И одна «забота земная» остается для него – «сына фантазии», для него – «привычного гостя» на пире «неосязаемых властей». Но этой заботе дает «исполинский вид» только мечта поэта:
Коснися облака нетрепетной рукою –
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.
(«Толпе тревожный день приветен…»)
Как врата эти откроются для поэта? Поэт – пророк – «не в людском шуму» –
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок.
(«Бокал»)
Но пророк должен идти к людям («Символизм имеет дело с человеком») – и Боратынский жаждет «слушателя»:
Я дни извел, стучась к людским сердцам.
(«На посев леса»)
Однако в действительной жизни он не находит, а только может себе представить и ярко изобразить среду, воспринимающую художества с тою же силой, с какою поэт его творит. Это было,
Когда на играх Олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов Он пел, питомец муз.
(Рифма)
Теперь же певец – «сам судия и подсудимый». Однако – истинная поэзия для него действенна:
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей.
Разрешает ее – «Гармонии таинственная власть».
А вот как Боратынский понимал гармонию и как к ней восходил: вот на человека –
Одни других мятежней, своенравней
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизне давней,
Стихийному смятенью отдан он.
(NB – «древний хаос» Тютчева)
(«Последняя смерть»)
Нам надобны и страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища.
(Череп)
И веселью, и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.
(«Наслаждайтесь…»).
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
(«Благословен святое возвестивший…»)
Страстей порывы утихают;
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законы вечной красоты.
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.
(«В дни безграничных увлечений…»)
См. еще о гармонии: «В глуши лесов…» – «Звезда» – «А. А. Воейковой» – «Она» – «Лазурные очи» – «На смерть Гёте» – «Весна» – «Ахилл» – «Еще как патриарх» – «Молитва». Власть гармонии – таинственна:
Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор
И нежностью горит.
(«Звезда»)
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.
(«Она»)
И при тебе душа полна
Священной тишиной.
(«А. А. Воейковой»)
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.
(«Молитва»)
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье –
действенное значение поэзии.
И если бы Боратынский верил в душу, всецело его душе отвечающую по способности и силе восприятия его творений, то не только о своей душе сказал бы он:
И чистоту поэзия святая,
И мир отдаст причастнице своей.
Но – эта чистота и этот мир для другойдуши, если они – следствия истинного символического искусства, лежат уже вне его, т. к. символизмискусства лежит внеэстетических категорий. И певец, поскольку он выражает не личное, не свое, а – «старец нищий и слепой» – беседует с музою всенародной –
Безымянной, роковою, –
поскольку он… не поэт:
Ты избранник, не художник! –
говорит ему Боратынский:
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горнем клире
Звучен будет голос твой.
(«Что за звуки мимоходом…»)
(Как, однако, построить эстетику символического искусства, если символизм лежит вне эстетических категорий?)
Вот отрывочные примеры того, как Боратынский понимал и в отдельных чертах практически создавал поэзию как искусство символическое. Еще такие черты.
Будить в слушателе ощущения непередаваемые. Почти все лучшие стихи Боратынского таковы.
Вызывать чувство связи вещей, эмпирически разделенных. Простейшие примеры: «Рифма» и «На посев леса».
Слова – эхо иных звуков. Особенно чувствуется, например, в пьесах: «А. А. Воейковой» – «Своенравное прозванье…»– «Звезда» – «Буря» – «Она» – «Как много ты в немного дней…»– «Небо Италии» – «Недоносок» – «Рифма» – «Молитва» и др.
Творить малое великим: наглядные примеры – совсем по–разному: «Филида» – «Что за звуки мимоходом».
Эластичность образа, его внутренняя жизнеспособность.
Актуальная свобода. – Всё это есть в поэзии Боратынского, – не потому ли, что он, как художник – и певец, и живописец – пластик, и – тайновидец, правящий волею того, кто отдается ему?
* * *
Боратынский – поэт противочувствий, художник разлада, для него душа человеческая – «недоносок», витающий –
крылатый вздох
Меж землей и небесами;
«чуждый земного края», но и – слабо слышащий «арф небесных отголосок». Мы слышали от Боратынского, что для него «отчизна давняя» человека – «стихийное смятение», тютчевский «древний хаос», «родимый». И как у Тютчева – сердце его бьется «на пороге как бы двойного бытия».
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться –
(«Дельвигу»)
удел наш, людской. Но мы, художники –
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
(«Благословен святое возвестивший…»)
Сияние – тьма.
Мысль – чувственное. («Всё мысль…»)
Надежда и волнение – безнадежность и покой («Две доли»).
Истина – «О юных днях слепое сожаленье» («Истина»).
Державный Рим – Призрак-обвинитель («Рим»).
Мир явный – мир мечты («Фея»).
Света шум – Тишина кладбища («Череп»).
Взоры друзей – Светлый взор звезды («Звезда»), Природы чин – Буря хляби морской.
Медленная отрава бытия – Зов к давно желанной брани («Буря»).
В живой радости – Тоска («Когда взойдет…»)
Эмпирей – Хаос («Последняя смерть»).
Мечта необъятная – Таинственная тоска («Она»), Поэтическая мечта – Посторонняя суета («Чудный град»). Небесные мечты – Откровенья преисподней («Бокал»), Легкокрылые грезы, дети волшебной тьмы – видения дня («Толпе тревожный день приветен…»). (NB. Недаром вообще антитеза – любимый ход мысли, любимый прием Боратынского). Художник разлада, поэт противочувствий находит согласие и строй в редкие моменты воспоминаний («Воспоминания», «Деревня», «Запустение»), спокойной любви («Она», «Лазурные очи», «Своенравное прозванье», «Когда, дитя…»), веры («Звезда», отрывок из поэмы «Вера и Неверие», «Имя», «Мой Элизий», «Мадонна», «Ахилл», «Молитва»), близости к природе («Деревня», «Водопад», «На смерть Гёте», «Весна, весна!»). – Пьесы пластические («Наяда», «Алкивиад», «Ропот», «Мудрец», «Еще как патриарх…»), свидетельствуя нам обретения художника, косвенно (особенно для Боратынского) говорят нам о достигнутой гармонии души человека. Но наиболее полной, наиболее ощутимой и прочной гармонией, наиболее полным жизненным примирением, наиболее стройным разрешением душевных противочувствий и умственного разлада – является творчество, художество не в себе самом (как утешение, отвлечение, услаждение), а как живая жизнь, часть жизни остальной, лежащая, как и она, вне критериев эстетических. Прежде всего такова роль искусства (и самого процесса творчества: NB пьеса «Скульптор») для души самого художника как человека:
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей.
…И в звучных, глубоких отзывах сполна
Всё дольное долу отдавший
К предвечному легкой душой возлетит.
(На смерть Гёте)
О сын фантазии!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною.
(Толпе тревожный день…)
Ср. «Здравствуй, отрок сладкогласный…» – «Скульптор» – «Бокал» – «Последний поэт».
Даже дети поэзии таинственных скорбей, но могучие («На посев леса»).
Благой результат прозрения художника в жизнь через совершенное и совершённое искусство – таков:
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.
(«В дни безграничных увлечений…»)
Мысль о жизненном, житейском благе <…> разительно высказана в поэме «Мадонна». И как для проявления действенной силы художества нужен ему нехудожник воспринимающий, близок он или далек, на это указывает Боратынский в названной выше пьесе «Рифма». Также ср. выше:
Я дни извел, стучась к людским сердцам.
Об этом слушателе-потомке говорит он еще:
Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньи.
(«Мой дар убог…»)
Ср. еще: «О мысль, тебе удел цветка…»
Как к явному следствию этих прозрений самосознание приходит к равнодушию высокому– поэта («В глуши лесов…»), к любви высокой – человека («Кн. Вяземскому – посвящение», «Сумерок»).
Таково то «необщее выраженье», какое мы видим на лице Музы Боратынского. Оно говорит нам, что
1) Боратынский – поэт символический;
2) Он сам сознавал себя таковым.
Не отзовешься ли на это, милый?
Твой Юрий Верховский
ПРИЛОЖЕНИЕ II
АВТОБИОГРАФИЯРодился я 23 мая ст. ст. 1878 г. в имении моего дела с материнской стороны М. П. Иванова сельце Гришневе Духовщинского уезда Смоленской губернии; но все детские и почти все юношеские годы провел в Смоленске, где отец мой был присяжным поверенным. Лето проводил всегда в деревне. В родительском доме были заложены основы тех вкусов и стремлений, которыми впоследствии определились основные линии моей жизни. Рос я в одинаковых условиях с моими братьями и сестрами; но оба брата (один старше меня, другой моложе) пошли со временем по другой дороге (химия, агрономия); обе сестры сделались художницами. Литература, музыка, отчасти живопись были, с тех пор как я себя помню, обычной, так сказать, атмосферой нашего дома. Классическая поэзия (Пушкин, Шекспир), классическая музыка (Глинка, Бетховен) – с тех пор вошли в меня. Но было, разумеется, и другое. С ранних лет узнал Щедрина и Свифта; попозже, но все-таки там же – Сологуба (в Северном Вестнике) и Метерлинка. В концертах переслушал тогдашних москвичей (Хохлов) и кое-кого из европейских (Рейзенауэр). Учился я сперва у матери (кроме того, француженки, немки, учителя музыки и рисования), потом поступил в Смоленскую классическую гимназию. Гимназия была весьма архаическая, учился я там очень плохо. Однако после, вспоминая, находил, что и там кое-чему выучился, хотя дополз только до пятого класса. Например, учитель словесности, несколько опустившийся и отсталый старый человек, С.П. Писарев, любил всё же литературу и старину, когда-то участвовал в трудах Общества Любителей Древней Письменности, много поработал для истории Смоленска и для устройства смоленского историко-археологического музея – и отчасти умел передавать ученикам свою любовь. После меня перевели в Ларинскую гимназию в Петербурге, где сперва я жил у дяди в Галерной Гавани, а потом тоже на Васильевском острове с тетушкой и старшим братом и сестрой. Ларинская гимназия на первых порах показалась мне прекрасной, но и потом, при всех ее недочетах, я продолжал любить ее. Вспомяну ровесников – В.В. Майкова, племянника поэта, редактировавшего сочинения Дельвига, и Н.М. Тупикова, автора словаря личных собственных имен (по древним памятникам). Еще в Смоленской гимназии успели завязаться первые дружеские связи – такие, которые не порвались. И тут встретились добрые, славные товарищи и друзья. Было молодое общение; были, как водится, разговоры и споры, и решение традиционных проклятых вопросов. Жили и литературой и музыкой. Одним из близких тогда товарищей моих был Ю.Д. Беляев. Когда кончал гимназию, узнал, что такое «прошлое»: целая полоса жизни отошла.
Со смертью отца вся семья перебралась в Петербург, на Васильевский остров. Смоленские связи стали ослабевать, ездили только на лето в деревню – еще несколько лет. В Университете я сразу пошел по своей линии – историко-филологической – и через два года (как тогда полагалось) без колебаний избрал Романо-Германское отделение – романский отдел – с тем, чтобы и новой русской литературой с толком заниматься впоследствии. Великим счастье считаю, что успел поучиться у Александра Николаевича Веселовского. Он был еще в полной силе своей, читал ряд курсов, вел занятия. Особенно вспоминаю курс его о Петрарке (тогда писалась работа: «Петрарка в поэтической исповеди canzoniere») и семинарий по провансальской поэзии. Другими учителями были его ученики. С Д. К. Петровым (помимо его курса испанской драмы) читал испанские романсы и Сервантеса. С Р. О. Ланге – Aucussin et Nicolete и Pererinage de Charlemagne; с А. О. Бирманом (у него на дому) Chanson de Roland. Итальянскому языку учился у Р. Лоренцони. Слушал курсы Ф. А. Брауна и у него занимался германистикой (готский язык). «Кандидатскую» работу писал у Веселовского по вульгарно-латинской поэзии – о вагантах или голиардах. Словом, плавал в старой западной словесности. По русской литературе слупил И. Н. Жданова, по истории – Н. И. Кареева и С. Ф. Платонова. Занятия у Ф. Ф. Зелинского (Ars Poetica Горация) и М. И. Ростовцева (Эпиграфика); исторический семинарий Г. В. Форстена (Philippe de Commines) и кружок историков и историков литературы под руководством А. С. Лаппо-Данилевского: из него потом вышел небольшой товарищеский кружок для обмена отчетами о текущей исторической литературе разных специальностей.
По окончании курса (1902) я был оставлен при университете А. Н. Веселовским, продолжал заниматься и видеться с ним, но не магистрировал: я уже переходил к истории новой русской литературы. Честью почитаю, что один из переведенных мною сонетов Петрарки включил он в свою классическую книгу. Западноевропейские литературные интересы поддерживались во мне и Неофилологическим обществом, душою которого (как и Романо-Германского отделения) был его основатель А. Н. Веселовский и которое тогда я жадно посещал. На долгое время отошел я от западноевропейской литературы после кончины А. Н. Веселовского. В поисках занятий с некоторым заработком и близких к кругу моих интересов я стал работать у академика К. Г. Залемана в Азиатском Музее – по разборке, описанию и каталогизации библиотеки академика А. А. Куника (1903). После кратковременной и неудачной попытки начать службу в Публичной Библиотеке, где несколько месяцев пробыл я «аспирантом» в отделении полиграфии и не ужился с покойным И. М. Болдаковым, я еще попытался служить и 1903—1904 г. пробыл библиотекарем Политехнического Института. Некоторая связь с Академией Наук, завязавшаяся еще при А. Н. Веселовском и начавшаяся с библиотеки, стала немного ближе уже без него. Сын его, А. А. Веселовский, передавая наследие отца Академии, собрал его учеников для предварительного обсуждения дела и рассмотрения оставшихся ученых материалов. Собрание поручило Д. К. Петрову и мне разборку и систематизацию рукописей покойного великого ученого. Затем при Академии Наук была образована Комиссия по изданию Сочинений А. Н. Веселовского под председательством академика А. А. Шахматова. Избранный ее секретарем, я работал месте с Д. К. Петровым, редактором серии Италия и Возрождение, над приготовлением ее к печати и провел корректуры трех томов: т. III, т. IV вып. 1 и т. IV вып. 2. – Занимаясь – уже давно – поэтами Пушкинской поры, я сосредоточился на Е. А. Боратынском. Моей работой заинтересовался покойный А. А. Шахматов. Всем памятна его необычайная отзывчивость, его бережная чуткость и деятельная готовность на помощь людям науки. Ему я обязан ученой командировкой, давшей основной материал для главной моей работы. Не могу не помянуть благодарной памятью нескольких исключительных лиц, с которыми судьба свела меня в эти две ученые поездки: большую радость давало мне и дальнейшее общение с ними. Это, прежде всего, в нечуждом мне и ранее Татеве (Смоленской губ.) В. А. Рачинская; затем в Казани и Казанской губернии О. А. Боратынская, урожденная Казем-Бек, З. Е. Геркен, урожденная Боратынская (дочь поэта) и А. Н. Боратынский (внук его); далее – в Маре (Тамбовской губ.) и в Тамбове – баронесса Е. А. Дельвиг (дочь поэта) и А. С. Боратынская – и М. А. Боратынский, генеолог и владелец архива; наконец – в Симбирске – Ю. Н. Языков. – Привезенные мною материалы были изданы Академией только в небольшой части (Татевский архив); архивы Казанский и Тамбовский ждут издания. – Вскоре по возвращении из второй ученой поездки я по предложению А. А. Шахматова вошел в качестве члена в состоявшую при Академии миссию по изданию Библиотеки Русских Писателей. Издание Боратынского тогда не было свободно (впоследствии оно перешло к М. Л. Гофману); по предложению покойного академика Н. А. Котляревского я взял на себя приготовление к печати сочинений бар. А. А. Дельвига, которое и закончил, проработав не один год. В свет, однако, издание не успело выйти. А впоследствии были открыты новые богатейшие материалы по Дельвигу (я успел только отчасти заняться ими. Незадолго до того, при деятельной помощи Н. А. Котляревского, мною была издана книга материалов по Дельвигу, в сопровождении маленьких исследований). Также вскоре после командировки были мною по предложению Б. Л. Модзалевского помешены две небольшие работы в издании Пушкин и его современники; из них одна – прямой результат поездки. Из ранней научной работы, не связанной с Академией Наук, можно упомянуть о сотрудничестве в русском Биографическом Словаре (между прочим, биографии: С. А. Соболевского и В. С. Сопикова) и, мимоходом, о журнальных отчетах в записках Археологического Общества; из несколько позднейших – о книге Поэты Пушкинской поры, книге многострадальной, переходившей во время печатания от издательства к издательству. В продолжение этих странствий, прежде достижения благополучной пристани, она, в отсутствие составителя, утратила по пути сверстанные уже примечания, в которые была вложена главная работа.
Тем временем, рядом с академической, шла и литературная жизнь. Началась она для меня довольно рано. Был я на втором курсе университета, когда выступил впервые в печати 1 ноября ст. ст. 1899 года, в Вестнике Европы – двумя стихотворениями. Потом, помнится, в Мире Божием Ф. Д. Батюшков поместил мои переводы из Ленау и две-три рецензии (на перевод Шницлера и еще на что-то). Постепенно я начал печататься и входить в атмосферу текущей литературы и искусства. К 1900 году относится кратковременное знакомство с необыкновенным человеком – Иваном Коневским, незадолго до его катастрофической смерти. В начале поэтической деятельности большую роль сыграл для меня домашний наш кружок, в частности – близость с В. Г. Каратыгиным, с которым потом мы и породнились. Благодаря ему, я не выходил из сферы музыки, классической и новейшей, камерную музыку слушал дома в большом количестве. Рядом с музыкой культивировалась литература. Помню первые чтения КрыльевКузмина и его музыку к Хождению Богородицы по мукам, к Городам, потом к Александрийским Песням. – Печатаюсь я давно, но никогда не печатался много. Сразу большое количество моих стихов было напечатано только в 1905 г. в альманахе, вышедшем из этого нашего кружка, собиравшегося у моего брата (я жил вместе с матерью и с семьею брата до своей женитьбы в 1903 г.). Этот альманах был Зеленый Сборник, вышедший 20 декабря 1904 г. Здесь, между прочим, впервые выступил в печати М. А. Кузмин. Из других участников назову рано умершего П. П. Конради, в котором созревал своеобразный беллетрист, и недавно скончавшегося оригинальнейшего самородка К. Ф. Жакова, профессора-языковеда, этнографа, философа, математика, поэта. Последствием выхода Зеленого Сборника, которым заинтересовался покойный В. Я. Брюсов, было приглашение М. А. Кузмина и меня в издательство Скорпион. В Весах напечатал я некролог А. Н. Веселовского и цикл стихов. Потом в Скорпионе вышла моя первая книга стихов (1908). Рецензии на Зеленый Сборник были написаны, помнится, Боцяновским (в Биржевых Ведомостях) и Острогорским (в Образовании). На первую мою книгу помню рецензию А. В. Тырковой в Речи, под заглавием: Поэт старого склада. Примерно к 1906 году относится начало дорогих мне отношений с ф. К. Сологубом и с Вячеславом Ивановым (вскоре после его приезда из-за границы), с А. М. Ремизовым и Г. И. Чулковым, с Ал. Н. Чеботаревской, наконец с А. А. Блоком. Целая полоса жизни связана с «башней» Вяч. Иванова и покойной Зиновьевой-Аннибал. Издательство «Оры», «Лимонарь» Ремизова, «Снежная Маска» Блока, первая книга Стихотворенийнезабвенного Валериана Бородаевского. В 1910 г. в «Орах» вышла вторая книга моих стихов. Помню зарождение Общества Ревнителей Художественного слова из бесед у Вяч. Иванова, начавшихся в небольшом кружке по инициативе молодежи, в частности Н. С. Гумилева, потом принявших широкие размеры и перенесенных в помещение редакции «Аполлона». В числе учредителей Общества были И. Ф. Анненский и Ф. Ф. Зелинский; памятным событием – параллельные доклады о символизме Вяч. Иванова и А. Блока; близко стояла к Обществу А. А. Ахматова. Это время отмечено дружбой с Н. В. Недоброво, так рано ушедшим, и уже не долгим, но многоценным знакомством с И. Ф. Анненским. Между прочим, характерна первая встреча с ним, задолго до того знакомства: в 1905 или 1906 году. Как окружной инспектор, он посетил мою лекцию (по литературе итальянского Возрождения) в Преображенской Новой Школе и после лекции, вместо официозных разговоров, беседовал со мной о недавно вышедшей книге по Возрождению.
В выпускном классе названной школы, основанной кружком учителей, начал я, в 1905 г., свою лекторскую деятельность. Потом я читал на частных курсах А. С. Черняева историю русской литературы (Поэты Пушкинской Поры); затем – ряд лекций на курсах общества «Маяк»; в то же время давал частные уроки, впрочем не много и не долго. Четыре года (1911-1915) я занимал кафедру западноевропейских литератур на частных высших женских курсах в Тифлисе, где вел занятия и по новой русской литературе. Здесь я принимал участие в художественно-литературном кружке «Икар»; напечатал несколько статей в газете Кавказское слово: Таинственная повесть(о Лермонтове); Памяти кн. А. И. Одоевского; Крылов. – Тогда же в газете «День» поместил статью; Н. П. Огарев – поэт. Памятными событиями были приезды в Тифлис Ф. К. Сологуба и К. Д. Бальмонта. Там же перешло в близость мое знакомство с покойным философом В. Ф. Эрном. В эти годы на рождественских и летних каникулах я приезжал в Петербург.
После Тифлиса я зиму прожил в Москве, преподавал в двух женских учебных заведениях и читал эпизодический курс в Народном университете имени A. Л. Шанявского (1916). С этого времени сделалось близким знакомство мое с покойным и навсегда дорогим мне М. О. Гершензоном. Возвратясь в Петербург, я был вторично оставлен при университете профессором И. А. Шляпкиным по кафедре русской словесности. Получив стипендию, я всецело погрузился в подготовку тем для магистрантского экзамена, который и сдал весною и осенью 1917 г. После пробных лекций в факультете я был избран приват-доцентом по русской литературе, но пробыл им только весенний семестр 1918 г. Избранный весною профессором Пермского университета но кафедре новой русской литературы. я состоял им три года (1918-1921), из которых один (1919-1920) пробыл в Томске, вследствие эвакуации туда Пермского университета. Одновременно читал я лекции в Пермском, а потом и в Томском Институте Народного Образования. В Томске, кроме истории русской литературы, читал курс и вел семинарий по французской (История «Плеяды»). В 1921 г. я возвратился в Петербург и был восстановлен приват-доцентом, а затем был внештатным преподавателем Университета (1922– 1923), читал два специальных курса по русской литературе XVIII и XIX в. (Сумароков, Боратынский), потом, с упразднением внештатного преподавательства, был отчислен от Университета. Занимал кафедру русской литературы в Высшем Педагогическом Институте имени Н. А. Некрасова до закрытия Института (1921-1924). Одновременно (1921-1925) состоял научным сотрудником 1 разряда в Российском Институте Истории Искусств. – Переехав в Москву, состоял профессором Института Слова (1924-1925) до его закрытия и читал курс по истории итальянской литературы. Ныне состою профессором Литературных Курсов при Союзе Поэтов и членом Академии Художественных наук (с 1925 г.). Здесь мною были читаны доклады – в 1924-25 г.: Поэтика Валерия Брюсова(на публичном собрании в его память); К биографии и поэтике Боратынского(неизданные материалы); Ninfale Fiesolano Боккаччо(историко-литературное введение и отрывки из перевода). В 1925-26 г.: Архив Ивана Коневского(К истории раннего символизма). – Состою членом Общества Любителей Российской Словесности, Союза Писателей, Союза Поэтов (член правления) и Ассоциации имени А. Блока при Академии Художественных Наук (член президиума).
1926








