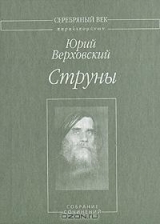
Текст книги "Струны: Собрание сочинений"
Автор книги: Юрий Верховский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Особое внимание следует обратить на графику строк стихотворений Верховского. Едва ли Маяковский впоследствии был более внимателен к своим «лесенкам»! Видимо, таким образом Верховский стремится объединить визуальное впечатление с музыкой, мелодикой стиха. Некоторые современники считали, что это ему удается; в письме Анны Александровны Веселовской от 17 июля 1910 г. важны слова, сказанные об «Идиллиях и элегиях Юрия Верховского»: «с внешней стороны – и изящество, и выдержанность стиля не оставляют желать ничего лучшего; что касается внутреннего содержания, то, как я и всегда Вам твердила, стихи Ваши чрезвычайно выигрывают, когда читаешь их черные по белому, а не внемлешь загробной декламации» [30]30
ОР РГБ. Ф. 218 [Собрание отдела рукописей]. Карт. 1262. Ед. хр. 8.
[Закрыть]. О «внешней стороне» в сочетании с «внутренним содержанием», со смыслом написанного, поэт неоднократно писал Брюсову еще раньше, в пору подготовки предыдущей книги в «Скорпионе». В письме от 20 апреля 1908 г. читаем: « <…> Возможная внешность книги представляется мне теперь иначе, чем вначале Мне бы очень хотелось, чтобы книга имела вид несколько старинный. вроде “Трудов и дней”, с такой же приблизительно обложкой, что подходит к ее названию <.. .> Я хочу проявить себя в этой книге с разных сторон. Поэтому удержал из первоначального плана то, что мне кажется существенным…, и большую часть сборника наполнил новыми вещами, причем в основе первой части нежит несколько циклов различного характера, а сонеты второй, собственно, распадается на два отдела. <…> Циклы мои имеют, большею частью, органический характер, а целиком я ни одного не мог отбросить (внешним образом оставлены, кажется, только “Тени”…) <…>» [31]31
ОР РГБ. Ф. 386 [Брюсов В. Я.]. Карт. 80. Ед. хр. 3.
[Закрыть].
Соединение «стиховеда и стихотворца» в одном лице для рубежа XIX-XX вв. типично; собственно, в то время формировались условия для позднейшей профессионализацииписательского труда, чуть позже, в 1920-е гг., закономерно вылившейся в создание учебного заведения, где желавших учили «на поэтов и прозаиков». В символистской среде никому в голову не приходило упрекать собрата в стремлении «поверить алгеброй гармонию»; «филологическая поэзия» (словосочетание, ставшее во второй половине XX столетия чуть ли не оскорбительным) была в кругу Иванова, Блока. Брюсова естественным, органичным явлением. Об этом, собственно, много позже и написал Верховский в шутливом шестистишии, отмечая изменение культурной ситуации:
Ныне норою поэты меня называют – профессор.
Кличут с улыбкой меня мужи науки – поэт.
Иди успел я нежданно настолько состариться, чтобы
Время свое золотым рядом с теперешним чтить?
Или и вправду ученей поэты бывали недавно,
Как и ученый не в стыд часто поэтом бывал?
По поводу этого стихотворения Владимир Борисович Муравьев писал: «Законы психологии творчества одни и те же дня поэтов всех времен. Поэтому Верховский-поэт имел счастливую возможность использовать наблюдения над собой, над своим поэтическим опытом при изучении творчества писателей прошлого и проникнуть в их творческую лабораторию глубже, чем исследователь, не имеющий творческого поэтического опыта. А научное знание истории литературы открывало ему общие закономерности ее развития, широкую панораму, в которой предшественники и современники видны в их истинном облике, в истинных размерах и истинных связях с прошлым и будущим. Потому-то так проницательны, оригинальны и верны его характеристики, например, поэтов пушкинской поры. Историко-литературные работы Верховского примыкают к подобным работам Брюсова и Блока, и, если обратиться к их истокам в русской традиции, Пушкина» [32]32
Муравьев В. Б. Истинный поэт // Поэзия. 1985. № 42. С. 143.
[Закрыть].
Собственно, гармоническое соединение творческогои научногоначал в пределах одной личности было для поэта – вполне, думается, осознанно – стремлением примирить два способа мышления, в течение XX в. постепенно осознававшиеся как противоположные: «…Ключевский сказал, что мы теперь мыслим отвлеченными понятиями, а предки наши мыслили группами ассоциированных представлений; это – чисто художественное мышление, и оно обновляется в том устремлении беллетристики…» [33]33
Письмо Г.И. Чулкову (ОР РГБ. Ф. 371 [Чулков Г.И.]. Карт. 2. Ед. хр. 70).
[Закрыть].
Занимаясь художественным переводом, Верховский осмысливает культурный контекст произведения, каждый раз реконструирует историко-литературные обстоятельства, в которых оно органично бытовало в момент создания, и выстраивает ситуацию, при которой возможно его печатание в XX в.: «<…> Относительно поэм Бокаччо дело мне представляется в таком виде, пишет он М. В. Сабашникову) – Первый период его деятельности представлен несамостоятельной поэмой Филострато. Второй – “иносказанием в форме пасторали” (по Веселовскому) – Амето– и Любовным Видением, своего рода “божественной комедией” – то и другое в строфах дантовской терцины. Третий период – “выход к свободному творчеству” – попытка классического эпоса Тезеидаи идиллия Нимфы Фьезоле– “поэтическое сплочение античного и средневекового” – то и другое а форме октавы. <…> Из третьего периода Тезеидаважна исторически, но художественно несколько растянута и тяжела – загромождена воспоминаниями античности, мифологией, перечнями имен и т. п. Не знаю, можно ли было бы решиться на сокращения и – с другой стороны – не был ли бы тяжел перевод без сокращений, тем более, что поэма обнимает более трех тысяч октав. – Я остановился бы на прекрасной идиллии Нимфы Фьезоле.
<…> Что касается антологии французских лириков, то общий мой план такой, чтобы представить в лирике путь французской поэзии от Возрождения к Классицизму. Вехи – Маро, Роне ар. Малерб. В этой связи XVII век органически соединен с XVI. Однако по специфическому характеру поэзии того и другого они сильно разнятся друг от друга. Подумав, я полагаю, что было бы лучше не соединять их в одной книге, тем более, что материала должно с избытком хватить и на два выпуска. Во главе второго мог бы стоять Малерб, как прямой родоначальник французского классицизма» [34]34
ОР РГБ. Ф. 261 [Изд-во М. и С. Сабашниковых]. Карт. 3. Ед. хр. 15.
[Закрыть].
Всё же Верховский, в отличие от современников, являлся и преподавателем истории литературы, и ученым академического склада. Вероятно, в этом – еще одна причина выбора (если это было сколь-нибудь сознательным «выбором», а не чистой потребностью души) или, скорее, с этим связана его склонность к неоклассицизму среди множества других возможных поэтик. При этом он вовсе не отказывался от пресловутых «новых форм», искал, пробовал, порою применяя приемы, смелые и для его времени; и одновременно – обращался к прошлому, приближая его к современности. По поводу книги «Томны эхи», сборника лирики XVIII в., выпущенной издательством «Пантеон», Верховский писал: «Нежным отголоском душевных переживаний этого своеобычного века – торжественного и влюбленного, чувственного и чувствительного – является музыка его любовно-лирической поэзии. <…> …поблекнув, она всё же для нас не умерла и даже стала как бы еще душистее. Всё, что нужно принять, чтобы почувствовать непосредственно благоухание любовной поэзии времен Елизаветы и Екатерины – это ее язык, порою обветшалый для нас, порою, может быть, еще неловкий в своеобразной прелести. Эти стихи по большей части – песни, трогательные и простодушные. . .» [35]35
Аполлон. 1910. № 2. С. 36-37.
[Закрыть].
Творчество Верховского – замечательное и в буквальном смысле непаханое поле для стиховеда, который, без сомнения, сумеет оценить, проанализировать и показать, как тончайшие приемы ремесла, мастерства превращались в столь же изысканные оттенки смысла и эмоций. Но есть еще одна особенность. Нет, наверное, в нашей литературе другого поэта, который сумел бы запечатлеть в стихотворной речинекоторый способ говорения, не столько существующий главенствующий, сколько идеальныйдля той или иной эпохи. Оставаясь собой, верный избранной классической просодии, он, тем не менее, создает в первых трех книгах речевой портрет поэта-интеллектуала, а в «Солнце в заточении» – пореволюционную языковую личность.
Неслучайно произведения 1930-х сплошь и рядом тяготеют к эстетике городского романса. «Только вечер настанет росистый…» или «Ты вновь предо мною стоишь, как бывало…» так и слышатся в исполнении Обуховой… После элегий и идиллий, перед гекзаметром 1940-х эта просодия выглядит загадочной – и по-своему завораживает
Верховский, сотрудник Института живого слова, – конечно, речевик, при всей своей «книжности».
В «Будет так» дан строй речи человека, всей русской культурой подготовленного к борьбе с фашизмом. «Смоленск родной» кажется совершенным речевым выражениемстрасти к победе.
Эта страсть поражает. Парадоксально, но, кажется, война оказалась фактором, примирившим Верховского с советской властью (хотя своего неприятия он нигде не высказывал, во всяком случае, письменно). Но вот что интересно: до 1941 г. подавляющее большинство его стихотворений подписаны двойной датой – по старому и по новому стилю. В военные годы двойная датировка исчезает. Поэт из межеумочья, зыбкого существования между двумя историямивозвращается в одновремя – в своевремя. Порой такие мелочи, как дата, кричат громче бурь…
А с другой стороны, кто еще из поэтов, кроме «тишайшего», незлобивого Верховского, мог в 1922 позволить себе опубликовать два таких стихотворения, как «Распятому Христу» (перевод хрестоматийного образца ранней мексиканской поэзии) и «Люблю я, русский, русского Христа…»? Ни в одной из трех предыдущих книг нет примет особенной религиозности их автора. И вдруг – явно христианская образность. Откуда она? Не от общей ли охранительнойстрасти его поэзии?
Границы своего поэтического мира Верховский очертил уже в «Разных стихотворениях», причем с завидной для «начинающего» определенностью; услышать мир через звуки поэтического языка, увидеть его с помощью звуковой оптики, построить свое мироздание не с помощью темы, не посредством увлекательного рассказа об изысканных душевных переживаниях или экзотике дальних стран, а лишь созвучиями и ассонансами – такого, пожалуй, и в ту пору никто не делал:
Тени ночные, в вас тайны созвучья;
Образы дня – вы понятны, как рифмы.
Ночью земля и прекрасней, и лучше;
Грезы – над миром парящие нимфы –
Вьются туманами,
Звуками стелятся –
Смутными чарами,
Полными шелеста.
…………………………………
И безвольно душу я раскрою
Перед пышной плещущей игрой;
Дам скорей в себя вомчаться рою
Снов и грез – колдующей порой.
И живому чающему духу
Откровенья зиждущего жду;
И на радость алчущему слуху
Всё приму, ниспосланное уху,
Всё – как дар: и ласку, и вражду.
(«Тени»)
Одна из главных черт поэзии Верховского – плотская осязаемость, ощутимая материальность каждого словесного построения. «Тайны созвучья» – не только красивая метафора, но и смысловой лейтмотив. Придать служебному приему определенность высказывания, сделать «служебное» значимым, по сути, предельно сблизить содержание и форму – снова нельзя сказать, что это простая и частая в истории поэзии задача.
* * *
О том, какое место занимало поэтическое творчество в жизни Верховского, свидетельствует его дневник 1903-1905 гг. [36]36
ОР РГБ. Ф. 697 [Горнунг Л. В.]. Карт. 3. Ед. хр. 38.
[Закрыть]Здесь приводятся выдержки из него (информацию об упомянутых лицах см. в Примечаниях или ниже в сносках).
« 31.Х. 1903. СПб. Написал вчера о золотом имени на лепестках лилии и пр. Обыкновенно мне и мысль, и форма приходят в голову, кажется, нераздельно. Иногда иначе.
Сонет с созвучиями, а не с рифмами… <говорят, что> производит впечатление белого стиха. Не думаю. М. б. созвучия нужно выбирать более полнее. <.. > Пожалуй, можно вдаться в каламбурность. Но где же граница? Конечно, сонет – не сонет итальянский.
<…>
Да, я всё просматриваю мои прежние, старые невыполненные планы стихов. Взгляд, конечно, уже другой. Теперь уж я ушел, кажется, от всего этого. Оттого и написал:
Давно, во власти лунной ночи…
Также и лилию. Не знаю, выполнится ли когда-нибудь сюита в память Боратынского.
Да, теперь меня так и несет.
Вечером. Сегодня пятница. Переписал Осень. В понедельник надо идти к Вейнбергу [37]37
Вейнберг Петр Исаевич (1830-1908) – поэт, переводчик, историк литературы; профессор Варшавского университета, редактор журналов «Век» (1860-1861), «Изящная литература» (1883-1885) и др.
[Закрыть]. Был у него две недели тому назад. Он отнесся ко мне очень любезно и без записки Брауна. О ней я вспомнил только среди разговора. О переводах, о Ленау, обещал содействие. О журналах. Он теперь в сношениях только с тремя: Мир Божий, Русское Богатство и Вестник Европы. Еще Нива. “Да больше, собственно, у нас и нет журналов”. Был очень прост, говорил спокойно и благодушно и с некоторой стариковской гордостью. Мы, мол, это всё знаем, видели. – Стихами не проживешь, да и вообще литературным трудом прожить трудно. Советовал на стихи не рассчитывать. Разумеется, о научных занятиях переводами: с самого начала лучше не разбрасываться – и проч. Предложил написать фельетон об Альфиери [38]38
Альфиери Витторио (1749-1803) – итальянский поэт и драматург.
[Закрыть], обещал послать в Русские Ведомости. Кроме них имеет дело только с Новостями. – Ни в Публичной Библиотеке, ни в книжных магазинах, ни в Университете до последних дней ничего не нашел юбилейного, да и вообще об Альфиери.
3. XI.Вейнбергу передал свои оригинальные стишки – в стиле пушкинской школы (не совсем точно). – “Т. е. как в стиле?” – Не подражание, а… etc. Какое значение? – Вейнберг, кажется, понял меня более “полемически”, чем я хотел. Мне бы не хотелось, чтоб мои стишки пошли в ход назлоБрюсову и пр.
Веселовский в докладе – сказал, между прочим, что Несмеяна – имя, придуманное для передачи чужого имени захожего сказания, что оно по своей форме не может быть русским. Почему?
5. XI.У меня накопилось зараз черт знает сколько дел:
1. Кончать – т. е. писать – биографию Соболевского.
2. Начинать биографию Слепцова.
3. Спешить со множеством биографий для Павлова-Сильванского [39]39
Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869-1908) – историк, архивист.
[Закрыть].
4. Фельетон об Альфиери.
5. Рецензия для Мира Божьего. Главное – о смерти Тентажиля.
6. Рецензия о брошюре: Научная деятельность Кирпичникова [40]40
Кирпичников Александр Иванович (1845-1903) – историк литературы; профессор в Харькове, Одессе, Москве, член-корреспондент Академии наук, автор учебников.
[Закрыть]– для Журнала Министерства Народного Просвещения – по предложению Батюшкова.
6. XI.…Кузмин был и днем, и вечером… .Он читал – продолжение своего либретто [41]41
Имеется в виду оперное либретто «История рыцаря д’Алессио», позже опубликованное в «Зеленом сборнике».
[Закрыть]– полторы картины: в шатре во время битвы (сцена заканчивается смертью Пьетро да Винчи) и – в монастыре, приход Асторро. По-прежнему ярко и интересно.
7. XI.Вчера перевел стихи из П. Верлена. Не очень близко. Особенно жаль, что не удалось передать:
…се paysage bleme
Tu sera bleme Toi-meme… [42]42
В этом призрачном пейзаже / Ты сам станешь призрачным (франц.).
[Закрыть]
Кажется Верлен – один из непереводимых поэтов, если вообще есть переводимые.
8. XI.Вечером отправился… к Кузмину. Он именинник. Написал музыку на моего Коршуна. В общем мне нравится. Хорош конец.
О середине согласен…: она органически будто не слита с целым, есть и некоторые шероховатости в одном месте… Но целое хорошо и, по-моему, лучше Нарцисса.
<…> У Кузмина. <…> Михаил Алексеевич пел русские песни из сборников Балакирева, Лядова, Римского-Корсакова. Очень хороши.
Пел он еще шекспировские сонеты, я слышал в первый раз. Все лучше первого, который в общем все-таки хорош.
Мне хочется написать сонеты «на мотив» этой сюиты. Кузмин мне переведет точно, и я попытаюсь.
Читал Верлена.
13. XI.Вчера было страшное наводнение (11S ф.) – самое сильное после 1824 г. (тогда было 13S ф.). Ужасная вещь. Мы уже начали перебираться в следующий этаж. Говорят, по нашей линии ездили на лодках. В Гавани в некоторых домах вода в первом этаже доходила до потолка. Страшное несчастие.
<…>
В понедельник был у Вейнберга. Он опять извинялся: не все стишки успел прочесть. В общем – одобряет. “Не могу – говорит – сказать, чтобы был именно талант. Но безусловно солидные стихи”. Вот его отзыв. Обещал передать в Вестник Европы, отметив стихи, по его мнению лучшие и тогда написать мне. Когда это будет, не знаю.
18. XI.Вчера в Неофилологическом обществе. Выходит, что Ленау может быть сопоставлен с Молодой Германией только хронологически кажется, за исключением двух-трех случайных стихотворений и что заглавие реферата Тиандера [43]43
Тиандер Карл Фридрих (Карл Федорович; 1873-1938) – филолог-скандинавист.
[Закрыть]недоразумение. Я слышал его не целиком – опоздал, – но не сожалею, т. к. по-видимому это было нечто тягучее, растянутое и тяжкое. Множество выписок, изложений, пересказов, мысли туманны и нетверды. Очень существенно говорил против него Вейнберг: мировая скорбь, романтизм. После, в разговоре со мной, Шишмарев [44]44
Шишмарев Владимир Федорович (1875—1957) – филолог, академик АН СССР.
[Закрыть]возражал против привлечения сюда мировой скорби. Думаю, здесь нужны ограничения, но не более. Возражал и Браун, и другие. От многого Тиандер поотказался, “уступил заглавие” – и т. п. В конце концов, реферат ничего не дает. И все-таки мне было даже досадно на Тиандера за то, что он так легко сдавался, оговаривался и т. д. Из нерезонных частностей – такое приблизительно соображение: венгерский патриотизм Ленау не выразился в его поэзии, потому что мало кто понял бы его в немецких стихах. Помнится, в таком роде. Пожалуй, резон к тому, чтобы не печатать – не более. А вернее – к тому, чтобы выучиться как следует венгерскому языку, – мысль Шишмарева.
Доклад Петрова – рецензия – много интереснее, хоть и переоценивает книгу, по замечанию того же Шишмарева, с которым я вместе шел домой.
С Петровым говорил. Он обещал мне оттиск последней своей статьи – из Журнала Министерства Народного Просвещения. Дома он принимает по средам.
Веселовский очень мил. Говорил я с ним о подмоге, т. е. о том чтобы в ноябре раздобыть денег на разработку библиотеки Куника: если забудут или не дадут теперь, то в январе мне не видать исполнения моих желаний. Обещал при случае напомнить об этих делах. Это было бы очень существенным дополнением к Залеману. С ним Веселовский уже говорил (при мне), поэтому было удивился, когда я начал о том же. Но уж теперь дело не в одном Залемане.
Видел и Вейнберга. Он переслал мои стишки к Стасюлевичу [45]45
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-1911) – историк, профессор Петербургского университета; в 1866 основал «второй» журнал «Вестник Европы», редактором-издателем которого был до 1908.
[Закрыть], как говорит – при самом лестном письме; потом встретился с ним – но тот еще не успел прочесть стихов. Обещал прочесть самым внимательным образом.
Немножко побеседовал и с Тиандером. Он мне показался грустным.
С Шишмаревым дорогой разговаривал, между прочим, о голиардах, о возрождениях, вообще о моей теме, из которой, как он говорит, можно выкроить экзамен. <…>
19. XI.<…> Вечером поздно был у Кузмина. Встретил Ю. Чичерина [46]46
Чичерин Юрий (Георгий) Васильевич (1872-1936) – государственный деятель, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918-1930). Близкий друг М. Кузмина.
[Закрыть], который вернулся из-за границы. Михаил Алексеевич играл свою Серенаду для оркестра. Оригинальная и для него новая вещь. Интересно, какова будет оркестровка. Еще играл новые строфы из 1001 ночи; еще – шекспировские сонеты. После ухода Чичерина (который уж чересчур страстно, с каким-то обожанием восхищался каждой нотой) Кузмин прочел мне конец своего либретто – драматической поэмы. Хороша сцена в монастыре, в пустыне. Финал несколько декоративен – Конец производит меньше впечатления, чем иные сцены. – Просматривал романсы листа. Я взял два из них. Кузмин пел мне старых итальянцев.
Последние вечера – да и днем – читал я Лескова Юдоль. Равновесия во мне всё нет.
23. XI.<.. .> Кузмин пел: bianc sur blanc [47]47
Белое на белом (франц.).
[Закрыть]etc., читал конец либретто в несколько измененном виде. Поговорил с ним о Прологе [48]48
Пролог – древнерусский житийный сборник, в котором жития святых располагались в соответствии с днями памяти. Содержал также назидательные рассказы и поучения.
[Закрыть]. Пытался петь Сальери [49]49
Имеется в виду одноактная опера Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», где партия Сальери была написана для баса, а партия Моцарта (исполнявшаяся М. Кузминым) – для тенора.
[Закрыть]. Не могу с листа.
24. XI.<…> Против ожидания написал сегодня стишки Пришли в голову, когда ехал на извозчике через Николаевский мост. Тут же написал каракулями первые строки.
Кузмин вчера говорил – жалеет, что кончил свое «либретто», что теперь нечего писать. Я ему советовал писать драму. Особенно он способен передать couleure locale [50]50
Местный колорит (франц.).
[Закрыть]. Завидую его работоспособности.
Что-то написал Конради? Говорит, не отделано, но несколько вещей. Помимо этих “путных” вещей, говорит, совсем испортился: чуть ли не пишет роман в стиле “Вокруг света". Увидим.
26. XI.Среда. Вчера у Кузмина. Зашел на несколько минут взял Пролог. Перед уходом опять встретился с Ю. Чичериным, Михаил Алексеевич показал мне старую итальянскую новеллу, из которой будто хочет сделать пьесу. Штука неприличная, но отличная.
28. XI.<…> Вчера читал в хронике Мира Искусства статейку Нурока [51]51
Нурок Альфред Павлович (1869-1919) – один из руководителей кружка «Вечера современной музыки», музыкальный и театральный критик, сотрудник и товарищ С. П. Дягилева, деятель «Мира искусства».
[Закрыть]о Вяльцевой [52]52
Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871-1913) – русская эстрадная певица (меццо-сопрано), артистка оперетты, исполнительница цыганских и городских романсов, ставшая своего рода мелодическим символом начала XX в.
[Закрыть]. Самобытный русский талант. Талант, лишенный вкуса. Не входит ли вкус так или иначе в состав таланта?
Тогда же в Новом Времени – объявление о подписке на новый журнал Весы. Астрономия не оправдывает претензий. Удивительно, что кроме Розанова названы, кажется, одни поэты. Впрочем, среди них Мережковский и Минский. Объявление, по правде сказать, мне не понравилось: развязно и банально.
Был П.П. [53]53
Имеется в виду Конради.
[Закрыть]После обеда прочел свою незаконченную вещь в стиле Джерома. Не без шаржа, но недурно. Мы вместе пошли к Кузмину. Там – Н. В. Чичерин [54]54
Чичерин Николай Васильевич (1865-1939) – педагог, просветитель, меломан; брат Г. В. Чичерина.
[Закрыть]с женой. Кузмин окончил свою Серенаду для оркестра – пока без оркестровки. Теперь оркестрирует Времена Года. Очень интересно – особенно, на мой взгляд, последняя, 4-я часть – и для него совсем в новом духе. После серенады он снова читал целиком свое “либретто” – для Чичериных и П. П. Конради. – П. П. много говорил и много болтал – из-за чего засиделись, хоть я торопил его домой.
П.П. о моих последних стихах: чисто петербургская поэзия. <…>
1. XII.<…> Читал Пролог – О крещении песком жидовина в пустыне; “О сапожнице, его же обреете царев писец в полунощи молящиеся” – и пр. Особенно хорош первый рассказ. Это сюжет в стиле строгой языковской поэзии. И во втором много простоты и красоты рассказа.
11. XII.Раз ненадолго был… у Кузмина. Он написал несколько новых вещей, между прочим – романс на тютчевские слова (понравился), новые отрывки из 1001 ночи; начал вторую серенаду (не показал). Написал он несколько новых сонетов – хороши; задумал драму.
Я задумал три поэмы на сюжеты из Пролога. Главная – терцинами. Написал несколько страниц. Вторая – о сапожнике – простой пересказ. Вчера написал. <…> Третья – о жидовине – опять свободная обработка – четырехстопным ямбом. Еще не начато. Написанная штука [55]55
Как называл В. К. Тредьяковский. (Примеч. Ю. Верховского.).
[Закрыть]– первая моя эпическая попытка (если не считать начатых терцин). Главное – передать простоту рассказа. Важнейший момент – в конце, когда сапожник говорит о своей жизни с женой, которую считает милостью за свои исчисленные старания: пост, ночную молитву и пр. – говорит; не подозревая, что эта-то чистая жизнь и есть главный подвит; а не награда – и писец понял это. Говорят, у меня вышло. Я очень рад. – Для первой вещи сегодня написал сцену: игуменья узнает о несчастном происшествии – бегстве из монастыря черницы. <…>
15. XII.Вечером Кузмин. Беседовали, читали Ореуса. <…> Я читал ему О сапожнике. Две-три неточности нужно поправить. Читал и начатые терцины – но усиленному желанию Михаила Алексеевича – и очень жалею, что читал, не отделав. Одобряет, хотя кажется, не очень. Растянуто? – Мне кажется, единственное удачное “пятно” – сцена, когда игуменья узнает о несчастии, – но Кузмин его не заметил. М. б., сегодня продолжу. Хотя чувствую усталость и слабость, но спать не хочу. Около двух часов. Кузмин читал новый сонет – о Сан-Миньято [56]56
Сонет «Из моего окна в вечерний час...», позднее под № 13 включенный в цикл из 17 ст-ний «Сонеты», не изданный при жизни М. Кузмина (см.: Кузмин М. А. Стихотворения. Изд. 2-е. исправленное / Вступ., ст., сост., подгот. текста и примеч. Н. А. Богомолова. СПб., 2000. С. 612).
[Закрыть]. Очень хорошо, хотя среди пятистопных один стих – шестистопный. Неприятно и мне всегда бросается в глаза – или в уши. Образ храма хорош. Сейчас написал октавы: “Есть две бессонницы”.
18. XII.Третьего дня писал терцины. Сегодня пытался продолжить – не клеится. Боюсь, что длинно и вяло. Рассказ нужно сжать. Сегодня я вял. <…>
1904.18.1.Гениальность – цельность. Цельность изображения – истинная поэзия. “Поэзия – полное ощущение данной минуты”. Полное ощущение – синтез. Его и осуществил возможно полно – Пушкин.
27. IV.…Кузмин пишет большую вещь прозой – и читал несколько новых стихотворений. Давно собираюсь ему писать. М. б. он пришлет хоть стихи – освежить меня. Но проза мне особенно интересна.
<…> Фет из современных ему поэтов особенно любил Тютчева. – Из стихотворений Полонского он очень любил: Улеглася Мятелица, путь озарен; Пришли и стали тени ночи; В те дни, как я был соловьем: Кузнечик-Музыкант. Полонский с семьей гостил у Фета в Воробьевке летом 1891 года».
* * *
Дневник Верховского замечателен, поскольку являет собой образчик «чистоты жанра»: он писан не для истории литературы – для себя лично. Кажется, его автору литература интереснее, чем его место в литературе. Отмеченная Вяч. Ивановым индивидуальность подчинена служению; с этим связано отсутствие «автометаописаний», деклараций, самоопределений, свойственных современникам.
Удивительная мягкость и незлобивость, милые чудачества Верховского отмечены почти всеми близкими к нему людьми, писавшими о нем; да и сам он знал свои слабости и относился к ним с покаянной иронией, понимая, что порой причиняет ближним и дальним массу неудобств своей забывчивостью, необязательностью, способностью не вовремя «пропадать», непрактичностью. В уже цитированном письме Гершензона (27 мая 1914 г., Верховский в это время преподает в Тифлисе) есть слова: «Кто страдает по неволе, а Вы – по безволию. Удивился я вчера, увидав, что Вы еще в Тифлисе, а вечером Эрн картинно изобразил, как Вы не в силах отказать, экзаменуете еще и 21-го, и 27-го, и т. д.». А позже (20 августа 1915 г.) тот же Гершензон добавляет еще один штрих к портрету друга: «Вы – живая иллюстрация множества пословиц и прописных истин, как-то: “всяк своего счастья ковач”, “под лежачий камень и вода не течет” и т. под.» [57]57
ОР РГБ. Ф. 218 [Собрание отдела рукописей]. Карт. 1262. Ед. хр. 10.
[Закрыть].
Постоянные переезды из Петербурга в Москву приводили к ситуациям курьезным: «Забыл я, по-видимому: 1) визитку, недавний предмет восхищения и гордости; 2) в ее кармане два галстука; 3) письмо об Александре Ивановиче Белецком, харьковский профессор, словесник, – он же Анфим Ижев, поэт, драматург, романист – большой мой приятель; 4) рубашку чесучевую желтую; 5) рубашку полотняную; 6) полотенце мохнатое; 7) мыло желтое; 8) альмавиву или епанчу плащ с капюшоном темно-серый; 9) указанную посылку. Я прихожу в величайшее смущение от такого списка. Но не меньшее смущение овладевает мною и по следующему поводу: забывши всё это, я увез с собой носовой платок, данный мне Надеждой Григорьевной» [58]58
Письмо Г.И. Чулкову от 10.XI.1921 (ОР РГБ. Ф. 371 [Чулков Г.И.]. Карт. 2. Ед. хр. 70).
[Закрыть].
В книге «Годы странствий» Георгий Чулков писал: «Из поэтов, милых моему сердцу, необходимо упомянуть о Юрии Никандровиче Верховском. У этого очаровательного человека, настоящего поэта и серьезного филолога, кажется, нет ни единого врага. Его кротость известна всем, кто его встречал. Его бескорыстие, его ленивая мечтательность, его неумение устраивать свои житейские дела стали легендарными. В 1924 году мы праздновали с ним “при закрытых дверях” двадцатипятилетний юбилей нашей литературной деятельности. По этому случаю мы обменялись с ним посланиями в стихах. Вот что он написал тогда:
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую землю стал.
Боратынский [59]59
Из ст-ния «Ахилл» (1841).
[Закрыть]
Так, милый друг, вот мы и старики
И седины друг другу мы лелеем
Невинным простодушным юбилеем,
От суетного мира далеки.
Не знай же ни тревоги, ни тоски.
Мы о былом и впредь не пожалеем:
Ты помнишь, как рожденного Пелеем [60]60
Пелей – царь мирмидонян, отец Ахилла.
[Закрыть]
Мечты поэта вызвали, легки.
Итак, перед грядущими годами
Неуязвимой твердою пятой
На вере, как стоял, спокойно стой.
Пусть годовщины сменятся над нами
И мирною улыбкой тишины
Вновь обласкают наши седины.
Это стихотворение датировано 18 ноября 1924 года. А за три года до нашего юбилея поэт посвятил мне еще одно стихотворение:
Скажи, когда твоей встревоженной души
Коснется шепот вещей музы,
Мгновенья вечные не вновь ли хороши
Сознанью, свергнувшему узы?
И ныне, скорбною годиной тяготы
Неизживаемой, – богато.
Вот музой Тютчева любовно взыскан ты,
Я – музою его собрата.
Не потому ли так осветлены порой
Твоей печали песнопенья
И так молитвенно высок и верен строй
Души глубинного горенья?
На миг не оттого ль мой истомленный стих
Всё радостней и неуклонней
Коснется вдруг, слепец, живейших струн своих
И вожделеннейших гармоний?
Так тихая судьба в путях кремнистых нам
Таинственней и откровенней
Возносит на горе единый светлый храм,
Сочувствий и благословенней.
Из милых чудачеств, свойственных Юрию Никандровичу, не могу не припомнить странной его привычки превращать день в ночь и ночь в день. Ему ничего не стоило прийти в гости в час ночи, а то и в два и остаться до утра, не замечая, что слушатели его стихов, наслаждающиеся его поэзией часа три, уже утомились, осовели и уже неспособны воспринять даже Пушкинской музы. Одно время в Петербурге он так часто повадился ко мне ходить по ночам, что квартирная хозяйка усмотрела в его поведении все приметы страшного заговора, и я должен был переехать на другую квартиру, ввиду ее ультиматума, дабы не утратить общества милейшего поэта» [61]61
Чулков Г.И. Годы странствий. – М., 1999. С. 185-186.
[Закрыть].
«Нам не дано предугадать…». Неиссякаемая влюбчивость Верховского, глубина его несколько «литературных» чувств сделала его прототипом пастернаковского Юрия Живаго, о чем с удовольствием повествуют крымские краеведы. Вероятно, способствовало и общение Пастернака с Верховским в пору подготовки так и не вышедшей, как уже говорилось, книги; рискованно, но хочется предположить, что «неоклассическая» муза Верховского повлияла на позднюю поэтику Пастернака – как известно, в «стихах к роману» иную, чем в более ранних книгах. Юрятин же, город Живаго, назван блоковским словечком, оброненным после переезда Верховского в Пермь.
Обмен посланиями между Верховским и близкими ему поэтами – ситуация типичная. Вяч. Иванов 20 марта 1907 г. обращался к своему другу со стихами:
Верховский! Знал ли я, что Ты,
Забытый всеми, тяжко болен,
Когда заслышал с высоты
Звон первый вешних колоколен?
Но Ты воскрес – хвала богам!
Долой пелен больничных узы!
Пришли по тающим снегам
Твой сон будить свирелью Музы.
И я, – хоть им вослед иду
Сказать, что всё Тебя люблю я, –
Крылатой рифмой упрежду
Живую рифму поцелуя.
Выздоровленьем и весной
Прими счастливый благодарно
Судьбы завидной дар двойной,
Прияв урок судьбы коварной.
«Вот, жизнь Тебе возвращена
Со всею прелестью своею.
Смотри: бесценный дар она!
Умей же пользоваться ею».
Ты расцветешь, о мой поэт:
Вотще ль улыбкою немою
Мне предсказала Твой расцвет
Мощь почек, взбухнувших зимою?
Как оный набожный жонглер
Перед готической Мадонной,
Ты скоморошил с давних пор
В затворе с Фебовой иконой;
Стиха аскет и акробат,
Глотал ножи крутых созвучий,
И с лету прыгал на канат
Аллитерации тягучей.
Довольно! Кончен подвиг Твой!
Простися с правилом келейным!
Просторен свет! Живи, и пой
С весенним ветром легковейным.
И пусть не в чашке кипятка
Из распустившихся варений
Твоя влюбленная тоска
Свой черплет пыл, и вихрь парений.
Учись хмельной огонь впивать
Со дна содвинутых стаканов!..
Мой рок – дразнить тебя, и звать…
Мне имя – Вячеслав Иванов.
К стихотворению были сделаны приписки:
Хотел писать – и воли нет:
За зрелой речью лепет детский!
Тебя приветствую, поэт:
Мне имя только Городецкий;
Верховский, милый, поправляйтесь!
О Вас гадаю в свой опал.
Стихом моим не соблазняйтесь,
Зиновьева-Аннибал.
и – прозаическая – Ремизова: «Кавалергарды – издатели мои – уехали на воды и все надежды пропали. Ничего не поделаешь. И поздравляю Вас с оживлением» [62]62
ОР РГБ. Ф. 109. [Иванов Вяч. И.]. Карт. 2. Ед. хр. 51.
[Закрыть].
Позже появились обширное и «антологичное» «Послание на Кавказ», включенное в сборник «Нежная тайна. – Аэпта» (1912) [63]63
Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 55-58.
[Закрыть], и послание «Милый, довольно двух слов от тебя, чтоб опять содрогнулся…» (Рим, 1913) [64]64
Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. 4. С. 11-12.
[Закрыть].
Тем страннее – на общем благожелательно-ироничном, уважительно-дружественном фоне – несколько писем, исполненных негодования и решимости: адресаты – Алексей Толстой и Г. И. Чулков.








