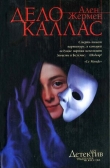Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Звездой сегодня может быть любой. Эта слово критики бросают вдогонку каждому – игроку в футбол, дикторше на телевидении, болтуну в ток-шоу, кутюрье, дизайнеру. Все они -звезды, все приобретают известность, на деле никакими исключительными качествами не отличаясь. Но опера как вид искусства в наши дни уже не настолько популярна, чтобы ее представители могли стать звездами, за исключением парочки коммивояжеров от красивого пения вроде Пласидо Доминго или Лучано Паваротти.
Такие певицы, как Рената Тебальди, Зинка Миланов, Леони Ризанек, Джоан Сазерленд, Биргит Нильсон или Мэрилин Хорн, разумеется, знамениты или были таковыми в свое время, но славу их не сравнить с тем ореолом, что окружал Марию Каллас начиная с середины 50-х годов. Мария Каллас была единственной примадонной в изначальном смысле этого слова. Но что сделало ее таковой? Что значит это затасканное и, возможно, привычное для слуха некоторых людей слово? Требования, предъявляемые только лишь к техническим, чисто музыкальным возможностям примадонны, столь высоки, что именно те, кто принимает свою работу всерьез, зачастую становятся жертвами собственного тщеславия. Примадонна должна иметь не только красивый, чувственный (или пробуждающий чувства), неповторимый голос: без музыкальности, без техники, без железных нервов, атлетической энергии, обаяния, индивидуальности, дипломатической ловкости и внутреннего сияния, которое невозможно заменить внешним лоском, нет примадонны. Есть певицы, которым стоит лишь открыть рот – и слушатель погружается в волны прекрасных звуков, а домой уходит отдохнувшим и довольным. Другие посредством личного обаяния и индивидуальности заставляют слушателей забыть о несовершенстве их голосов; они добиваются признания и уважения. Некоторые обладают столь выдающейся техникой, что в неделю разучивают сложнейшие партии, другие не в состоянии сами разобраться в партитуре и перепевают пластинки своих коллег. Путь наверх, прегражденный барьерами зависти, ревности и недоброжелательства, тернист, путь к славе – крестный путь. Есть режиссеры, которые так увлечены постановочной стороной дела, что превращают певцов чуть ли не в реквизит и заставляют делать на сцене вещи, мешающие или просто-таки не позволяющие петь. Некоторые приглашенные дирижеры, стремясь к шумихе вокруг постановки, дают молодым певцам слишком большие и тяжелые партии и плевать хотят на то, что губят голоса, Другие дирижеры, не заботясь о певцах, заставляют оркестр играть чересчур громко (а зачастую и в слишком высоком строе (Обычно камертон ля первой октавы настроен на 440 герц. Некоторые оркестры играют при строе ля 447 герц, что приводит к неисполнимости партий с высокой тесситурой.)) и тем самым вынуждают певцов форсировать пение, то есть добиваться объемного звучания за счет напряжения мускулов. Бывают импресарио, которые, по словам Лизы делла Каза, выжимают вверенные им таланты, как лимон, и выбрасывают. Одна часть публики лояльна, терпима и благодарна, манеры другой шокировали бы и матерого футбольного обозревателя. Короче говоря, оперный мир больше всего напоминает садок с акулами, в котором не выживет аквариумная рыбка. Еще раз: что есть примадонна? Только не коммивояжер от пения. Только не прилежная, надежная, ко всему подготовленная певица: такая выполняет роль эрзаца, когда нет настоящей примадонны. Примадонне нужно больше – музыкальность, темперамент, притягательная Сила, выразительность и, как сказал Россини, "голос, голос и еще раз голос". Но возможно ли, чтобы все эти качества сочетались в одном человеке? Может быть, в Розе Понсель? Она обладала необычайно звучным, великолепным голосом, чудной музыкальностью, но не слишком выдающейся техникой и чересчур сдержанным темпераментом. Нелли Мельба? У нее был несравненный голос, блестящая техника, несомненная музыкальность – и темперамент мраморной статуи. Может быть, Кирстен Флагстад? Это вокальное чудо было наделено притягательностью добродетельной матроны. Показательны ее слова о Лотте Леман в роли Зиглинды в "Валькирии" Вагнера: так, мол, может вести себя жена с мужем, а не певица на сцене. Как насчет Лотты Леман? Замечательная музыкальность, драматическая и поэтическая фантазия, оригинальность, темперамент, роскошный голос – и зачастую хромающая из-за стремления к выразительности техника. Марта Мёдль? Темперамент, полная отдача, выразительность при посредственных вокальных данных и проблемах с техникой. Монтсеррат Кабалье? Чарующей красоты голос, несомненная музыкальность – и темперамент спящей красавицы.
Еще больше затрудняет дело то обстоятельство, что и голос, и музыкальность, и темперамент у каждой певицы – дело особое. Голос Дженет Бейкер был меньше, нежнее, чувствительнее, чем, к примеру, у Оттилии Метцгер или Эбе Стиньяни; ее темперамент не полыхал столь ярким пламенем, как у Кончиты Супервиа или Астрид Варнай; однако стоит услышать ее в партии Орфея в опере Глюка или в плаче Ариадны Клаудио Монтеверди, чтобы Почувствовать неподдельное внутреннее волнение, подлинный пафос, которого не хватает всем этим певицам. Голос Биргит Нильсон или Эми Шуард – нечто иное, чем голос Ренаты Тебальди или Миреллы Френи; бельканто Джоан Сазерленд или Мэрилин Хорн – нечто иное, чем бельканто Марии Каллас или Магды Оливеро. Дивой, однако, – а нужно ли говорить, что слово "дива" означает "богиня"? – может стать лишь та певица, что по законам чудесной алхимии сплавляет в себе воедино все перечисленные выше качества, добродетели, особенности и черты и что осмеливается жить в вечной опасности, как все великие, – говоря словами того же Ницше, позволяет загнать себя в одиночество славы.
Если следовать всеобщему стремлению к классификации, нужно сказать, что примадонны бывают двух видов: дива пения и дива искусства. Разницу между ними выражает не слишком остроумная, но расхожая шутка о том, что дива пения перед выходом на сцену в роли Маргариты в опере Гуно выводит трели и осматривает свой костюм, а дива искусства читает Гете. Однако дива пения немыслима без художественного мышления, а дива искусства – без выдающегося голоса: голос Каллас даже самые горячие поклонники не могли признать безупречным, но это не помешало Тито Гобби сказать, что она иногда пела так, как нам дано услышать лишь раз в жизни.
Критикам Джоан Сазерленд или Монтсеррат Кабалье можно возразить, что совершенное звукообразование само по себе является художественным достижением огромного значения. С другой стороны, даже в тех случаях, где стремление к яркой выразительности, своего рода яростная экспрессия, негативно сказывалось на технической стороне пения (Лотта Леманн, Клаудиа Муцио, Аня Силья или Магда Оливеро), основой выразительности все же оставалась техника, управление голосом. Одним словом, упразднение певческой техники и артистического контроля приводит к эстетической катастрофе. На закате карьеры, когда время уже успело транспонировать голос примадонны на один-два тона вниз, хождение по канату вокала оборачивается балансированием на острие бритвы.
Не знаю насчет величия, но, по крайней мере, историческое значение исполнителя становится явным из литературы, написанной о нем или им самим. Мемуары Бруно Вальтера, Фрица Буша, Томаса Бичема, Григория Пятигорского – важные культурно-политические документы. Попытки выдать себя за то, чем не являешься на самом деле, в них встречаются редко. То же можно сказать и о "Незавершенном странствии" Иегуди Менухина.
Зато большинство книг о Тосканини можно обозначить английским термином "книжка для чаепития": они представляют собой не что иное, как претенциозные рекламные издания, предназначенные для почитателей, избирающих себе кумира по велению нарциссистского инстинкта. Удивителен и одновременно закономерен тот факт, что первую дельную биографию Тосканини написал человек, никогда не встречавшийся с ним, а именно – Харви Сакс. Большинство биографий и так называемых "автобиографий" певцов, написанных неведомо кем, вызывают у читателя стойкую эстетическую оскомину, Будь то "Кири" (Те Канава), "Больше чем дива" (Рената Скотто), “Мря история" Паваротти или "Оперные люди" (описанные Кристианом Штайнером в стиле глянцевых журналов). О Марии Каллас написано не меньше двадцати книг, причем многие из них – с единственной целью посмаковать "непристойности", по выражению Хельмута Шмидта. Толковые книги принадлежат| перу Джорджа Еллинека (издание осуществилось уже в 1960 году !) и Пьер-Жана Реми (1978). Нельзя не отметить "Наследие Каллас" Джона Ардойна и составленную Джеральдом Фитцджеральдом биографию в фотографиях и интервью, в которой слово получили почти все известные коллеги певицы. Арианна Стасиинопулос обещает взгляд "За легенду", но на деле творит миф. Даже собранное ею огромное количество биографических деталей, касающихся прежде всего теневой стороны жизни и карьеры Каллас, не извиняет полной беспомощности в подходе к художественному феномену Марии Каллас.
Глава 3
Парадокс о выразительности,
или Красивый и некрасивый голос
"Ибо красота есть не что иное, как начало ужасного, которое мы еще можем выносить, и мы так наслаждаемся ей
потому, что она не спешит нас уничтожить."
Райнер Мария Рильке. «Первая Душская элегия»
На сцене я пела не так хорошo, как в своем воображении", '– сказала Мария Каллас после премьеры «Нормы» 1948 года, имевшей огромный успех.
Эту самокритичную фразу – а самокритичность принадлежала к образцовым добродетелям певицы – следует прочесть дважды. Дважды потому, что необходимо осознать сомнения, одолевающие исполнителя, обладающего бесспорным художественным вкусом и точным представлением о роли, перед лицом различия между художественным идеалом и его практическим исполнением. Да стоит ли говорить о переживаниях? Вальтер Беньямин сформулировал это различие с осязательной точностью: "Произведение – это посмертная маска концепции".
Что касается всех видов искусства, и в особенности музыки, то исполнитель – и в особенности певец – всегда стоит перед невыполнимой задачей воплотить концепцию в постановке. Инструменталисту достаточно технического владения инструментом, в то время как певец носит свой инструмент в себе самом и потому полностью зависим от состояния собственного организма. В отличие от опытного инструменталиста он не может переключиться на режим автопилота во время спектакля. Говоря о
качествах, необходимых скрипачу, Яша Хейфец назвал, помимо идеальной техники, искусство абсолютного расслабления и сосредоточения, присущее буддистским монахам, и нервы тореадора. Певец может обладать и подобным спокойствием, и способностью к концентрации, и стальными нервами, но что в них толку, если его подведет собственное тело? Что делать, если певец хочет не просто "подогнать партитуру под голос", как
говорила Мария Каллас, а исполнить свою партию с той же идеальной точностью, с какой Яша Хейфец играл концерты и сонаты?
Более чем любому инструменталисту, певцу нужно полностью раскованное самоощущение, чувство собственного тела, питающее его инструмент: без этого внутреннего чувства невозможна почти животная естественность звучания, этот неоспоримый признак великого таланта. Как пишет Франциска Мартинсен-Ломан в своей книге «Знающий певец», «есть особая телесная радость, поющая словно сама по себе и не осознающая этого. Наслаждение собственным звучанием наполняет дух ощущением прекрасного».
Красота – магическое и одновременно банальное понятие, применяющееся к пению. Слова Туллио Серафина об «этом великом, некрасивом голосе» нельзя счесть пренебрежительной оценкой, хотя на
первый взгляд они подтверждают распространенное мнение, что голос Каллас от природы не был столь изысканным, как у Нелли Мельба, Розы Понсель, Зинки Миланов или Ренаты Тебальди. Это и верно, и неверно, а подобная полуправда зачастую оборачивается полной ложью, препятствующей верному пониманию искусства.
Тот же Туллио Серафин, работавший со всеми великими певцами, заметил в другой связи, что видел за всю свою жизнь лишь три настоящих певческих чуда: Энрико Карузо, итало-американское сопрано Розу Понсель и баритона Титга Руффо. Под певческим чудом этот дирижер, которого никак нельзя обвинить в слепом преклонении перед голосовым материалом, разумел первобытно-чувственное, задевающее за живое звучание, наполненность и волнующую силу этих голосов, пленительную
красоту тембра, – но он забыл упомянуть, что впечатление абсолютной естественности этих голосов возникало за счет отсутствия стопроцентной певческой техники. Эрнст Блох в "Принцип надежды" назвал это сочетание качеств "материальной магией поющего эротикона". Наряду с "певческими
чудесами" Серафин выделил еще "пригоршню замечательных певцов", с которыми ему довелось работать. Можно предположить, что к ним он причислял и Марию Каллас.
Подобное разграничение, к которому прибегнул Серафин, известно еще из ранней истории оперы. Уже в XVII веке французский теоретик пения Бенинь де Басильи выделял два сорта голосов -
хорошие и красивые. Певцы первого типа, хоть и не обладали выдающимся природным талантом, все же были в состоянии выполнить то, что требовалось от них в музыкальном или театральном отношении; вторые, одаренные от природы, ни на что существенное годны не были.
Понятие «красота» в данном контексте служит лишь приблизительным критерием оценки. Говоря о красивом голосе, подразумевают лишь некое чувственное качество этого голоса и вызываемый им у зрителя спектр ощущений, а ведь ощущение, по Гегелю, это «смутная область духа». Значит, понятие «хорошего голоса» возникло всего лишь как антитеза к «красивому голосу». Однако красивый по звучанию, но маловыразительный голос не может считаться удовлетворительным в музыкально-
драматическом отношении; точно так же сомнителен "хороший" голос без соответствующих качеств звучания и технической отшлифованности в отношении эстетическом. К парадоксам музыкальной выразительности в опере относится и тот факт, что даже сильные эмоции вроде ненависти или гнева могут быть выражены в "блаженной полноте звука" (Т.Манн). Таким образом, противопоставление "хорошего" и "красивого" голосов -не что иное, как вспомогательная конструкция, заявляющая проблему, но не разрешающая ее. Эта дихотомия веками оставалась предметом эстетических дискуссий. При этом случайные слова
композиторов о чем-либо зачастую однозначно интерпретировались как их устоявшаяся и неизменная точка зрения на этот предмет. В качестве примера можно привести часто цитируемое изречение Вагнера о высоко ценимой им Вильгельмине Шредер-Девриент: "В беседах о ней меня
частенько спрашивали, так ли значителен ее голос, чтобы говорить о ней как о великой певице. Этот вопрос неизменно вызывал во мне чувство досады, ибо я не считал возможным ставить великую трагическую актрису в один ряд с этими кастратами женского пола, которых так много в нашем
оперном театре. Если бы меня спросили об этом сейчас, я бы ответил: нет! У нее совершенно не было голоса, но она умела столь прекрасно обращаться со своим дыханием, пробуждая в нем подлинную
женственность, что заставляла забыть и о пении, и о голосе".
Это изречение тоже кажется доводом в пользу «хорошего» голоса и осуждением просто «красивого» или виртуозного; оно I оказалось на руку не только вагнерианцам, идеалом которых был поющий актер, а не играющий певец, но и эстетам, которым само слово «техника» казалось измысленным лукавым на погибель музыке. Хотелось бы знать, что же это делала Шрёдер-Девриент со своим дыханием, когда пела Памину, Леонору, Агату, Норму, Амину и Дездемону в «Отелло» Россини. Скорее всего, она и в техническом отношении была первоклассной певицей, даже если Вагнеру
важнее был ее драматический талант. В "Processo alia Callas" ("Дискуссии о Каллас"), проходившей в эфире одной из итальянских радиостанций в 1969 году, участие в которой приняли Эудженио Тара, Феделе д'Амико, Ро-дольфо Челлетти, Джордже Гуалерци, Лукино Висконти и Джа-нандреа
Гавадзени, – старая дилемма зазвучала с прежней силой. Даже эти ценители признавались, что их наполняет дрожью мошный, вибрирующий на высоких нотах голос Каллас, даже критики и противники не могли отрицать, что их трогает и зачаровывает "меланхолическая окраска" ее тембра, восхищает ее драматический талант. Однако переформулированная фраза Рихарда Вагнера об умелом обращении с дыханием, возмещающем Каллас некрасивый голос, столь же поверхностна, I сколь и распространенное представление о том, что каждая нота у Каллас имела свое значение в контексте фразы, речитатива или арии и что удачное целое важнее отдельных неудачно спелых нот.
Вопрос в том, когда и каким образом резкое, некрасивое звучание приобретает драматический смысл. Вправе ли исполни-тельнниа партии Тоски взвизгнуть на словах «е l'Attavanti»? Должна ли Леди в «Макбете» иметь неприятный голос? Записи Марии Каллас заставляют нас искать ответа на эти вопросы, Ибо ее стремление к выразительности зачастую сказывается на нении, причем чем оно убедительнее в драматическом плане, тем более сомнительным становится в вокально-эстетическом
(даже если считать оный и менее важным). Продолжая мысль Ингеборг Бахман, можно сказать, что вообше-то провал в вокально-техническом отношении тоже возможен на разном уровне, а чтобы избежать его, надо просто-напросто не задаваться вопросом об идеале.
Справедливости ради скажем, что Мария Каллас, бесспорно, не была «безупречнейшей из певиц, когда-либо всходивших на сцену», как написал Уильям Джеймс Хендерсон в книге «Искусство пения» об итальянской примадонне Аделине Патти. Спетое ею далеко не всегда отличалось безукоризненной чистотой и округлостью звучания – существенный
недостаток, так как именно эти качества важны не только в техническом, но и в музыкальном отношении. Роскошный тембр, отшлифованный технически, относится к редчайшим достоинствам голоса и пения в целом.
Тембр голоса Каллас был в звуковом отношении неповторимым и своеобразным, но не красивым, даже «по сути своей неприятным», по словам Родольфо Челлетти. Время от времени она издавала истонченные и сухие звуки, подчас резковатые и не имевшие решительно ничего общего с тем, что на певческом жаргоне зовется «шелком», «атласом», «переливами» или «сладостью». Тем более пронзительна звучал металл в ее голосе, жесткое пронзительное «ядро», важнейшая предпосылка для светоносности и полетности.
Bозможно ли петь красиво, имея подобный тембр голоса? Здесь показателен пример той же Аделины Патти, голос которой с возрастом хотя и транспонировался вниз на малую терцию, как подметил Джордж Бернард Шоу, но в звуковом отношении оставался таким же безукоризненным. Будучи уже более шестидесяти лет от роду, она выводила самые чистые и
округлые трели, какие только можно услышать на пластинках. Хорошее состояние ее голоса американская сопрано Клара Луиза Келлок объясняла в своих "Мемуарах американской примадонны" тем, что Патти "в жизни не позволяла себе эмоций", ибо именно эмоции виной тому, что голос изнашивается и портится. "Она никогда не играла и никогда, никогда не
допускала живых чувств", – добавляла Келлок.
Осудить Патти за такую установку было бы, однако, чересчур поспешным и необдуманным, пусть даже сегодня ома кажется чуждой и странной. Эту же черту Джульетта Симионато поставила в заслугу Монтсеррат Кабалье, защищая ее от критиков, упрекавших ее в отказе
от выразительности во имя красоты звучания: эмоциональную отдачу в драматической роли Симионато назвала главной опасностью для голоса. Спор о том, должен ли артист только сопереживать тому персонажу, которого изображает, или полностью отождествляться с ним вплоть до полного самозабвения, стар как мир. Дидро в своем "Парадоксе об актере'' писал, что слезы актера источает его рассудок и что подлинность чувств выдает плохого актера: хороший актер должен уметь со стороны
наблюдать за тем, что играет. Даже такой экспрессивный певец, как Федор Шаляпин, вошедший в историю Оперы как один из первых певцов-артистов и вполне сравнимый по значению с Марией Каллас, придавал наибольшее значение Тому, что Чаплин называл "механикой сцены", – точно просчитанным и наработанным и никогда не изменяющимся приемам игры. Речь идет о логике каждого жеста, каждого движения, О той опосредованной, порожденной сознанием естественности, которую так подробно описал Генрих Клейст в своем этюде "О театре марионеток".
То же самое можно отнести и к пению. Кажущееся на первый взгляд простым определение Уильяма Джеймса Хендерсона гласит, что пение – это «интерпретация текста посредством музыкальных тонов, производимых человеческим голосом». Музыкальный тон Хендерсон
определял как "красивый тон", а красоту – как округлость, наполненность, интенсивность при любых динамических градациях и как гармоническую связь основных тонов и обертонов. Это определение не становится менее верным оттого, что не уточняет, что некоторые роли требуют voce soffocata (придушенной манеры пения), как, например, Отелло Верди, или сверхъестественной громкости звука, как Кундри Вагнера, или возникшей в веризме aria d'urlo – арии с криком; просто нужно оговориться, что композиторы конца XIX века использовали в своих произведениях наряду с "тоном" другие выразительные средства – крик, восклицание, рыдание.
Само собой разумеется, что красивый звук не должен быть самоцелью: он призван оттенять слово, фразу, драматическую взаимосвязь. Уже Пьер Франческо Този в своем легендарном трактате «Размышления о певцах древних и современных» подчеркивал, что певец
отличается от инструменталиста именно даром слова. "При условии наличия хорошего голоса великое пение возникает лишь тогда, – писал Эрнест Ньюман после премьеры "Травиаты" с Розой Понсель в главной роли, – когда разум певца взаимодействует с внутренним смыслом музыки". Этот смысл выражается в слове как в вербальном носителе музыкальной мысли. Однако несомненно, что чем тоньше и осознаннее это взаимодействие, тем болшую опасность оно представляет для певческой техники, в частности, для качества звучания. Идеальный звук возникает лишь в том случае, если воздух, который вдохнули медленно, мягко и глубоко, равномерным потоком достигает голосовых связок, сообщает
им колебание без щелчка клапана голосовой щели и образованный таким образом звук словно бы равномерно обрезается без дополнительного толчка дыхания. Любое чувство, любой признак волнения, любая акцентация, корок, любая попытка передать "эмоцию" влияет на чистоту звука или изменяет его.
Иегуди Менухин кратко и точи сформулировал эту несовместимость техники и выразительности: «Интерпретация -злейший враг техники». Исполнителей, столь близко подошедших к техническому совершенству как скрипач Яша Хейфец, пианист Йозеф Хофманн, молодой Владимир Горовиц или сопрано Нелли Мельба, постоянно очиняют в отсутствии живых чувств или даже в бездушии, так у них почти не заметно усилия выразить ту или иную эмоцию; тогда им приписывают беспечность в исполнении, как если бы эта легкость, возникающая только тогда, когда преодолены во технические трудности, не была высшим критерием мастерства. Идеальное звучание и техническое совершенство – не внешние атрибуты пения, а важная цель, что лучше всего подтверждает пример Верди, восторгавшегося блестящей певицей Целиной Патти как совершенной актрисой.
Для Марии Каллас это совершенство было недостижимо. В ее пении стремление к драматическому эффекту изначально ощущалось как усилие, и это отражалось на технике в той ее части, которая касалась собственно постановки голоса. Разные критики указывали на особенности звучания ее
голоса, в частности, на то, что ее сопрано быта не до конца выровненным, неправильно "смешанным". Оно казалось составленным из трех голосов и, таким образом, не соответствовало сегодняшнему идеалу "однорегистровости" с плавными переходами из нижнего регистра в верхний. Вальтер Легге, с 1953 года являвшийся продюсером всех наиболее значительных студийных записей певицы, так описал особенности ее голоса: "Каллас обладала тем, без чего невозможна
головаружительная карьера, – моментально узнаваемым, только ей одной свойственным тембром. Это был дивный голос, диапазон которого в лучшие ее годы охватывал около трех октав, хоть на высоких нотах он временами звучал неуверенно; кроме того, при попытке записать "Mon coeur s'ouvre a ta voix" Далилы мы обнаружили, что низкие пассажи
требовали больше звучности, чем она могла из себя извлечь. Природное качество голоса было роскошно, техническое мастерство феноменально. Каллас обладала, по сути, тремя разными голосами и могла наделять их какими угодно эмоциональными оттенками. Один из этих голосов -
высокое колоратурное сопрано, объемное, великолепное (и глухое, когда она того хотела), на удивление гибкое. Даже при сложнейших фиоритурах она не испытывала в этой части своего голоса ни одной технической или музыкальной трудности, которую не могла бы разрешить с изумительной,
непринужденной легкостью. Ее хроматические пассажи, особенно нисходящие, обладали чудной плавностью, стаккато она пела с почти безукоризненной уверенностью даже при очень маленьких интервалах. Во всех произведениях XIX века, написанных для высокого сопрано, едва ли найдется хотя бы один такт, который бы потребовал от нее серьезного напряжения сил, хотя на длящихся высоких нотах она иногда соскальзывала вверх и чересчур высоко интонировала в тех местах, где
требовалась атака con forza – с силой.
Ее средний регистр был, в общем-то, глухо окрашен. В этом положении она могла наиболее плавно
петь легато и добивалась наибольшей выразительности. Здесь она развивала своеобразное и абсолютно индивидуальное звучание: возникало впечатление, что она поет в бутылку. Я полагаю, что это было связано с необычным строением ее верхнего неба: оно имело форму готической арки, а не романской, как это обычно бывает. Грудная клетка у нее была сильно вытянута в длину по сравнению с другими женщинами ее роста; это обстоятельство вкупе с хорошо развитыми межреберными мышцами обеспечивало ей редкую способность выпевать длинные фразы на одном
дыхании без видимых затруднений. Грудным голосом она пользовалась в основном ради драматического эффекта и при помощи его могла петь более высоко, чем другие певицы со сходным диапазоном, если ей казалось, что того требуют текст или ситуация. К несчастью, объединить три практически несовместимых голоса ей удавалось только при быстром музыкальном темпе, особенно в нисходящих пассажах, однако где-то до 1960 года ей удавалось ловко скрывать эти слышимые переходы".
Можно продолжить вивисекторские замечания Вальтера Легге. Когда Каллас, по его выражению, «пела в бутылку», ее голос принимал гортанную окраску; чаще всего это происходило при переходе из низкого регистра в средний, на нотах соль и ля. Своеобразен был и переход из среднего в верхний регистр на нотах фа и соль. На самых верхних нотах, ре и ми и особенно ми бемоль третьей октавы, – ими часто завершались кабалетты в операх Верди и Доницетти, – ей не всегда удавалось сохранить устойчивость звука: в него закрадывалось то, что англосаксы называют wobble, – своего рода «шаткость». Обший диапазон голоса простирался от фа-диез малой октавы до ми третьей октавы и даже до фа, которое она пела в партии Армиды в опере Россини.
Вернемся к оценке ее голоса Родольфо Челлетти. Как и Туллио Серафин, критик считал его звучание и тембр некрасивыми, однако придерживался точки зрения, что "значительной долей своего
воздействия ее голос обязан именно нехватке шелка и атласа". Один блестящий знаток пения писал об этом странном и эстетически амбивалентном феномене так: "Она обладает поразительной
способностью петь партии как сопрано, так и альта. Думается мне, что голос ее по сути своей – меццо-сопрано, и композитор, пишущий для нее, должен был бы использовать прежде всего средний регистр, но... не отказываться и от тех нот, которые лежат на периферии этого богатейшего голоса. Многие из них не только красивы сами по себе, но и способны порождать особого рода резонанс и магнетическую вибрацию, оказывающие непосредственное и даже гипнотическое воздействие на
души слушателей благодаря подобному соединению необъяснимых физических феноменов...
Голос вылит из неоднородного металла. Основополагающее разнообразие звучания, производимого одним-единственным голосом, обеспечивало необыкновенное богатство музыкальных
выразительных средств....Многие выдающиеся певцы старой школы способствовали тому, чтобы очевидный дефект мог стать источником бесконечной красоты....История искусства заставляет нас предположить, что секрет выразительного пения кроется не в безупречно чистом, серебристом, идеально звучащем на любой ноте своего диапазона голосе. Голос, тембр которого не меняется, не способен породить того словно бы дымкой подернутого звучания, которое сталь трогательно и в то
же время кажется таким естественным в момент сильного переживания или бешеного гнева".
Автор, предугадавший голос Марии Каллас и его воздействие, никогда не слышал ее пения. Это был французский романист Стендаль, а процитированный панегирик взят из "Жизни Россини'' и
относится к Джудитте Пасте, первой исполнительнице партии Нормы. О Пасте писали, что она иногда поет, как чревовещатель; то же самое говорили и о Каллас. Приведем еше одно описание голоса Джудитты Пасты – первой представительницы совершенно особого певческого типа, в
последний раз воплотившегося в Марии Каллас. Генри Чорли, еще один знаток пения и оперы XIX века, писал о Пасте в своих мемуарах 1862 года: "Она истязала себя бесконечными вокальными упражнениями, стремясь обрести контроль над своим голосом. Выровнять его она не могла. Некоторые ноты ей удавались не так хорошо, как остальные; она постоянно соскальзывала с правильной высоты, особенно в начале спектакля. Вот из какого грубого материала пришлось ей мастерить свой
инструмент. Ее усилия достигнуть совершенства, должно быть, были сверхъестественны, и, раз достигнув полноты и великолепия, звучание приняло абсолютно индивидуальный характер. В ее руладах была широта и экспрессия, в трелях – ровность и уверенность, и все это придавало каждому пассажу такую значительность, какая и не снилась более легким и спонтанным певцам".
В другом месте читаем: "Мадам Паста считалась певицей со скудными средствами: действительно, она медленно читала с листа, однако обладала одной из важнейших музыкальных способностей – умением рассчитывать и соизмерять время. Такое встречается реже, чем хотелось бы, и отсутствия