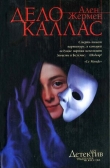Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Висконти объяснил, что бурный вечер явился следствием ссоры между двумя группировками поклонников. Гирингелли попытался предотвратить беспорядки в дальнейшем и с эти пор разводил во времени постановки с участием этих певиц, что, однако, помогло мало. Еще меньше помогло делу заявление Марии Каллас, не то реальное, не то вымышленное, но сяком случае опубликованное в прессе: «Если моя дорогая подруга Рената Тебальди споет в один вечер Норму или Лючию, а в следующий Виолетту, Джоконду или Медею, – тогда и только тогда мы станем соперницами, а до тех пор сравнивать нас – все павно что сравнивать шампанское с коньяком. Нет – с кока-колой». Вскоре после этого Рената Тебальди отвергла «Ла Скала» и с тех пор пела в «Метрополитен Опера», так что, приехав в Нью-Йорк, Мария Каллас обнаружила, что тамошняя публика, как выразился Фитцджеральд, предпочитает кока-колу.
Казалось бы, пустяковая неприятность, однако с нее началась целая вереница больших и маленьких неудач. Одна из них последовала сразу же за представлениями «Андре Шенье» в Риме. Спустя шесть недель после того, как там открылся сезон спектаклем с Ренатой Тебальди, туда привезли на гастроли «Медею» театра «Ла Скала»; первый спектакль игрался 22 января 1955 года, и почитатели Тебальди сильно подпортили настроение Каллас. К тому же она настроила против себя коллег и прежде всего болгарского баса Бориса Христова, настаивая на длинных и добросовестных репетициях. После представления толстяк загородил дорогу певице, которую вызывал зал, и не дал ей выйти на сцену в одиночестве. Подобные эпизоды, по сути сущие пустяки, попадали в газетные передовицы чуть ли не чаше, чем описания ее отшлифованного до малейших деталей «пламенного, яркого, демонического, изумительного сценического образа» (Джорджо Виголо). За этой фразой в рецензии следует: «Неудивительно, что ей так удаются роли чародеек (Кундри, Армида, Медея). Есть что-то завораживающе-магическое в ее голосе, своего рода вокальная алхимия».
Когда Мария Каллас вернулась в Милан после спектаклей в Риме, она была измотана до предела. Фурункул на шее вынудил ее отложить премьеру «Сомнамбулы» Винченцо Беллини, состоявшуюся двумя неделями позже. За счет выигранного времени дирижеру Леонарду Бернстайну удалось провести в обшей ложности восемнадцать репетиций. Из Чикаго прибыл Лоуренс Келли, чтобы обсудить с певицей детали контракта на второй сезон в Лирической Опере: после триумфа в первом сезоне обойтись без этого было просто невозможно. Говорят, что то ли от усталости, то ли из каприза Мария Каллас посоветовала Келли пригласить Ренату Тебальди: «Тогда аудитория получит возможность нас сравнить, и сезон будет еще успешнее».
Пришлось американцу попотеть, чтобы добиться ее согласия. В условия контракта входило обязательство Лирической Оперы оградить Марию Каллас от ее бывшего агента Эдварда Багарози и возможных претензий с его стороны. Никола Росси-Лемени откупился от него парой тысяч долларов, в то время как Мария Каллас и Менегини придерживались мнения, что плата полагается только за заслуги. Хотя адвокаты четы Менегини не скрывали сомнений относительно этого ангажемента, Мария Каллас все же подписала контракт.
Переговоры с Келли велись в ресторане «Биффи-Скала» -там же, где встречались Каллас, Висконти и Бернстайн, чтобы обсуждать предстоящую в скором времени премьеру «Сомнамбулы». В этой постановке Висконти представил зрителям новую Каллас: он уподобил ее легендарной балерине Марии Тальони, современнице Джудитты Пасты, которую, в свою очередь, можно назвать вокальным прообразом Марии Каллас. Образ ранимой, хрупкой женщины, созданный Каллас в «Сомнамбуле», после ее смерти перестал быть ролью и подменил собой реальную личность певицы. Этот сценический образ ничего общего не имел с имитированием или подражанием: скорее, певица преобразила искусство искусством, актуализировав считавшееся устаревшим произведение. Фотографии довершают впечатление неописуемой грациозности и легкости, присущих лишь выдающимся балеринам, которое создается уже при прослушивании записи. Сценограф Пьеро Този вспоминал, что талия певицы была тоньше, чем у Джины Лоллобриджиды. «Она вызвала нашу старую костюмершу и попросила измерить свою талию и затянуть себя в корсет. Говорю вам, в нем задохнулась бы и кинозвезда, а Каллас должна была петь». Този подметил странную метаморфозу: в этой роли высокая и энергичная Каллас казалась маленькой и хрупкой, передвигалась легкими и паряшими шажками балерины, а стояла в «пятой позиции» (одно из основных положений ног в «академическом балете», когда ступни стоят параллельно, одна за другой, но в разных направлениях, так что носки и пятки обеих ног соприкасаются).
Даже если сама по себе идея принадлежала Висконти, кому-то нужно было воплотить ее на сцене, и неизвестно, что бы вышло, если бы ее воплощала Джоан Сазерленд или Монтсеррат Кабалье. Как бы это выглядело, если бы одна из них во втором акте, в сцене грез Амины о возлюбленном, прерванных приконовением графа, упала на пол, как Марго Фонтейн? Атмосфера этой постановки погружала зрителя в мир грез – грез потерянного, меланхоличного времени. Более того, это был вечер театральной магии. В финальном акте, когда Амина Марии Каллас, идя по мосту в сцене лунатизма, наступала на сломанную планку и оступалась (вздох хора), зрителям казалось, что она летит в пропасть, хотя она совершенно спокойно стояла на месте.
Този наблюдал это на репетициях и решил выяснить, как певица добивается такого эффекта. На премьере он стоял за кулисами и заметил, что, взойдя на мост, певица начала постепенно наполнять легкие воздухом, словно бы отрываясь от земли. В нужный момент она резко выдохнула – и показалось, будто она падает. «Ну что тут скажешь? – прокомментировал Този. – Она была театральной кудесницей и владела всеми художественными средствами». В финале волшебная иллюзия разрушалась гениальным режиссерским ходом: в тот момент, когда Амина просыпается с торжествующей кабалеттой «Ah, non giunge», в театре разом вспыхивали все огни, освещая стоявшую посреди сцены Марию Каллас – уже не Амину, но примадонну, королеву «Ла Скала», наполнявшую искрометными стаккато отшлифованное Бернстайном рондо. Конец арии тонул в оглушительных аплодисментах. «Это была магия, – говорил Този. – Она сводила публику сума».
В промежутке с 5 по 30 марта 1955 года Мария Каллас семь раз пела «Сомнамбулу», а в апреле – еще три раза. В то же время, 15 апреля, она с грандиозным успехом исполнила комическую роль, спев Фьориллу в «Турке в Италии» Россини под руководством Джанандреа Гавадзени, в постановке еще только начинавшего свою карьеру Франко Дзеффирелли, которому, как пишет Джеральд Фитцджеральд, стоило немалых усилий превратить трагическую актрису в комедиантку. По словам Дзеффирелли, в реальной жизни в певице не было ничего комичного, так что ему пришлось придумать ее персонажу комиссую черту. Зная, что Каллас обожает украшения и после каждой премьеры получает от Менегини в подарок очередную побрякушку, режиссер украсил турка драгоценностями и объяснил певице, что Фьорилла должна зачарованно следить взглядом за этим нарядным чучелом, а всякий раз, когда он протянет ей руку с перстнями, хватать ее с восторгом и жадностью. Говорят сцена получилась невероятно смешной, однако, что это был за тип юмора – сочный юмор бытовой комедии или абстрактно-прохладный комедии дель арте?
Если можно судить по замечательной записи, которой дирижировал тот же Джанандреа Гавадзени, то сам собой напрашивается вывод, что Фьорилла Марии Каллас вышла далеко за рамки типизированного персонажа комедии дель арте, равно как и за пределы условности, характерной для оперы-буффа.
Дзеффирелли рассказывал, что во время подготовки к премьере «Турка» Каллас посмотрела фильм «Римские каникулы» и загорелась желанием выглядеть такой же нежной и изящной, как главная героиня картины в исполнении Одри Хепберн. Красота и украшения, элегантность и шик стали ее идолами, ибо «служили своеобразным оружием для зашиты от враждебного мира» (Арианна Стасинопулос). Тенор Джон Викерс, певший с Каллас в «Медее» в 1958 году, в разговоре называет ее не иначе, как «маленькой Марией», но эту «маленькую Марию» она старательно скрывала от внешнего мира. Только в спектаклях она становилась «маленькой Марией» – в ролях Амины, Лючии, Виолетты.
«Травиатой» Верди завершился сезон «Ла Скала», успешнейший из всех сезонов Каллас, хоть автор придерживается мнения, что лучше всего она пела в сезоне 1951-1952 годов, когда ее вокальная и драматическая энергия развернулась в полную силу. Постановка оперы Верди была плодом альянса Лукино Висконти, Карло Марии Джулини и Марии Каллас, признавшейся в интервью Дереку Праузу, что ей понадобились долгие годы, чтобы научиться показывать болезнь Виолетты в самом звучании ее голоса. «Все дело в дыхании, – сказала она. – Нужна очень здоровая глотка, чтобы заставить голос звучать устало все это время». Позже, в одном из лондонских спектаклей, она возьмет верхнее ля в финале «Addio del passato» настолько нежно, что нота на мгновение оборвется. В одном из интервью она объясняла, что сделала это намеренно: возьми она это ля чуть погромче, нота получилась бы тверже и увереннее, но эффек бы исчез.
После премьеры, прошедшей 28 мая 1955 года, Лукино Висконти подвергся жестокой критике. Его вина заключалась том, что он, во-первых, перенес действие оперы в fin de siecie, 1875 год, чтобы иметь возможность одеть Каллас в костюмы той эпохи, во-вторых, заставил Виолетту сбрасывать туфли с ног перед арией «Sempre libera», а в-третьих, Виолетта у него умирала не в постели, а в пальто и шляпе. Подобные незначительные отступления от текста либретто еще три десятка лет назад считались чуть ли не святотатством. В скором времени постановка быпа причислена к сонму театральных легенд – прежде всего благодаря тому, как в ней был решен образ Виолетты. Джузеппе ди Стефано в роли Альфреда был приемлем, а вот Жермону Этторе Бастьянини не хватало выразительности (* Бастьянини бесспроно обладал одним из самых красивых баритонов послевоенного времени с очень привлекательньным темным тембром (который выдает его басовое происхождение, но он не понимал того, что Верди называл " miniare " (тембральная краска).Уже во время репетиций тенор начал роптать, возмущенный кропотливостью Висконти, который стремился довести до совершенства каждый жест, каждое движение. Он начал опаздывать на репетиции или вовсе на них не являлся, а когда Джулини после премьеры отправил Марию Каллас в одиночку на поклон, ди Стефано не просто немедленно покинул театр, но и вовсе отказался от своей роли. В спектаклях 31 мая, 5 и 7 июня его заменял добросовестный Джачинто Пранделли. Не одни только непосредственные участники спектакля с воодушевлением говорили о Виолетте Каллас. Николай Бенуа причислял ее, наряду с Нижинским, к избранным художникам, отмеченным «чем-то божественным». Его коллега, сценограф Пьеро Този, признавался, что плакал во время спектакля, что неудивительно, если послушать запись и посмотреть фотографии. Как в пении, так и в лице певицы отразилась глубочайшая боль. Александр Сахаров, учитель режиссера Сандро Секуи, с трудом мог поверить, что на оперной сцене появилась такая актриса, и говорил, что она напомнила ему великую Сару Бернар: играя Маргариту Готье (так героиню зовут в пьесе), Бернар застывала изваянием скорби, когда Альфред швырял деньги к ее ногам. Точно так же делала Каллас.
Трудно объяснить, по какой причине во время третьего спектакля, состоявшегося 5 июня, уже в финале первого акта публика начала выказывать недовольство. «Sempre libera» неоднократно прерывалась свистом, и Марии Каллас стоило немалых трудов допеть кабалетту до конца. После первого акта она вышла на сцену одна, чтобы досадить враждебной клаке, и снискала овации большей части публики; тем не менее она ощущала атмосферу враждебности в зале. В летнем номере журнала «Ла Скала» даже писали, что «у Каллас, без сомнения, много врагов», а коллеги ее «придерживаются мнения, что вполне достаточно иметь красивый голос и петь, приковав взгляд к дирижерской палочке, как это было пятьдесят лет назад». Далее в статье говорилось, что эти певцы неспособны ни на усилия, ни на жертвы – нужно ли пояснять, что Марии Каллас их нападки не страшны? Но утешает ли это певицу? «Одно можно сказать с уверенностью: за то, чтобы выделяться из толпы, приходится дорого платить».
Выделялась ли она на самом деле? Если да, то профессиональной тщательностью в репетициях, принимаемой многими за упрямство; чувством собственного достоинства при переговорах с руководителями театров; высотой требований. Ей не могли простить того, что она в одиночку купалась в лучах славы и не умела скрыть гордости, вызванной триумфами. Она прямо-таки взбесила коллег, появившись в ложе Гирингелли на просцениуме, чтобы наградить их аплодисментами: те расценили это как надменную провокацию и восприняли с холодным гневом.
Это означало, что Мария Каллас вышла на иную, опасную сцену, на которой уже не могла играть самостоятельно. Она стала звездой, мировой знаменитостью, и ее конкретная профессия утратила значение – кроме разве что тех случаев, когда она отказывалась петь или прерывала спектакль. Обстановка ее нового дома на улице Буонаротти в Милане, ее покупки, ее гардероб -все это давало повод сплетням или, вернее, печатной чепухе.
29 июня, через три недели после последнего представления «Травиаты» в «Ла Скала», она в очередной раз записала Норму для RAI в Риме; дирижировал Туллио Серафин. В июле она разучивала партию мадам Баттерфляй в опере Пуччини, запись которой под руководством Герберта фон Караяна была сделана в начале августа, а за ней последовали три спектакля в Чикаго. По окончании работы в студии последовала запись "Аиды Верди, продолжавшаяся с 10 по 24 августа.
Во время этой записи, как повествует Дрейк в биографи Ричарда Такера, между тенором и дивой возникли разногласи) На второй день в студии Такер должен был петь романс ‘’Celeste Aida", блестяще удавшийся ему с первого же раза, так что да Джованни Мартинелли, присутствовавший в студии в качес гостя и не слишком расположенный к Такеру, зааплодировав конце дня Такеру позвонил прибывший из Филадельфии кoммерсант Фредерик Р.Манн, увековечивший свою любовь к музыке в виде концертного зала Манна в Тель-Авиве, знавший продюсера Дарио Сориа и друживший с Серафином и Тито Гобби, и Ричард Такер пригласил его в студию.
На репетициях и в студии Мария Каллас казалась нервной и раздраженной и была не в лучшей форме. Она не успокоилась, пока не было сделано семь дублей терцета, следовавшего за романсом. На девятый день в студию пожаловала чета Маннов, и Такер надеялся, что они смогут услышать большую часть нильской сцены. После записи нильской арии Каллас впала в скверное настроение, нагрубила Федоре Барбьери и Серафину и рассердилась на американцев, имевших наглость назвать ее Мэри. Стоило Такеру начать «pur ti riveggo», как она забегала взад-вперед по сцене, стуча каблуками, так что звукорежиссерам пришлось прервать запись. И тут певица заявила: «Мне хотелось бы, чтобы все присутствующие отдавали себе отчет в том, что музыка „Аиды“ для меня священна». Коллеги Каллас согласно закивали, и она продолжила: «Когда я исполняю эту священную музыку, мне необходимо соучастие всего театра. Никто не имеет права меня отвлекать ни на минуту». Простодушно осведомившись, кто же ей мешает, Такер услышал в ответ: «Вон те люди в ложе. Я хочу, чтобы они немедленно покинули театр». Тенор пришел в ужас и попытался объяснить коллеге, кто эти люди, но она лишь пригрозила самолично покинуть театр. Положение спасли Манны, молча встав и удалившись. Сцена на Ниле записывалась в напряженной атмосфере. Кульминационная фраза финала – "Sacerdote, io resto a te – принадлежит тенору. Каллас осталась недовольна микшированием голосов в этой сцене и заставила сделать двенадцать дублей.
Вечером того же дня Такер пожаловался Туллио Серафину на оскорбительное поведение дивы. «Иногда ей просто необходимо устроить скандал, чтобы хорошо спеть, – объяснил тот. – Такие певиы нередко встречаются. И Лаури-Вольпи, и Марии рица нужно было с кем-нибудь спорить, бороться: послушали бы вы, как они кляли друг друга, когда в первый раз пели в „Турандот“ в „Метрополитен Опера“. То же самое и с Каллас. Ей нужно иногда скандалить, это у нее в крови». Такер не пожелал с этим смиряться, на что дирижер ответил: «Ричард, подумайте м, что у вас блестящая техника, чего не скажешь о Каллас, и ей это известно. На пластинке ваш голос звучит лучше, вот она и ревнует. Как вы думаете, зачем ей понадобилось столько дублей „Sacerdote“?». Тенор недоумевал, и Серафин разъяснил ему, что тем самым Каллас хотела его утомить; тут Такер разразился гневом и заявил, что может «петь эту чертову фразу до завтрашнего утра» и не устать ни чуточки.
Вполне возможно, что этот красочный эпизод соответствует истине. Однако надо учитывать, что книга, в которой он пересказывается, – апология Такера, а автор ее не упоминает, что дирижер, знаюший заботы певцов, готов сказать что угодно, лишь бы польстить самолюбию по-детски обидчивых звезд и смягчить их капризы. Тем не менее, из этого эпизода многое можно узнать о характере певицы.
Сразу же по окончании работы над «Аидой» последовала запись «Риголетто» с Джузеппе ди Стефано, осуществлявшаяся с 3 по 16 сентября. Недавние стычки по поводу миланской «Травиаты» были, по счастью, забыты. Неделю спустя труппа «Ла Скала» отправилась в Берлин, чтобы дать два представления «Лючии ди Ламмермур» в Городской Опере под руководством Герберта фон Караяна, успевшего тем временем занять пост главного дирижера Берлинского Филармонического оркестра. Сотни меломанов два дня и две ночи стояли за билетами. «Не побоюсь сказать, что мисс Каллас была грандиозна, – писал английский критик Десмонд Шоу-Тейлор. – Ее не назовешь безупречной вокалисткой, однако в моменты наибольшего драматизма пение ее доставляет неизмеримое наслаждение. В наши дни нет второй такой певицы. Хоть публика не раз вздрагивала при резкой смене регистров, неприятном звучании ноты или чересчур высоко интонированном верхнем ми бемоль в коние фразы, Каллас все же оставалась изысканной, далекой от мира, бесконечно страдающей „безумной Лючией“ традиции XIX века. Ее спектакль не закончился заключительной сценой безумия: овации длились десять минут, и все это время она оставалась наполовину в роли, лучась простодушием, изумляясь будто бы незаслуженным аплодисментам, вновь и вновь выходя на поклоны... и искусно обыгрывая розы, сыпавшиеся с галереи, -одну из них она бросила восхищенному флейтисту. О да, артистка до мозга костей, подлинная королева! Осмелюсь утверждать ее дать, что она никогда не будет петь лучше, чем поет сейчас, в ее голосе, как в греческом вине, чувствуется привкус смолы, который никогда не исчезнет; ей не дано, как Муцио или Райзе, очаровать нас округлым, соблазнительным звучанием. Однако ей присуши неожиданные взлеты, драматические взрывы захватывающей силы, и не снившиеся этим вокально более одаренным певицам. В наши дни равных ей нет».
О том, как Каллас пела Лючию, принято судить по записи именно этого спектакля. Каллас придает всей постановке совершенно иную тональность, чем в записи под руководством Серафина, исполненной, по выражению Джона Ардойна, «неизбывной меланхолии». В берлинском спектакле она почти все время поет голосом «маленькой девочки» с парящим и открытым звучанием. Сцена безумия в ее исполнении окрашивается в блеклые пастельные тона и приобретает подлинный драматизм за счет переноса акцента на отдельные слова – к примеру, на «il fantasma». Джон Ардойн в «Наследии Каллас» заявил, что, если бы ему пришлось отказаться от всех записей Каллас, кроме одной, он выбрал бы именно эту. То же мнение разделяет и Дэвид А.Лоу, видя в берлинском спектакле «вершину вокального искусства» Марии Каллас.
Действительно, парящее легато в «Regnava nel silenzio» или тончайшее, вполголоса спетое начало «Veranno a te» производят потрясающее впечатление. Подобное пение, выражаясь патетически, «проникает в глубь самого сердца», оно словно бы предназначено для любящих ушей. Ни одна запись Каллас не вызывает у автора подобных эмоций, отчасти потому, что в этом грандиозном исполнении уже слышны первые признаки увядания голоса. Не суть важно, что певица выпускает верхнее ми бемоль в конце каденции и поет его только в финале арии, однако это означает, что она уже не могла пойти на вокальный риск. К тому же и блеклое звучание, и потеря динамики, скорее всего, обусловлены состоянием голоса певицы, а не актерской задачей.
Чтобы вышеприведенные замечания не показались чересчур риторическими, подчеркнем еще раз, что эта берлинская постановка принадлежит к числу звездных часов Каллас, однако в ее оттонченном совершенстве уже наметилось начало конца, даже если и голос певицы некоторое время еше сохранял былое величие.
Глава 8.
Нисхождение к славе
Я до сих пор пытаюсь понять, что же случилось в Нью-Йорке. Сожалею, что не смогла дать Вам то, что получали другие театры.
Мария Каллас – Рудольфу Бингу
Скандал в Чикаго
В музыке спокойной жизни не бывает.
Карло Мария Джуллини
После четырехнедельного отпуска, 31 октября 1955 года, Мария Каллас открыла второй сезон Лирической Оперы в Чикаго Эльвирой в «Пуританах» Беллини. За дирижерским пультом стоял Никола Решиньо. Тон критике задал панегирик Роджера Деттмера в «Американце»: «Всем нам известно, что весь город вот уже год как помешан на Каллас, а помешанней всех я сам. Когда она в голосе и выступает в подходящей ей роли, я боготворю ее. Я раб ее чар». С не меньшим воодушевлением писали о Каллас и другие критики, хотя Хауард Тэлли, рецензент «Мьюзикал Америка», не преминул обратить внимание на неуверенные интерполированные высокие ре во втором акте.
На второй день сезона Рената Тебальди пела Аиду. 5 и 8 ноября последовали два представления «Трубадура». К сожалению, он не был записан на пластинку, хотя Юсси Бьёрлинг в роли Манрико, Эбе Стиньяни и молодой Этторе Бастьянини того стоили. Рудольф Бинг в своих мемуарах вспоминает, что в третьем акте, когда Манрико пел арию «Ah, si' ben mio», драматический эффект производило не столько его пение, сколько то, как слушала его Мария Каллас, пусть он и пел "бесподобно' (Джордж Еллинек). Да и сам Бьёрлинг говорил: «Ее Леонора была само совершенство. Я часто слышал эту партию в исполнении разных певиц, но ни одну из них нельзя сравнить с Каллас». В этой связи стоит упомянуть, что он пел Манрико в «Метрполитен Опера» с Зинкой Миланов, чье исполнение партии Леоноры считается эталоном и поныне. Безусловно, высокие ноты в исполнении Миланов были красивее, а звучание более округлым, однако в музыкально-стилистическом отношении образ был далеко не так отточен, как у Каллас.
Непосредственно перед вторым спектаклем Рудольфу Бингу наконец-то удалось заручиться согласием Каллас выступить в «Метрополитен Опера». 29 октября 1956 года ей предстояло дебютировать там в партии Нормы. Репортеру, спросившему ее о размерах гонорара, ставшего камнем преткновения при переговорах, она ответила, что за Норму переплатить невозможно. Бинг, которому были свойственны в равной степени и дипломатический шарм, и холодный цинизм, ловко уклонялся от ответа на вопросы о деталях, заявляя, что певцы приходят в «Метрополитен Опера» исключительно из любви к искусству и искренне радуются простому букету цветов, а Каллас, разумеется, получит самый красивый букет.
Через несколько дней разразился первый из громких скандалов, сопровождавших карьеру певицы. 11 ноября она пела Чио-Чио-Сан в постановке Хици Койке. Ланфранко Распони в своей книге «Последние примадонны» цитирует различных исполнительниц этой партии: они все как одна называют ее убийственной. Тесситура необычайно высока, а кроме того, певица вынуждена постоянно перекрывать целый оркестр. Штраус сказал про свою Саломею, что представлял себе голос Изольды, исходящий из уст пятнадцатилетней девушки; то же можно сказать и о мадам Баттерфляй. Одним словом, большинство певиц с голосом, подходящим для партии Баттерфляй, не способны представить посредством этого голоса пятнадцатилетнюю гейшу. Каллас добивалась этого – и добилась. «Мы увидели камерную Баттерфляй, с самого начала напуганную трагедией, жертвой которой ей предстояло стать. Даже в любовном дуэте не было того мелодического потока, что заставляет сердце биться чаще: скорее, нашим глазам предстал контраст растущей страсти мужчины и сдержанности женского экстаза», – писала Клаудиа Кэссиди, не скрывая, однако, и того, что персонаж Даллас показался ей «находящимся в стадии разработки».
Третьего спектакля запланировано не было, но Л оуренс Келли и Кэрол Фокс без особого труда уговорили Каллас спеть Баттерфляй еще раз, благо она была очень польщена бурным восторгом публики. Спектакль состоялся 17 ноября и снискал громовые овации. Марию Каллас вызывали много раз, после чего она, усталая и «тронутая до слез» реакцией публики (Еллинек), направилась в свою гримерную, куда вслед за ней ворвались маршал Стэнли Прингл и заместитель шерифа Дэн Смит. Их задачей было вручить Каллас судебный иск Эдди Багарози, но действовали они, как пишет Джордж Еллинек, «с бесцеремонностью санкюлотов в разгар Французской революции» и засунули бумагу певице в кимоно.
В ответ на это Каллас затопала ногами и закричала, что обладает ангельским голосом и никто не вправе предъявлять ей иск. Это написано у Стасинопулос и представляет собой, по всей видимости, близкую к правде легенду. Во всяком случае, о ярости Каллас свидетельствует фотография Ассошиэйтед Пресс, облетевшая весь мир за несколько дней и сильно повредившая имиджу певицы. Еллинек намекает, что сей эпизод, постыдный и забавный одновременно, был инициирован противниками Каллас из Лирической Оперы, а Стасинопулос сообщает даже, что Лоуренс Келли подозревал Кэрол Фокс в участии в этой акции с целью поссорить его с певицей, однако называет эти догадки весьма сомнительными.
Дарио Сориа и Вальтер Легге, ставшие свидетелями происшествия, увели певицу из театра. На следующий день она улетела обратно в Милан, где должна была 7 декабря петь в «Норме» Беллини под руководством Антонино Вотто в «Ла Скала».
Вскоре после своего дня рождения (ей исполнилось 32 года) Мария Каллас в четвертый раз открыла сезон «Ла Скала». В богато изукрашенном Пьером Бальменом театре присутствовал среди прочей публики и президент Италии Джованни Гронки. Еллинек сообщает, что «наблюдатели» подметили «легкую напряженность» в ее пении; Стасинопулос упоминает о шумных реакциях врагов Каллас, однако в записи спектакля ничего подобного не слышно; более того, изъявления недовольства были бы явно неуместны, ибо Каллас находилась в превосходной форме. Она без труда справилась с кульминационным си бемоль в «Casta diva», уверенно выпевала мелизмы между куплетами и свободно исполнила кабалетту. Раз услышав, невозможно забыть парящее «Cosi trovavo del mio cor la via», фантастическое диминуэндо в «Ah si, fa core, abbracciami» на верхнем до, заставившее публику шумно перевести дыхание. Зрителей привело в неистовство верхнее ре в терцете финала первого акта: тот, кто пасслышал в нем или в любом другом фрагменте «напряженность», должно быть, очень хотел ее там найти, чтобы сочинить собственную версию легенды о Каллас после скандала в Чикаго.
Во всяком случае с этих пор все, что бы ни сделала Каллас или что бы ей ни приписали, влекло за собой скандал. Сюда относится и рассказ Марио дель Монако о том, что после окончания третьего акта одного из представлений «Нормы» в январе 1956 года он будто бы получил сильный удар по голени, и в то время, как он корчился от боли, Мария Каллас в одиночку принимала аплодисменты. Эта история просто смехотворна и настолько абсурдна, что даже не попала на передовицы, ибо безграничной фантазию общества способна сделать лишь подлость. Реальная подоплека? Она лишь подтверждает высказывание, что театр – это сумасшедший дом, а опера – отделение для неизлечимо больных.
Как пишет Еллинек, уже в начале репетиций Марио дель Монако заявил директору театра Антонио Гирингелли, что не потерпит выхода на поклон в одиночку ни одного из солистов. (Такая практика была принята в «Метрополитен Опера».) Однако на одном из трех январских спектаклей тенору устроили овацию после арии в первом акте, что Менегини истолковал как провокацию клаки и обжаловал у директора. По некоторым сведениям, в антракте он даже пошел скандалить к предводителю клаки Этторе Пармеджани. Пармеджани незамедлительно обратился к дель Монако с просьбой разобраться, и тот в бешенстве заявил Менегини, что «Ла Скала» не принадлежит ни ему, ни его жене и что публика хлопает тем, кто заслуживает аплодисменты. И в этом случае трудно, если вообще возможно, отделить факты от выдумок. Подобные эпизоды, будь они даже целиком вымышлены, следует воспринимать, выражаясь словами из пролога к «Паяцам», как «страшную правду» жизни великих музыкантов: у них чудесная профессия, но с ее помощью проворачиваются грязные дела.
На вопрос, кому же адресовались аплодисменты, ответить легко, если прослушать запись спектакля. Голос Марио дель Монако звучит, как обычно, объемно и «с металлом», но его пение напрочь лишено тонких нюансов и оттенков и потому он блекнет в дУэтах с Марией Каллас. За оперой Беллини последовало с января по май не менее 17 представлений «Травиаты» Верди под руководством Карло Марии Джулини и Антонино Тонини. Партия Альфреда перешла от ди Стефано к восходящей звезде Джанни Раймонди, тенору со сказочно высоким голосом, который, однако, на сцене звучал лучше, чем в записи. В роли Жермона выступали Этторе Бастьянини, Альдо Протти Карло Тальябуэ и Ансельмо Кольцани. И здесь не обошлось без происшествий, раздутых газетами до масштабов скандала. По окончании одного из спектаклей на сцену вместе с цветами полетел пучок редиски. Одни источники сообщали, что Мария Каллас в гневе отправила его пинком в оркестровую яму, другие – что она подняла редиску и прижала к груди, «словно орхидеи» (Стасинопулос), а уже в гримерной разразилась слезами. Сей нелепый инцидент целую неделю красовался в передовицах, причем тот факт, что редиска, по всей вероятности, была импортной, поддерживал версию о виновности в интриге сотрудников театра.
Следующая рйль Каллас, Розина в «Севильском цирюльнике» Россини, стала ее единственной настоящей неудачей в «Ла Скала», где она выступила в общей сложности в 23 операх. Этот спектакль четырехлетней давности с самого начала считался рядовым. Карло Мария Джулини, подменявший Виктора де Сабата, несмотря на болезнь, признавался, что дирижировал, опустив голову, чтобы не видеть происходящее на сцене: «На моей памяти в оперном театре не появлялось ничего хуже этого „Цирюльника“. По-моему, это было фиаско не только для Марии, но и для всех, кто так или иначе был занят в спектакле. Эта постановка оказалась художественным промахом, зауряднейшим представлением, собранным из отдельных кусочков и даже толком не подготовленным».