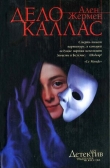Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Пустые измышления? Разве не достаточно записей, запечатлевших «сценический гений Каллас», как часто пишут? И разве в них не проявился истинный дух Каллас, фанатичной, готовой на любой риск и борьбу? Ни поклонники певицы, ни летописцы истории вокала не пройдут мимо этих пластинок, что, однако, не освобождает от критического подхода к ним. Многие из этих записей крайне амбивалентны и дают повод к спорам в силу технических (и не только технических) недостатков. Пусть даже мы отнесем некоторые погрешности за счет несовершенства техники – плохого звукового баланса, сильных искажений радийных помех, вырезанных фрагментов. Хуже то, что отдельные оперы были выброшены на подпольный рынок не в оригинале, а в десятой или двадцатой копии, что целые пассажи на пластинках либо отсутствуют, либо заменены «вставками» из других записей. Мало удовольствия слушать бесподобный вокал Марии Каллас в сочетании с оркестрами или ансамблем провинциального уровня, как то бывало в мексиканских постановках. Совсем по-другому дело обстоит с более поздними записями из Милана, Лондона, Берлина или Далласа, увековечившими хорошие и даже образцовые постановки.
Было бы неправильно противопоставлять эти «живые» записи студийным, потому что в спектакле действуют другие законы, чем в студии, как подчеркивала сама Мария Каллас. Она относилась к тому типу певиц, которые на сцене отваживаются на риск и переходят собственные границы. С другой стороны, отдельные студийные записи – к примеру, «Тоска», «Лючия ди Ламмермур» (1953), «Сила судьбы», «Аида», «Турандот», «Богема» – обнаруживают уникальные вокальные нюансировки и тонкости: «Каллас каждое слово произносит по-разному», – сказала И. Бахман, и пластинка идеально передает подобные детали. «Живые» записи, в свою очередь, свидетельствуют о том, что вокальное совершенство студийных пластинок – все эти стаккато, восходяшие и особенно нисходящие пассажи, «timing» (распределение во времени) или «pacing» (ритмизация) фраз, уверенное владение самыми трудными интервалами – не является продуктом монтажа. На сцене певица могла иной раз ошибиться, съехать" с верхней ноты или неправильно распределить дыхание, однако то были не недостатки в вокальной технике, а следствя готовности пойти на что угодно во имя пущей выразительности.
Еще раз напомним о фразе Марии Каллас, произнесенной в разговоре с Вальтером Легге, что в молодости она пела, «как дикая кошка». Неоднозначное высказывание. С одной стороны, в ем слышится гордость собственной энергией и готовностью пойти на риск, с другой – скепсис и самокритичность, признание что она завоевывала публику средствами, сомнительными в художественном отношении. Возможно, она признала сомнительность таких вокальных трюков именно потому, что к тому моменту уже утратила упорство и энергию дикой кошки.
Как бы проблематичны ни были некоторые записи, они представляют несомненную ценность для слушателя и особенно для историка. Они не только документируют индивидуальную творческую карьеру в ее развитии, с ее вершинами и барьерами, взлетами и провалами, но и сообщают многое о постановочных традициях, об уровне театров и стандарте ансамбля в 50-е годы. Они преподносят нам не только удачные моменты, в которые певица превзошла самое себя, но и волнующие, так что каждая пластинка превращается в танец на канате. Чтобы произвести впечатление на публику, молодая Мария Каллас интерполировала самые высокие ноты – ре бемоль, ре и ми бемоль; они были не важны для произведения, но создавали напряжение и обеспечивали ей славу, которой достигает лишь тот, кто осмеливается на все. Записи показывают, что то был трудный, опасный риск. Кого покоробит, что иной раз она не может удержать тон или довести до конца фразу из-за неверно рассчитанного вдоха? Значение имеет лишь безоговорочная отдача, стремление к абсолюту.
Благодаря энергии и авторитетности пения Каллас с самых юных лет неизменно находилась в центре постановок. Даже исполняя Леонору в «Трубадуре» 1950 года, когда ей не удалось подготовиться к партии с помощью Туллио Серафина, как она того хотела, Каллас умудрилась подчинить спектакль своему артистическому чутью. Очевидна ее попытка показать богатство форм этой оперы Верди через призму традиции бельканто, куда более достойная восхищения, чем знаменитые интерполированные верхние ноты в ариях первого и четвертого акта. Поскольку некоторые произведения, к примеру, «Трубадур», «Норма . Лючия», «Травиата», «Медея» сохранились в нескольких студийных или «живых» записях, по ним легко проследить творческое развитие певицы, не ограничивавшееся чисто вокальным совершенствованием; а иной раз доводится пережить один из тех потрясающих моментов, когда ещефункционирует голос и ужефункционирует художественное чутье, – в «Травиате» под управлением Джулини, «Норме» «Ла Скала» под управлением Вотто, «Бале-маскараде» и «Анне Болейн» Гавадзени или далласовской «Медее», где дирижировал Никола Решиньо.
Еше раз подчеркну, что вышеперечисленные записи и большинство студийных пластинок возникли в подходящее время и в среде целостных музыкальных ансамблей. В 50-е годы, когда мнение таких продюсеров, как Вальтер Легге или Джон Кулшоу, имело такой же вес, как мнение менеджера, запись оперы воспринималась как новый этап в истории искусства, а не как исполнение контрактных обязательств по отношению к звезде. Даже на тех пластинках, где Мария Каллас поет с партнерами средней руки, – будь то Поллион в исполнении Марио Филиппески, Артур (Джузеппе ди Стефано), Эльвино (Никола Монти), Калаф (Эуджснио Фернанди), – это вряд ли сказывается на завершенности и эстетической целостности произведения. Иначе не объяснишь тот факт, что многие из ее записей остаются непревзойденными вот уже тридцать лет. Записи миланских постановок в свою очередь свидетельствуют о том, с каким честолюбивым рвением де Сабата, Бернстайн, Караян, Гавадзени, Висконти относились к созданию оперных спектаклей. Талант даже уровня Каллас мог расцвести только в определенных со-цио-культурных условиях и уж никак не в ярком свете прожекторов «театра звезд». В оперном театре 60-70-х годов ее дарование вряд ли смогло бы развернуться.
По словам Мэгги Тейт, стандарт вокала зависит от качества педагогов. Что должен чувствовать ответственный педагог при виде того, как самые усердные и одаренные его питомцы пренебрегают наставлениями и берутся за партии, от которых он их предостерегал? Факт остается фактом: даже самая лучшая техника день ото дня подвергается испытанию певческой практикой – болезнями, долгими переездами, необходимостью заменять других певцов и в то же время чрезмерными требованиям импресарио, директоров театров и дирижеров, которым важе успех постановки, а не певцы. Как сказала Лиза делла Каз «возьми лимон, выжми и выбрось вон». Мария Каллас не шадила себя во имя успеха, в молодые годы слишком часто пела слишком трудные партии, но достигла своего положения только благодаря неустанной работе над каждой ролью, над музыкой, над качеством постановки в целом, и это необходимо учитывать, слушая ее записи. Нужно обращать внимание и на постепенное разрушение голоса, точнее говоря, на борьбу мастерства с несовершенством инструмента, которое все острее давало себя знать, начиная с середины 50-х годов. Несмотря на это Мария Каллас до конца 50-х годов оставалась на голову выше всех своих коллег, соперниц и даже возможных преемниц. Великолепие заключается не только в счастье свершения, но и в уровне краха.
* Ah , quale voce (Ах. что за голос (ит.))
Самая ранняя из имеющихся записей была сделана, по всей вероятности, 20 мая 1949 года. Она представляет собой «Турандот» Пуччини в постановке театра «Колон» в Буэнос-Айресе под управлением Туллио Серафина. В сезоне 1949-1950 годов Мария Каллас в последний раз исполняла эту партию, после чего распростилась с тяжелым драматическим репертуаром, если не считать пяти римских представлений «Тристана и Изольды» в феврале 1950 года. В то время она считала себя драматическим сопрано. Не обладая могучей силой голоса, присущей Нордика, Флагстад или Ляйдер, она тем не менее была наделена драматическими задатками и пламенной выразительностью. Тот факт, что в январе 1949 года Туллио Серафин поручил ей партию Эльвиры в «Пуританах» Беллини, был вызван не желанием направить ее дар в другое русло, а скорее практической необходимостью, однако эта роль открыла перед ней новые перспективы. Спев Абигайль в «Набукко» Верди, поставленном в декабре 1949-го, она доказала, что ее голос соответствует высочайшим требованиям вокальной подвижности. 1950 и 1951 годы принесли новые, украшенные партии – в «Норме», «Турке в Италии», ''Трубадуре", «Травиате», «Сицилийской вечерне» и в тех же ''Пуританах". Вплоть до 1952 года, вероятно, лучшего в ее сценической карьере, Мария Каллас не знала вокальных пределов; этот период завершился триумфом «Макбета» в «Ла Скала» под управлением Виктора де Сабата.
Если кому-то понадобится подтверждение того, что молодая Каллас пела так, как бывает лишь раз в жизни (слова Тито Гобби), ему стоит послушать отрывок из вышеупомянутой записи «Турандот» – «In questa reggia». Партнером певицы был Марио дель Монако: хоть он временами и не дотягивал до нужной ноты, что особенно ощущается в дуэтах, зато создавал звуковой поток изумительной насыщенности и силы. И все же Мария Каллас превосходит его за счет огромной энергии и звуковой концентрации своего пения, которое выдерживает сравнение с легендарной записью Евы Тернер. Да, Каллас окрашивает начало арии нежнее, чем англичанка, ее звучание более выразительно, фразировка свободна, атака стремительна, уверенность при выпевании восходящих кульминационных фраз потрясает – и все же у слушателя не создается ощущения произвольного и громкого «силового» пения, которое, по словам Розы Райза, так любят в Южной Америке.
Незадолго до постановок в Буэнос-Айресе – «Турандот», «Нормы» и «Аиды» – Мария Каллас спела в Турине концерт, транслировавшийся RAI; дирижировал Франческо Молинари-Праделли. В программу входили заключительная ария Изольды, нильская ария Аиды, «Casta diva» Нормы и «Qui la voce sua soave» Эльвиры. Умный подбор: таким образом Каллас показывала, что является универсальной певицей, которой по силам как драматический, так и колоратурный репертуар. По прошествии восьми месяцев она повторно записала ту же программу, за исключением арии Аиды, на студии «Cetra». Эти три пластинки со скоростью вращения 78 оборотов в минуту стали такой же вехой в ее карьере, как запись 1902 года, положившая начало славе Карузо. Да и можно ли вообразить лучший дебют, чем ария Эльвиры «Qui la voce sua soave» из «Пуритан» Беллини в исполнении Марии Каллас? Будь эта пластинка единственной записью певицы, она и то обеспечила бы ей славу в потомстве; свидетельство ранней певческой зрелости Каллас, она в то же время сулила великое будущее. Беллини писал свою последнюю оперу для постановки в Париже. На премьере, состоявшейся 24 января 1835 года, Эльвиру пела Джулия Гризи (1811-1869), кто-му моменту уже успевшая исполнить партию Адальджизы на премьере «Нормы». Как следует из записей Теофиля Готье и Генри Фозергилла Чорли, Гризи была певицей переходного типа, она владела украшенным стилем Россини и Доницетти, но в то же время соответствовала и драматическим критериям Верди и Мейербера. Не обладая, как писали, артистическим гением и певческой экспрессией Пасты или Малибран, она все же была наделена значительным вокальным и актерским дарованием. Для Малибран, «наполнявшей сцену в последнем акте безумными эмоциональными криками, неслыханными по тем временам» (Беллини), композитор написал «Son vergin vezzosa».
Итак, партию Эльвиры Беллини предназначал для драматического сопрано с незаурядной вокальной подвижностью. В нашем же веке ею всецело завладели лирико-колоратурные сопрано хотя лишь немногие из них способны были вложить в кантилену «Qui la voce» смысл, не говоря уж о драматическом огне. Кабалетту они пели в манере, которую английский критик Ричард Фэйрмен в сердцах назвал «лишенной смысла, зато полной нот». Нужно раз услышать эти мелодичные, воркующие или легкомысленно щебечущие записи Фриды Хемпель, Лили Понс, Мадо Робен и других, чтобы понять, какой эффект должна была произвести Мария Каллас в 1948 году: она пела музыку, ложно понятую как легкая и декоративная, глухим и полным какой-то архаичной экспрессии, какого-то «отчаяния скорби» голосом, как того и требовал Беллини.
Уже в этой записи прослеживается специфическое звучание голоса Каллас, напоминающее нечто среднее между кларнетом и гобоем, как писала Клаудиа Кэссиди, окрашенное меланхолически и даже страдальчески, звучание, создающее объем монологической арии за счет калейдоскопа вокальных оттенков.
В этой связи стоит упомянуть тезис Андре Тюбёфа о том, что звучание голоса формируется звучанием вагнеровского оркестра. В своем теоретическом труде «Опера и драма» композитор утверждал (в главе «Стих и рифма»), что гласный звук – не что иное, как "сгущенный тон: его особенность определяется смешением к внешней поверхности воспринимающего организма, который представляет слуху образ внешнего предмета, влияющего на это восприятие; само же влияние этого предмета на воспринимающий организм гласный создает за счет непосредственного выражения чувства, приспосабливая индивидуальное ощущение к универсальным человеческим чувствованиям, и это происходит в музыкальном звуке. Гласный возвращается к тому, что его породило и сблизило с согласным путем сгущения, однако возвращается видоизмененным, обогащенным, и растворяется там; этот обогащенный, индивидуально поданный, соответствующий универсальному человеческому восприятию звук является освобождающим моментом поэтической мысти дающей толчок непосредственному излиянию чувства" (выделено Рихардом Вагнером).
Может статься, эта эстетическая рефлексия покажется современному читателю пафосной или даже надутой, однако она точно объясняет суть интересующего нас явления – использования наряду с глухими, патетическими гласными в «la voce sua soave» светлых гласных в словах «voce» и «sospir», где Мария Каллас применяет свой особенный голос «маленькой девочки» как заметил Ардойн (и не он один). С чисто технической точки зрения это достигается за счет размещения звука как бы перед губами, однако производимый при этом эффект не укладывается ни в какое техническое объяснение. В этом звучании выражена грация, тонкость, сильфидная хрупкость балерины, словно бы нематериальное и в то же время видимое движение. Звук покоится на ровном потоке воздуха и стремится вперед за счет портаменто и рубато. Это не портаменто певпов-веристов, не неряшливый «подкат» к нужной ноте, а правильное «несение» звука посредством дыхания и вместе с тем внутреннее структурирование музыкального движения. Такое портаменто отыскивает тончайшие переходы между нотами, а не порождается трудностями с попаданием в нужную ноту. Оно подводит к энергичному, широкому легато.
Смысл музыки можно выразить только путем выделения слов и даже отдельных слогов в тексте. Мария Каллас, как великий ритор, задерживается в каждом моменте аффекта и никогда не работает на эффект, передает внутренний смысл фразы и значение каждого слова с помощью чисто музыкальных средств – вокального окрашивания и нюансировки посредством рубато. Таким образом, ее вокал соответствует высочайшим критериям экспрессивного пения, которые Шарль Гуно сформулировал так: «В произношении нужно учитывать две веши. Оно должно быть ясным, чистым, отчетливым и точным. Я хочу сказать, что слух должен воспринимать произнесенное слово однозначно. Оно должно быть выразительным, то есть вызывать в воображении тот предмет, который произнесенное слово обозначает. Что касается ясности, чистоты и точности, то здесь под произношением подразумевается артикуляция, а ее задача состоит в том, чтобы правильно передать внешнюю форму слова. Остальное – дело экспрессии. Она привносит в слово мысль, чувство, эмоцию. А артикуляция придает слову форму и интеллектуальный элемент. Артикуляция служит ясности, экспрессия – красноречивости».
В исполнении Марии Каллас ария становится чем-то большим, чем простое нанизывание красиво оформленных, полнозвучных фраз. В каждом речитативе, каждой арии, каждой роли она следует определенному плану. Плану драматической и музыкальной прогрессии.
Творческое достижение – это всегда больше, чем простая сумма деталей, однако без упоминания о деталях невозможно передать значение творческого акта. Мария Каллас ошеломляла тогдашних слушателей не только полнотой звучания своего сопрано, не только риторическим красноречием, не только чувством рубато (присушим, помимо нее, разве что Хейфецу), но и фантастической гибкостью голоса. Эта гибкость выходит далеко за пределы простой подвижности, встречающейся у певиц прежних эпох – у Луизы Тетраццини, Фриды Хемпель или Сельмы Курц. В первой части кабалетты из «Пуритан» Каллас поет диатоническую, во второй части – хроматическую гамму, точно, быстро, блестяще отделяя ноты одну от другой, так что, несмотря на темп, создается впечатление, будто ноты чередуются, как кадры в проекторе. Джон Ардойн по праву говорил, что в истории вокала немного примеров столь совершенного владения голосом в сочетании с подобной гибкостью и драматической выразительностью. Все это венчает верхнее ми бемоль, взятое с умопомрачительной легкостью: ведь разве не в свободном преодолении трудностей состоит пусть и не глубина, но магия пения?..
Также и запись арии Нормы свидетельствует об особом уровне молодой певицы, которая к тому моменту всего шесть раз исполняла эту партию. За всю жизнь ей довелось спеть Норму 89 раз. В первых шести спектаклях, из которых два состоялись во Флоренции в 1948 году, а остальные четыре – в Буэнос-Айресе в июне 1949-го, дирижировал Туллио Серафин. Мария Каллас поет каватину в тональности фа мажор, как и Джудитта Паста, исполнявшая партию Нормы на премьере в «Ла Скала» в 1831 году, и эта тональность подходит к тембру ее голоса, как соль мажор – к тембру Джоан Сазерленд, чей голос звучит легче и звонче. Вероятно, продолжительности пластинки со скоростью Ращения 78 оборотов в минуту не хватило, чтобы записать еше и речитатив. Каватина преподносится безупречно, с божественными мелизмами и тонко рассчитанной динамикой. Кабалетта же исполнена скорее в кониертно-виртуозном стиле и не так богата оттенками, как в более поздних записях. Она сокращена (до одного стиха), как и кода. Певица завершает ее верхним до не значащимся в партитуре.
Нелегко однозначно оценить арию Изольды в исполнении Каллас. Она поет по-итальянски, и с переменой текста неизбежно меняется характер вокальной выразительности, созданной Вагнером. Каллас предлагает не драматико-героическое решение арии, а чувствительное и патетическое. В ее пении слышится не столько смертная тоска, сколько глубокая скорбь, вызванная воспоминанием об ушедшем счастье. Это очень захватывает и в то же время отличается от канона, однако звучит убедительно, поскольку Каллас поет легато, как никто иной. Думается, что сам композитор оценил бы это исполнение столь же высоко, сколь Маттиа Баттистини с его интерпретацией партии Вольфрама.
Один из важнейших документов на раннем этапе творчества певицы представляет собой запись «Набукко» Верди, шедшего в неаполитанском театре «Сан-Карло» под управлением Витторио Гуи, сделанная 20 декабря 1949 года. Партию Абигайль принято считать «гибридной» (Родольфо Челлетти), поскольку наряду с драматическим размахом она требует еще и большой гибкости голоса. Под гибкостью здесь подразумевается не подвижность «легких» сопрано, а экспрессивная колоратура. На премьере «Набукко» Абигайль пела Джузеппина Стреппони, перенапрягшая этой партией свой голос. В промежутке с 1842 по 1861 год «Набукко» шел в «Ла Скала» 121 раз, чтобы вслед за тем исчезнуть из репертуара вплоть до 1912 года. При возвращении оперы на сцену заглавная партия была поручена Карло Галеффи, а партия Абигайль – почти забытой в наши дни Чечилии Гальярди. Витторио Гуи дирижировал «Набукко» в 1933 году во Флоренции и в сезоне 1933-1934 годов в «Ла Скала»; партнершей Галеффи на этот раз была Джина Чинья, голос которой обладал мощью и полнотой звучания, но не гибкостью. Сезон Ла Скала" 1946 года Туллио Серафин открыл «Набукко» с Марией Педрини в роли Абигайль и Джино Беки в главной роли; он ж позднее стал партнером Каллас в Неаполе, но тягаться с ней не смог. Голос его тогда хоть и не утратил звучности, однако Беки тяготел к «силовому» пению, вследствие чего фразировка потеряла форму.
Абигайль Марии Каллас стала настоящей сенсацией: какая жалость, что она пела эту партию всего три раза. Тогда еще ею управляла энергия амбиции, и она уже обладала достаточным чувством формы, чтобы исполнить речитатив «Ben io t'invenni» – один из «наиболее живых и выразительных итальянских речитативов со времен Монтеверди». Однако важнее всего то, что она уже тогда проявила редкостное чувство вокального жеста. Когда она в начале арии «с вымученным спокойствием сарказма» (Бадден) запевает «Prode guerrier» или изливает ярость обманутой любви в украшенной, каденциевидной вокальной фигуре, а под конец вкладывает в терцеттино фраз «lo t'amavo» и «Una furia...a' quest'amore» воспоминание о любовном счастье и бешенство разочарования, мы слышим пение, неслыханное по силе и выразительности.
Голос ее в это время находился в самом расцвете: долгое до не доставляет ни малейшего труда, будь то форте или пиано, а скачок интервала в две октавы (в речитативе перед арией второго акта) удается с инструментальной точностью. С восходящими вплоть до ноты до цепочками трелей в кабалетте она не просто справляется, а развертывает их с победительным мастерством и тем самым раскрывает экспрессию, заложенную в виртуозных формулах. Еще удивительнее богатство звучания и оттенков ее кантилены в «Anch'io dischiuso». Что касается мелодического развития, то здесь, как пишет Джулиан Бадден, Верди следует примеру Доницетти. К длинным фразам присоединяются группы фиоритур, требующие филигранного вокального мастерства. Искусство Каллас особенно очевидно в сравнении с более поздними записями Елены Сулиотис, Ренаты Скотто или Гены Димитровой. Потрясающий момент есть и в третьем акте, в дуэте Абигайль и Набукко: это первый великий Дуэт, созданный Верди, он же послужил моделью для более поздних (Риголетто и Джильды, Виолетты и Жермона, Аиды и онасРо). Ардойн пишет, что перепалка Набукко с Абигайль -то скорее дуэль, чем диалог, и петь дуэт нужно именно так. Беки с воистину героическим усилием развертывает здесь всю объемную мощь своего голоса, однако Марии Каллас удается превзойти его в заключительном фрагменте в тональности ре бемоль мажор за счет дикой энергии атаки и звуковой фокусировки. Она увенчивает сцену верхним ми бемоль– нотой, которая до того считалась привилегией легких и высоких сопрано но и в их устах никогда не превращалась в кульминацию. Беки отвечает взрывным ля бемоль.
В промежутке между 1950 и 1952 годами Мария Каллас еще прочнее утвердилась в том исключительном положении, которое занимала среди итальянских сопрано своей эпохи, и взошла на трон, исполнив 7 декабря 1952 года партию Леди в «Макбете» в «Ла Скала» под управлением Виктора де Сабата. Станции на пути к славе хорошо задокументированны: в нашем распоряжении имеются записи «Нормы», «Тоски», «Аиды», «Травиаты», «Пуритан», «Сицилийской вечерни», «Трубадура», «Риголетто» и «Лючии ди Ламмермур», которые, несмотря на технические огрехи и зачастую неважный ансамбль, позволяют четко проследить совершенствование ее вокального мастерства. Премьера «Нормы», которой ознаменовался мексиканский дебют Марии Каллас, состоялась 23 мая 1950 года под управлением Гвидо Пикко и представляет собой несомненный интерес для почитателей певицы, но никак не для поклонников произведения. Певица дарит слушателям волшебные моменты – не столько в каватине, сколько в терцете второго акта, когда берет верхнее ре, в звуковых нюансировках «Deh! Con te» и особенно «In mia man».
И в 1950 и в 1951 году она пела Аиду – сперва под началом Гвидо Пикко, а затем несравненно более гибкого Оливьеро де Фабритииса – и эти спектакли показывают, что она и в этой партии способна была задать масштаб. Более поздняя студийная запись обнаруживает проблемы, которые возникли у певицы с высокими нотами: они налицо не только в «О patria mia». Но можно ли представить себе более убедительное исполнение партии Аиды, чем то, которое продемонстрировала Каллас в обеих мексиканских постановках? Что касается первого акта (вплоть до арии «Ritorna vincitor»), то в драматическом отношении с Каллас не сравнится ни Зинка Миланов («Метрополитен Опера», «живая» запись 1943 года), ни Херва Нелли или Рената Тебальди (под управлением Эреде или фон Караяна), ни Леонтин Прайс. Ничья Аида не звучит так взволнованно, так смятенно, как Аида Каллас. «Ritorna vincitor» превращается в крик истерзанной души.
Возможно, такие певицы, как Элизабет Ретберг, Роза Понсель Мета Зайнемайер или, после войны, Рената Тебальди, Дентин Прайс и Монтсеррат Кабалье, и пели лирические и заключительные фразы мягче и ровнее, однако у них не найти столь выразительных звуковых контрастов и фразировки. Ардойн указывает на несравненное легато, начинающееся с фразы «Numi pieta'»; об изюминке второго акта – бесконечно длящемся верхнем ми бемоль – и напоминать не нужно. Эта деталь сенсационна и всякий раз заставляет вздрагивать, как сальто-мортале. Третий акт можно сравнить с контрастным душем: в начале нильской арии, во фразе «io tremo», голос дрожит от волнения, а когда певица берет до, то дрожит сама нота. Это до уже тогда было камнем преткновения для Каллас, если его нужно было вывести из длинной линии. Великие мгновения певица переживает в дуэте с Куртом Баумом, чей Радамес голосист, но лишен чувства формы.
Годом позже Мария Каллас вновь пела Аиду, причем на этот раз лучше был не только дирижер (де Фабритиис), но и оба партнера – Марио дель Монако в роли Радамеса и Джузеппе Таддеи – Амонасро. Голос ее в прекрасном состоянии, и это видно не только по ми бемоль (первоначально призванному проучить Курта Баума), которое она и на этот раз берет в конце второго акта. Ее вокал в целом кажется более совершенным и прежде всего более ровным. Дуэты третьего акта, в которых в 1950 году еще попадались неточности (несвоевременные вступления, плохо просчитанные фразы), ни в какой студийной записи не могли бы звучать более свободно и динамично; со своей стороны Марио дель Монако и даже Джузеппе Таддеи перестарались – «перепели», если можно так выразиться.
Бельканто и Верди
В Мехико Каллас в 1950 году в первый раз пела Тоску, если забыть тринадцать представлений в 1942 и четырех в 1943 году, тот спектакль свидетельствует не более чем о «хорошем инстинкте в работе» (Ардойн), и ни партнеры (прежде всего Марио Филиппески), ни дирижер (Умберто Муньяи) общего впечатления не улучшают.
Гораздо более интересной постановкой сезона 1950 года стал Трубадур" Джузеппе Верди под управлением Гвидо Пикко, с Джульеттой Симионато, Куртом Баумом и Леонардом Уорреном в качестве партнеров. Этот спектакль не назовешь безупречным в музыкальном отношении, однако он заслуживает внимания благодаря образу Леоноры, благодаря новой манере исполнения Верди, открытой Марией Каллас. В биографической части уже упоминалось, что, приняв мексиканский ангажемент, певица обратилась к Туллио Серафину, чтобы он помог ей разучить партию. Однако маэстро отказался: он не хотел делать за другого дирижера его работу. Итак, Марии Каллас пришлось самой разучивать партию, и ей удалось наглядно продемонстрировать укорененность этой музыки в бельканто.
Леонора в то время считалась одним из козырей Зинки Миланов, в которой до сих пор принято видеть идеальную исполнительницу этой партии – прежде всего благодаря ее пианиссимо и красивым, парящим верхним нотам. В музыкально-драматическом отношении она сильно уступает Каллас. Югославская певица подходила к закату своей карьеры (и посему от нее особенно требовалось незаурядное техническое и музыкальное искусство), в то время как Мария Каллас отделала партию со всей тонкостью фиоритур и трелей и через них раскрыла образ своей героини. Пример: фразы в ариях «D'amorsul-l'ali rosee» и «Vanne, sospirdolente», как и во многих других фрагментах партии, заканчиваются трелями. Значение этих трелей теряется, если выпевать их как простые украшения, как это делала Луиза Тетраццини или Амелита Галли-Курчи в первой арии, а Клер Дюкс– во второй. Но даже таким певицам, как Роза Понсель или Клаудиа Муцио, не удавалось придать мелодической линии и мелизмам столь меланхолический оттенок, как это делала Каллас. Другими словами, Мария Каллас способна на большее, чем просто красиво звучащие ноты. Она не приспосабливает партию к особенностям своего голоса, а филигранно отделывает каждую вокальную формулу и вплетает ее в ткань музыкачьного целого.
Так было уже в первом мексиканском спектакле (20 июня 1950), пусть процесс работы над партией тогда еще не был завершен. За чудесно развернутой и темпераментно устремленной к кульминации кантиленой последовало верхнее ре бемоль, затем до и в конце, в качестве точки над "и", верхнее ми бемоль, это оказалось диссонансом как в музыкальном, так и в сцениче ском смысле. Каллас повторно взяла ми бемоль в финале кабалетты, однако эта интерполяция себя не оправдала, поскольку нота прозвучала недостаточно уверенно. Очень жаль, поскольку целом музыкальный фрагмент был исполнен блестяще: трели звучали уместно, каждая нота в стаккато отчетливо маркирована, экспрессивная окраска убедительна.
Терцет в конце первого акта превратился в соревнование трех больших голосов – Марии Каллас, Леонарда Уоррена и Kуpтa Баума. Американский баритон поет с огромной энергией и насыщенностью звучания, Каллас – с превосходной концентрацией звука, а под конец взлетает на ре бемоль. Баум следует ей в намерении держать ноту дольше, чем она, – и проигрывает поединок на долю секунды. Было бы несправедливо умолчать о том, что в третьем акте он поет впечатляюще – не столько в «Ah si', ben mio», сколько в стретте, – однако не выходит за рамки работы на публику. И все же где в наши дни услышишь такой сильный, здоровый и уверенный голос?
Ария Леоноры из четвертого акта в исполнении Каллас – превосходный пример экспрессивного исполнения Верди, пусть финальное верхнее ре бемоль, содержащееся в партитуре, и не соответствует меланхолическому характеру арии. Здесь Каллас берет его уверенно, однако пропускает в более поздних спектаклях, в том числе в студийной записи под управлением Герберта фон Караяна. Дуэт «Mira d'acerbe» редко когда хорошо исполнялся, за исключением записи Йоханны Гадски – Паскуале Амато и сокращенного варианта в исполнении Розы Понсель – Риккардо Страччари, но ни один из них не пульсирует так напряженно, как дуэт Марии Каллас и Леонарда Уоррена. Ардойн замечает, что только идеальная виртуозная певица, блестяще справившаяся с загвоздками партии Нормы, способна столь уверенно исполнить все гаммы и каскады и в то же время так выразительно модулировать фразы и все это в нешуточном темпе. В более поздних постановках ей это уже не удавалось, Она завершает дуэт опять же интерполированным верхним до. Финал страдает, по Ардойну, из-за грубого вокала Курта Баума, который словно стремится в очередной раз убедить публику в своей «звездности».