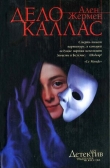Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Пребывание в суде оказалось кратким, хоть Каллас и летела ради него в Чикаго, заодно устроив там концерт: заседание снова бьпо отложено, на сей раз до осени, когда Каллас должна была выступать в Сан-Франциско. Она возвратилась в Милан и 26 январе посетила мировую премьеру оперы Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток». На приеме в честь композитора певица, разодетая, как кинозвезда, была в центре внимания. Перед спектаклями в «Ла Скала», которыми должен был завершиться сезон 1956-1957 годов, она съездила в Лондон, чтобы 2 и 6 февраля спеть там Норму. Харольд Розенталь упоминает в своей хрошке «Ковент Гарден», что можно было бы сыграть и шесть спектаклей, если бы певице не нужно было в феврале записывать в студии Розину (Россини), а в марте – Амину (Беллини).
С гой поры и начался тот вид художественного планирования, что направлено на произведение эффекта. Прибытие в лондснский аэропорт хрупкой красавицы вместо тучной дивы, какой Каллас помнили в Лондоне, попало на передовицы – и снова передовицы появились раньше, чем был показан спектакль опять о певице судили и рядили, в том числе говорили и о том не потеряла ли она, часом, вместе с килограммами и вокальюго дара. В записи этих спектаклей не сохранилось, в связи с чем сему вопросу суждено остаться без ответа, тем более что рецензии были весьма противоречивы.
Розенталь пишет, что ее голос «ни в коей мере не поврежден, напротив, стал ровнее и красивее прежнего». Премьера принесла пешце «один из знаменательнейших триумфов ее карьеры», аплодисменты были более бурными, чем когда-либо, а выходы на послон в конце вечера она превратила в "отдельный спектакль'. Во втором представлении, прошедшем 6 февраля 1957 года, дирижеру Джону Причарду пришлось допустить бисирование кабалетты в дуэте Нормы и Адальджизы: это был первый «бис» в Лондонской Опере со времен окончания войны. Ликование было безмерно, так что пара критических замечаний в отдельных рецензиях потонула во всеобщем восхищении. Статья в «Таймс» гласила: "Нельзя утверждать, будто бы голос Каллас стал красивее. Высокие ноты зачастую звучали сдавленно («pinched»), время от времени плоско и невыразительно, а интонирование казалось неуверенным – «Casta diva» закончилась очень резко ("very sharp "= слишком высоко)".
Только после этих оговорок автор позволил себе похвалить патетический накал, владение дыханием, легато, драматическое осмысление фиоритур, сказочные хроматические звукоряды Каллас. На страницах «Опера Ньюс» Фрэнк Грэнвилл-Баркер сетовал, что богатство звучания голоса уже не то; он тоже подметил «отдельные пронзительные тона и новую резкость» в нем.
В марте она шесть раз пела Сомнамбулу в «Ла Скала» под руководством Антонино Вотто; в то же время была осуществлена запись для компании ЕМ1. Клаудиа Кэссиди писала, что голос опять вернулся в прежнее состояние, и позволила себе прогноз: «Я уверена, что она будет оставаться великой певицей ближайшие двадцать лет или даже дольше».
Тем временем Мария Каллас готовилась к запланированной на 14 апреля премьере «Анны Болейн» Доницетти. Впервые это произведение было показано 26 декабря 1830 года на сцене «Театра Каркан» в Милане. Главную партию исполняла Джудитта Паста, партию Перси – Джованни Баттиста Рубини. Уже в июле 1831-го они отправились с этой оперой на гастроли в Лондон, где она с тех пор не сходила с афиш, как и в Париже, и шла с большим успехом в течение нескольких десятилетий (Джудитту Пасту сменила Джулия Гризи, Рубини – Марио). Первое возобновление постановки состоялось в 1956 году в Бергамо, прежде чем Висконти и Каллас приступили к работе над этой оперой. Джанандреа Гавадзени, дирижировавший тогда, вспоминал слова своего знаменитого коллеги Джино Маринуцци, сказавшего, что «Анна Болейн» возродится в тот момент, когда появится подходящая исполнительница для заглавной партии.
Висконти и Николай Бенуа выбрали для сценического оформления только лишь черный, серый и белый цвета. Джульетта Симионато (Анна Сеймур) появлялась на этом угрюмом фоне в красном платье, Мария Каллас – в мантии, переливавшейся всеми оттенками голубого, и в великолепных бриллиантах, специально подобранных к ее глазам, форме лица и фигуре – «а уж на сцене, поверьте мне, на сцене у нее была фигура», – говорил Висконти. Бенуа рассказывал, что кроил платья по меркам Каллас, – и всех вдохновлял портрет Анны Болейн кисти Гольбейна. Тем не менее Висконти стремился не к исторической достоверности, а к стилистическому подобию.
После триумфальной премьеры все имевшие отношение к театру сошлись во мнении, что эта постановка утвердила новые законы инсценировки романтической оперы. Овации длились 24 минуты; настала высшая точка карьеры Марии Каллас в «Ла Скала». «Уникальный успех», – гласило суждение Клаудии Кэссиди. Десмонд Шоу-Тейлор, признанный английский знаток певческого искусства, писал, что опера, в сущности предвосхитившая «Макбет» Верди, могла бы вернуться на интернациональные сцены, но только при условии, что главную роль будет исполнять Каллас. На один из спектаклей в Милан прилетела Эльза Максвелл; Мария Каллас, к тому времени тщательно режиссировавшая свои появления и вне стен театра, встречата ее в аэропорту. «Вот две тигрицы», – сыронизировала одна из газет, и Максвелл в очередной колонке посетовала на «гадкую сеть инвектив, плетущуюся вокруг Марии Каллас».
Повод вступиться за певицу был. Она отменила выступление в дни Венского фестиваля (Wiener Festwochen), которое устно пообещала Герберту фон Караяну, опьяненная успехом гастролей «Лючии ди Ламмермур» 1956 года: дело в том, что гонорар предыдущего года – 1600 долларов – показался Менегини недостаточным. Представители Венской оперы объясняли, что Каллас потребовала 500 долларов добавки, но отрицали бурную ссору, якобы произошедшую между певицей и дирижером. Это мелкое происшествие, разукрашенное, словно барочная ария, стало известно за пределами оперных кругов. В одном из репортажей" сообщалось, что разбушевавшийся дирижер на глазах у Каллас разорвал контракт, которого в действительности никогда не существовало, а тот факт, что Эльза Максвелл выступила в защиту певицы, придал истории дополнительную изюминку.
Сезон в «Ла Скала» завершился третьим спектаклем с участием Каллас – «Ифигенией в Авлиде» в постановке Висконти. Это была пятая и, к сожалению, последняя совместная работа певицы с Висконти, перенесшим действие оперы в XVIII век, в атмосферу рококо. При создании декораций Николай Бенуа ориентировался на архитекторов легендарного семейства Биббиена, творивших в единой стилистической манере с начала XVII по коней XVIII века, а при создании костюмов ему помогли полотна Тьеполо. Висконти и Бенуа уверяли, что смещение действия во времени вполне оправдывается музыкой оперы, по словам Бенуа, «моим главным ориентиром при оформлении спектакля». В первый раз за время совместной работы замысел Висконти пошел вразрез с идеями Каллас: она хотела – «я же гречанка» – походить на персонаж греческой мифологии, но все же последовала указаниям режиссера, в очередной раз убедив его, что на нее можно положиться.
Впоследствии Висконти называл постановку оперы Глюка наиболее законченной в эстетическом отношении из всех, которые он делал с Каллас. Из его воспоминаний видно, сколь точно она исполняла на сцене достигнутое во время репетиций. В одной сцене она должна была подняться по лестнице и поспешно сбежать вниз в развевающемся на ветру пальто. В каждом спектакле она пела верхнюю ноту точно на восьмой ступеньке: движение и музыка были идеально согласованы одно с другим.
Тремя годами позже Висконти собирался ставить с Каллас «Полиевкта» Доницетти в «Ла Скала». Однако незадолго до этого подверглись цензуре одна из его постановок и фильм «Рокко и его братья», в результате чего Висконти раз и навсегда отказался работать в театрах, получающих дотации от государства. Оперы, в которых он впоследствии желал задействовать Марию Каллас, она, очевидно, не хотела петь: Кармен она избегала, так как боялась танцевать, от Саломеи отказалась, не желая раздеваться во время танца семи покрывал, хоть Висконти и счел ее в роли Кундри в «Парсифале» «прекрасной, как одалиска», а Маршальшу в «Кавалере розы» отвергла из-за немецкого языка. Ифигения", двадцатая по счету постановка «Ла Скала» с Марией Каллас, игралась всего четыре раза, несмотря на неслыханный успех. 21 июня президент Италии Гронки присвоил аллас титул «командора»; ее кандидатура на это звание была выдвинута министром просвещения Альдо Моро. После этого она отправилась в Париж, куда ее пригласила Эльза Максвелл, наслаждаться светской жизнью – посещениями эксклюзивных салонов мод, коктейлями у баронессы Ротшильд, чаем v Виндзоров, гонками в компании Али Хана. В начале июля она с труппой «Ла Скала» отправилась на гастроли в Кёльн и пела там Амину в «Сомнамбуле» Беллини, в постановке куда более выразительной и поэтичной, чем студийная запись, которой Вотто дирижировал более чем заурядно. «Голос, техника и замысел дивно дополняли друг друга», – писал Джон Ардойн.
После возвращения дивы в Милан последовали студийные записи «Турандот» Пуччини и «Манон Леско». Дирижировал снова Туллио Серафин, с которым певица наконец-то примирилась. Оба ее образа были тоньше, объемнее, богаче, чем у других певиц, однако на высоких нотах появились значительные вокальные затруднения, особенно в «Манон Леско».
Первая за двенадцать лет поездка Каллас в Грецию не принесла с собой ничего, кроме разочарования. Мать певицы Евангелия постаралась очернить ее, как только могла, и оппозиция заявила правительству Караманли, что гонорар в девять тысяч долларов за два концерта – это слишком для нищей страны. Первый из запланированных концертов в театре Ирода Аттика она была вынуждена отменить по причине простуды и крайней усталости, и поскольку организаторы, боясь реакции публики, объявили об отмене концерта всего лишь за час до его начала, на Каллас обрушилась буря негодования. Второй концерт проходил 5 августа под надзором полиции, но в конце концов певиие все же удалось смягчить враждебную настроенность публики за счет своей решимости и энергии. Короткий отпуск, проведенный на Искья, не принес ей желаемого отдохновения.
По возвращении певицы в Милан ее врач Арнольдо Семера-ро обнаружил у нее нервное истощение и посоветовал ей продлить отпуск на месяц. Однако она должна была ехать в составе труппы «Ла Скала» на гастроли в Эдинбург с "Сомнамбулой Беллини. Менегини не удалось убедить генерального секретаря театра, Луиджи Ольдани, что Каллас не в состоянии никуда ехать. Ольдани утверждал, что образ Амины в представлении публики неотделим от Каллас, кроме того, театр не может позволить себе отправить на фестиваль другую певицу, хотя молодая и необыкновенно талантливая Рената Скотто вполне могла бы исполнить эту миссию.
Глава 9
Примадонна без родины
Всегда только борьба – моей карьере постоянно сопутствовав сплошные неприятности, и я должна была все время бороться. Не выношу этого. Вообще не люблю никакой борьбы и раздоров. Меня крайне раздражают возникающие из-за этого нервозные состояния, но уж если меня вынудили бороться, я именно борюсь. До сих пор я всегда побеждала, однако никогда не иснытывала при этом внутреннего освобождения. Это были всего лишь пустые, бессмысленные триумфы...
Мария Каллас
Guidice ! Guidice ad Anna , или Роль скандалистки
''Неприятности начались с ''Сомнамбулы", на роль звезды была заявлена Божественная, Мария Менегини-Каллас. Однако ее наибожественнейший голос дал сбой. На премьере были заметны лишь некоторые шероховатости. Но во время третьего представления уже казалось, что на любой ноте выше фа ее голос вот-вот оборвется или потеряет силу. Знаменитая ''Ah, non credea" болью отозвалась в сердце каждого из присутствовавших, и тем не менее в ее исполнении было много трогательных моментов. После четвертого представления («совершенно без сил») дива сразу вылетела в Милан, ее заменила Рената Скотто". Так сухо и без злорадного подтекста откомментировал гастроли «Ла Скала» в Эдинбурге летом 1957 года ЭндРю Портер из «Хай Фиделити». Сродни ему был и отчет Харольда Розенталя из «Мьюзикал Америка». Первое представление, по его мнению, было слабым, второе и третье – довольно неровными, а вот на четвертом, на котором ему довелось присутствовать, певица показала себя во всем блеске своего таланта. Исполненный восхищения, Розенталь писал о музыкальности, интеллигентности и силе воздействия певицы, которая из чувства долга дала уговорить себя выступить в четырех вечерних постановках.
Уже после первого вечера какой-то английский доктор посоветовал ей прервать гастроли. Она с трудом вытянула второе представление, успехом которого еще и злоупотребил Луиджи Олдани, пообещав эдинбуржцам дополнительный, пятый спектакль. После третьего представления, которое она провела на пределе своих почти иссякших сил, она предупредила театрального менеджера, что не сможет участвовать в пятом спектакле. Нашлось немного критиков, которые, подобно Альберту Хаттону из журнала «Музыка и музыканты», с такой теплотой отозвались о ее отъезде: «...Надо порадоваться за нее, что она вернулась в теплые края». Одинокий голос музыкального критика потонул в возмущенном хоре скандальных недоброжелателей. Бульварные газетенки вещали об очередной «забастовке» Марии Каллас, и когда она прибыла в Италию, итальянская пресса встретила ее такими же голосами. Мария Каллас, кричали они, обесчестила ведущий оперный театр Италии. И уж тем паче не простили ей выступления на венецианском балу, устроенном Эльзой Максвелл, где она «под бренчание на рояле своей кумушки» исполнила блюз «Stormy weather» («Ненастная погода»). («Эльза Максвелл дебютировала в качестве тапера немого кино, а впоследствии демонстрировала свои фортепьянные и певческие способности на всякого рода вечерах».) После «Ненастной погоды» разразился настоящий ураган, он отчаянно хлестал певицу по лицу, тем более что Эльза Максвелл в совершенно непонятном порыве эгоцентризма заявила: «За свою жизнь я получила много подарков... Но я никогда не встречала звезды, которая пожертвовала бы своим выступлением в опере ради того, чтобы не нарушить данного подруге слова». Казалось, будто Мария Каллас не увидела губительных последствий подобного комплимента, очевидно, она не желала, оперируя словами Дуайта Макдональда, подлаживаться под вкусы публики. На втором вечере среди гостей Максвелл («За свою жизнь еще никогда не устраивала такого прекрасного ужина и не дав ла такого великолепного бала» – так высоко оценила свой вечер хозяйка) присутствовал также судовладелец Аристотель Онасис, который «с давних пор слыл большим поклонником своей греческой соотечественницы» (Еллинек). В то время показаться обществе этого человека означало что-то вроде общественного признания, но для певицы, к тому же после «забастовки» в Эдинбурге, такое скорее казалось своего рода позорным пятном. Она нарушила, как это было принято считать, – к примеру, в Голливуде, – «правила поведения». В своей книге «Звездная болезнь» Александр Уокер посвятил гигантскому голливудскому мифу под названием «Скандал» целую обстоятельную главу. Начиная с двадцатых годов, на протяжении практически тридцати лет почти всем звездам вменялось в обязанность следовать определенным правилам поведения, черным по белому записанным в договоре, которые вынуждали звезд вести двойную жизнь и искажали реальную картину их существования. Мария Каллас стала жертвой подобного ханжества. Слава дивы, примадонны, самой высокооплачиваемой в мире певицы словно бы отделилась от нее как от личности, к тому же те, кто рукоплескал ей и делал ее главной исполнительницей скандальных историй, не имел ни малейшего представления об опасностях, подстерегающих профессиональную певицу. Если каждому спортсмену в случае травмы положено отказаться от игры, то певице такое возбранялось, и уже давно. Даже Антонио Гирингелли, директор «Ла Скала», не дал официального объяснения поведению своей звезды, которой театр обязан самыми знаменитыми постановками в пятидесятые годы, – хотя Гирингелли должен был знать, что в Эдинбурге она не нарушила условий подписанного ею контракта.
Отныне любая отмена ею спектакля, любая болезнь, любой отказ воспринимались как преступление. Разве могла певица серьезно заболеть и не быть в состоянии выступить, если ее видели на вечеринке нуворишей? Когда по совету не только своего врача доктора Земераро, но и еще одного специалиста она отказалась от предстоящих сентябрьских гастролей в Сан-ранциско, Курт Херберт Адлер незамедлительно расторг с ней оговор, хотя она дала согласие на гастроли, запланированные а октябрь. Более того, он передал «это дело» в «Американскую гильдию музыкальных артистов», поскольку хотел добиться кций против певицы. Отныне ее имя стало не только символом assoluta, но и символом скандала, и очередной новый скан-превосходил по силе предыдущий.
Скандал, разразившийся 2 января 1958 года, был раздут газетными заголовками, точно политическое событие мирового значения. После пяти представлений «Бала-маскарада» Верди открывшего сезон «Ла Скала» 1957-1958 годов, Каллас предстояло открыть театральный сезон в Риме «Нормой» Беллини. В новогоднюю ночь она исполнила по телевидению арию «Casta diva», затем отметила Новый год в одном из римских ночных клубов и проснулась утром, за тридцать шесть часов до выступления, совершенно без голоса, хотя на генеральной репетиции она была в превосходной форме. По сообщению Еллинека, Менегини с превеликим трудом удалось заполучить к ней врача в первый день нового года. В том, что Каллас несомненно была больна, удостоверяет и тот факт, что она попросила директора театра подыскать ей замену. Но даже если бы удалось реанимировать Патти или Пасту, все равно это не спасло бы положения. Был объявлен гала-спектакль Каллас, на котором должен был присутствовать сам президент страны; билеты в партер стоили более сорока долларов. Даже Менегини подпал под магию славы своей жены. Она должна, она обязана, она будет петь! И действительно, на другое утро состояние ее голоса как будто улучшилось. Однако спустя всего несколько часов выяснилось, что мнимое улучшение явилось лишь следствием медикаментозного вмешательства.
«Sediziose voci, voci di guerra awi chi alzar s'attenta» («Голоса соблазна, голоса войны, есть ли среди вас хоть один, который отважится...») – такими словами в «Норме» начинается речитатив перед той арией, о которой говорят, что большинство примадонн с охотой пожертвовало бы рукой, лишь бы только им удалось, пусть хоть один-единственный раз, совершенно ее исполнить. После фразы: «Бунтарские голоса, голоса войны дерзко поднимаются у алтаря Господня», – спетой Марией Каллас, которой удавалось лишь усилием воли и высочайшим вокальным мастерством мобилизовать голос и заставить его звенеть металлом, в зале раздались воинственные клики. В конце первого акта, который она еще не успела довести до конца, враждебно настроенные фанаты, не обращая внимания на действо на сцене, повели себя, как взбесившиеся дикари.
И она сделала то, что должна была сделать с самого начала она прекратила выступление. Тщетны были все уговоры дирижера Габриэля Сантини, художницы Маргериты Вальманн, Дokтора театра Карло Лантини: Каллас не смогла выйти на сцену. А дублера, который на случай подобной оказии должен был бы продолжить партию, в театре не оказалось. Публике, в том числе и президенту с супругой, пришлось отправиться домой.
Ни одна из газет не озаботилась здоровьем певицы, более того ее облыжно обвинили в оскорблении президента республики будто отказ потому только превратился в скандал, что в театре находилась какая-то авторитетная личность. На другой день перед отелем «Квиринале», в котором остановилась Каллас, собралась злобствующая свора недоброжелателей.
Трудно объяснить, как все произошло, ибо впоследствии скандал превратился в трагикомическую легенду. Даже репортер римской «Мессаджеро», свидетель того представления, не мог с уверенностью сказать, что за крики неслись из зала. То ли «Via la Callas» – «долой Каллас», то ли «Viva la Callas» – «да здравствует Каллас». Несомненно одно: раздавались возгласы: «Evviva L'ltalia» и «Viva le Cantanti italiane» и относились они в первую очередь к Аните Черкуэтти, которая пела во втором спектакле и прославилась хоть и заслуженно, но весьма неподобающим образом.
Журнал «Опера» отмечал уже тогда, что Мария Каллас сама столкнула себя с пьедестала, хотя для итальянской оперы она сделала гораздо больше, чем были в состоянии представить себе римские шовинисты. И конечно вызывало удивление, что скандал в опере оттеснил в тень даже результаты футбольных встреч и политических событий. Но более благоразумные итальянцы признавали, что во время спектакля сразу бросалось в глаза болезненное состояние певицы. Запись ее выступления показывает, что в речитативе ей еще удавалось владеть голосом, однако уже вскоре после изящно сплетенных начальных фраз арии «Casta diva» ее голос стал жестким, а качество звучания резким и пронзительным. Трудно сказать, должна ли была она Допеть оперу до конца или же, как ей советовали, прибегнуть к Декламации.
Редакции ряда газет не погнушались даже бранью в адрес Каллас. «Эта второсортная греческая певичка, – писала „Иль Джорно“, – итальянка благодаря замужеству, миланка по причине несправедливого восхищения ею определенных слоев миланской публики, космополитка из-за опасной дружбы с Эльзой Максвелл, уже много лет как вступила на путь мелодраматической вседозволенности. Последнее происшествие показывает, насколько Мария Менегини-Каллас неблагонадежная актриса, которой чуждо даже элементарное чувство дисциплины и приличного поведения».
Из такого оскорбительного обвинения явствует, что в основе скандала лежит предубеждение, доведенное до ненависти. Что все чувства вышли из-под морального контроля, из зоны критики. Нельзя даже приблизительно определить, какое воздействие на художника мог оказать подобный взрыв ненависти, на художника, который всегда зависит от собственного настроения чье честолюбие заставляет полностью отдаваться искусству и стремиться к совершенствованию своего мастерства. Какие же чувства испытывала прежде всего актриса с почти непреодолимым – согласно Легге – чувством неполноценности? Она послала президенту и его супруге извинительное письмо. Синьора Гронки незамедлительно отреагировала полным понимания телефонным звонком, однако общественное лицо певицы было до неузнаваемости искажено. Даже итальянский парламент занимался «случаем с Каллас». На певицу нацепили ярлык красивого хищного циркового зверя – эдакого чудовища, которое можно обуздать лишь кнутом и клеткой.
История эта получила драматическое завершение. Когда спустя три месяца, девятого апреля, Мария Каллас вновь пела на сцене итальянской «Ла Скала» – Анну Болейн, – и ее героине предстояло выступить гладиатором в цирке перед толпой народа, жаждавшего, по словам Джулини, крови, а полицейским пришлось прокладывать ей дорогу в театр и на сцену, публика же намеренно рукоплескала исключительно ее партнерам, тогда певица отважилась на единственно возможный в этом случае способ защиты. В конце первого акта Анну арестуют, и она швыряет в лицо охранникам гневные обличительные слова: «Giudici! Ad Anna! Giudici!» («Судьи! Против Анны! Судьи!»)-Каллас вышла к самому краю рампы и выразительно пропела эту фразу, нацелив ее прямо в публику. И публика сдалась, она приветствовала певицу ликующими возгласами, радуясь ее мужеству и тщетности собственных низменных усилий.
Какой ужасный триумф! Как говорится, на того, кто долго смотрел в бездну, эта бездна теперь уставилась сама. Это был один из тех вечеров, который вряд ли мог дать успокоение истерзанным нервам певицы.
Осенью 1957 года она должна была выполнить договорные бязательства с фирмой «Cetra» – сделать три записи. В сентябре она записала «Медею» Керубини, и потому запланирован-ые следом гастроли в Сан-Франциско пришлось отменить. Kурт Херберт Адлер, возмутившись разрывом договорных обязательств, счел запись доказательством того, что она все-таки могла петь. Но если бы она последовала совету врачей и отказалась от записи «Медеи», ее черный список пополнился бы еще одной скандальной историей.
Когда после выступления в «Анне Болейн», которое певица использовала как трибунал против своих обвинителей, она вернулась на Виа Буонаротти, все двери, стены и окна дома оказались вымазаны грязью и нечистотами. Тотчас по завершении серии выступлений она уехала отдыхать на озеро Гарда. В Сирмионе она усиленно готовилась к последней премьере сезона «Ла Скала»: «Пирату» Беллини. На репетициях перед премьерой, назначенной на девятое мая, Гирингелли полностью игнорировал ее. Журналу «Лайф» она заявила: «Если театр пригласил актера и постоянными придирками и жесткостью создает на сцене напряженную атмосферу, то работа артиста физически и морально становится невыносимой. Для самозащиты и сохранения собственного достоинства мне не оставалось иного выбора, как только покинуть „Ла Скала“. 31 мая 1958 года, после пятого представления оперы Беллини и сто пятьдесят седьмого выступления Каллас на сцене „Ла Скала“, она покинула театр. Когда она вновь вернулась в него в декабре 1960 года для участия в пяти представлениях „Полиевкта“ Доницетти, вулкан уже потух, тот самый вулкан, что в последнем спектакле „Пирата“ еще раз изрыгнул пламя. В большой заключительной сцене перед мысленным взором Имоджене возникает виселица, на которой должен умереть ее возлюбленный: „La... vedete...il palco funesto“. „Palco“ означает также театральную ложу. Каллас пропела эту фразу, сделав при этом недвусмысленный презрительный жест в сторону пустой директорской ложи. Публика поняла, что это был жест прощания, и раз за разом вызывала певицу на сцену. В конце концов Гирингелли приказал опустить железный занавес, показав тем самым, что вечер завершен. На сей раз невица покидала театр, обласканная зрителем. Гирингелли холодно отозвался об этом: „Примадонны приходят и уходят, Ла Скала“ остается». Где же с тех пор остается «Ла Скала»?
«Будь проклято сердце, которое не может смягчиться», – говорит Генрих Клейст в своей «Пентесилее». Марии Каллас не было необходимости смягчаться и унижаться, чтобы вести игру которую вели даже бунтарские голливудские дивы, за исключением, пожалуй, Бетт Дэвис. Видимо, она не могла вести такую игру еще и потому, что выступление на сцене всегда связано с риском и подразумевает еше больший вызов, нежели игра перед камерой. Она не хотела подгонять себя под картинный мир женщины, потому что даже к тому времени, когда она сама могла стать «журнальной» красавицей, она не походила на женщин с обложек. Она была иключением, перманентным скандалом. Ее жизнь можно назвать, используя формулу Ханса Майера, «фенотипичной». Как примадонна она выпадала из нивелированного художественного мира, как спутница жизни предпринимателя – она изменяла искусству с обществом, и только когда она покинула сцену и Онассис оставил ее, она смогла сделаться кумиром.
Обреченная на успех
Получать самое большое удовольствие от жизни – значит опасно жить.
Фридрих Ницше
«Стоило на сцене появиться зажигательной Марии Каллас...». Надо ли продолжать цитату? Это был уже новый тон, он был подхвачен специализированными журналами, такими как «Опера Ньюс», тон, появившийся после ее блестящего выступления 7 декабря 1957 года. Она исполнила партию Амелии в «Бале-маскараде» – в постановке режиссера Маргериты Вальманн и под управлением дирижера Джанандреа Гавадзени – более драматично и спонтанно по сравнению с записью оперы, сделанной год назад, в сентябре (1956 г.). «Для пластинок, -сказала она как-то Ардойну, – нужно все свести до минимума, чтобы не допустить утрированного звучания», а вот на сцене она могла позволить себе характерные акценты, не опасаясь переиграть. Во втором акте, как показывает запись, любовный дуэт полон напряжения. Фраза, исполненная Каллас-Амелией «Ebben, si t'amo» («Что же, да, люблю тебя»), принадлежит к незабываемым вокальным жестам певицы. Однако эту постановку омрачила враждебная атмосфера, царившая в «Ла Скала».
После крушения карьеры в Риме это была уже другая Мария Каллас. «Когда ты молод, тебе нравится доводить свой голос до амого предела; тебе нравится петь. Тут не при чем сила воли, и о никоим образом не связано с мучительным честолюбием. Просто ты влюблен в свою работу, в это прекрасное, святое дело которое мы зовем музыкой. А если ты поешь с удовольствием' с настроением, тогда и пение получается красивым. У тебя возникает ощущение, будто ты постепенно хмелеешь, хмелеешь просто от радости, радости, что можешь сделать что-то хорошее. Это как акробат, прекрасно владеющий своим телом, ему передается упоение публики, и потому он отваживается на все более смелые трюки». Отныне она все чаще отваживается на подобные трюки на так называемых гала-концертах. В январе 1958 года она вылетела для проведения такого концерта в Чикаго. Во время краткой остановки в Париже ее обступили журналисты. Когда прозвучало слово «Рим», она ответила, как истинный виртуоз и в области дипломатии, чему научилась совсем недавно, что в этом городе она по крайней мере могла «сосчитать своих друзей». Покидая Париж, где ей был оказан прием, каким обычно «удостаивают коронованных особ», она была уверена, что обрела новую гавань. В Чикаго перед концертом, состоявшимся 22 января, публика встретила ее овациями, не смолкавшими в течение десяти минут. Клаудиа Кэссиди вновь писала о ее «восхитительной технике, удивительном понимании драматического образа и о самом широком по сравнению с другими певицами диапазоне голоса». А завершила статью следующими словами: «Все ли было безукоризненно? Конечно нет. Крупные вещи вообще редко получаются безукоризненными. Но это была Каллас на вершине расцвета ее творческих сил, – если закрыть глаза на некоторые звуки, которые можно назвать скорее смелыми, нежели прекрасными, – но даже они призваны восславить красоту мужества и безусловной силы воли».
Это было рожденное любовью эвфемистическое описание проблем певицы, которые Роджер Деттмер без обиняков обозначил в «Чикаго Америкен»: «Голос Марии Каллас звучит так, оудто у нее серьезные с ним проблемы, а вот насколько они серьезны, судить ей самой. Накануне вечером ее голос, который ам довелось услышать впервые за последние двенадцать месяцев, часто звучал неровно и неуверенно. Создается впечатление, о за один год она постарела на целое десятилетие...» Ее спасла присущая ей «музыкальность». Спустя какое-то время ей пришлось держать ответ перед комиссией Гильдии американских музыкантов за отмену выступления в Сан-Франциско. За три дня до заседания комиссии, которая не осудила ее, но строго пожурила, Мария Каллас попыталась выступить в новом амплуа в шоу Эдварда Ф. Мерроу «Лицом к лицу». Она представила себя серьезной, вдумчивой, остроумной актрисой, не имеющей ничего общего с большинством журнальных портретов.