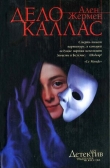Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Бинг предпринял еще одну не вполне искреннюю попытку пригласить Каллас в «Метрополитен». Он снова предложил ей прежние постановки «Лючии» и «Нормы» и вдобавок к ним «Севильского цирюльника». Но они уже не интересовали Каллас. Она посоветовала заменить их «Анной Болейн», однако Бинг охарактеризовал эту оперу как «an old bore of an opera» ( Допотопную оперную скуку (англ.)). Это было больше, чем просто идиосинкразия или дефицит эстетизма у опытного импресарио. «Метрополитен» никогда и ни при ком, ни при Бинге, ни при Джонсоне или Гатти не была театром, который стремился стать культурным центром страны, как «Ла Скала» при Тосканини. У Бинга не достало честолюбия на реанимацию находившихся в состоянии летаргии опер Беллини и Доницетти, а также на постановку новых произведений. Его главной заботой было, чтобы перед театральной кассой всегда стояли длинные очереди. А то, что писал известный вашингтонский критик Поль Хьюм: того, кто палит по Каллас, следует самого подпалить, – оказалось пустым звуком.
Бессмысленно задаваться праздным вопросом, кто был прав а кто виноват в этом споре. Мария Каллас была очень тяжелой а порою ненадежной участницей переговоров, и в первую очередь из-за закулисных махинаций своего мужа Менегини; к тому же возникающие все чаше неполадки с голосом делали ее еще более неуверенной и ненадежной. Однако оперное искусство, уже давно ставшее предметом торговли с ее изощренными и грубыми экономическими правилами, требовало новый тип исполнителя: современную звезду, выносливую, обладающую честолюбием и остротой глаза, умеющую читать ноты, как банкноты. Оглядываясь назад, признаешь, что «скандал с Каллас» не может рассматриваться как заурядный единичный скандал с противоречивой Личностью; он представлял собой модельный скандал из современной оперной жизни и был нацелен на выдавливание своенравной, капризной и одновременно притягательной, как магнит, блистательной исполнительницы из блестящего, роскошного, дорогостоящего предприятия, которое вершит свой триумф на фестивальных празднествах перед публикой, представляющей собой потомственную аристократию и новоявленных нуворишей. В таком предприятии на заднем плане маячит всемогущий директор-импресарио-дирижер, а в центре стоит прославляющая саму себя публика. Мария Каллас позволила втянуть себя в эту жизнь. Ее концертное турне завершилось ужинами в Нью-Йорке (в честь Герберта фон Караяна) и Вашингтоне в кругу таких знаменитостей, как Али Хан или Ноэль Кауард.
Но разве могло это мероприятие компенсировать катастрофичный для нее в художественном плане год? Он начался в январе со скандала в Риме, где она сорвала «Норму». В феврале и марте выпало семь спектаклей в «Метрополитен» и два в Лиссабоне. В «Ла Скала» она дала тем не менее десять представлении, в «Ковент Гарден» – пять и в заключение в Далласе – четыре. Потом были концерты, за которые она получила 10 000 долларов и где одержала блестящий триумф. Но в этом году она потеряла трон в «Ла Скала» и кроме того силу противостоять войне с привидением по имени «слава». Для нее оставались открыты пишь лондонский «Ковент Гарден» и Париж. В Париже она первые выступала 19 декабря 1958 года. Она пела в «Опера», но не оперный спектакль, а пела для Чарли Чаплина и Брижит Бардо, для Эмиля Ротшильда и Жюльетт Греко, для семейства Виндзор и Франсуазы Саган, для Жана Кокто и Аристотеля Онассиса: то есть для публики, которая не только хотела послушать некую Марию Каллас, ей нужна была скандальная слава некой Каллас, потому только она и пошла в оперу.
Это был гала-концерт, устроенный в честь французского Почетного Легиона под патронажем премьер-министра, спонсированный журналом «Мари-Клер» и поставленный Лукино Висконти; он завершился ужином, на который были приглашены четыреста пятьдесят гостей, славивших «королеву бельканто», и счастливая певица заверила французов, что только одни они попытались по-настоящему понять ее. Вечер транслировался по телевидению и не только во Франции, но и в Англии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Австрии, Дании и Федеративной Республике Германии. Она исполнила «Casta diva», арию Леоноры из четвертого акта «Трубадура», включая Miserere, «Una voce» Розины и наконец – вместе с Альбертом Лансом и Тито Гобби – второй акт «Тоски». Сцена из «Нормы» была подготовлена безобразно, отрывки из «Трубадура» получились более или менее сносно. А вот ария Розины показала ее мастерство на подобающей высоте. Сценическая постановка второго акта «Тоски» Пуччини – впервые ее партнером на сцене был Гобби – напоминала скорее эскиз, хотя именно здесь ее вокальное мастерство обычно было самым убедительным. Успех был грандиозным, певицу встретили громом аплодисментов и восторженными возгласами, как после ее блестящих выступлений в «Ла Скала». Импресарио А.М.Жюльен из парижской 'Опера" предложил ей выступить в сезоне 1959-1960 годов с Медеей; сэр Дэвид Уэбстер из лондонского «Ковент Гарден» тоже принадлежал к преданным друзьям певицы. Париж, который, по словам Эверетта Хелма («Сатердей ривью»), со времен легендарной Малибран не получал такого удовольствия, стал второй родиной певицы.
Угасание голоса
Есть два вида плохого пения: шепотком и горлом.
Джованни Баттиста Ламперти
Год 1959 является кризисным в карьере певицы. Пьер-Жан Реми утверждает, что угасание голоса происходило в промежутке между 1959 и 1965 годами. Это легко прослеживается по некоторым цифрам. В 1959 году Мария Каллас дала четырнадцать концертов и всего девять раз спела в опере. В Лондоне она выступила в пяти представлениях «Медеи» Керубини, в Далласе -по два раза в «Лючии ди Ламмермур» и «Медее». В 1960 году она дважды исполнила «Медею» в греческом Эпидавре и пять раз выступила в «Ла Скала» с оперой «Полиевкт». Вслед за этим в 1961 году состоялись два представления «Медеи» в Эпидавре и три в Милане. За весь 1962 год она всего лишь дважды спела в опере – это была «Медея». В 1963 году она вообще не пела. В 1964 году ее голос вновь воспарил. Только за январь и февраль она шесть раз спела в Лондоне «Тоску», в мае и июне один за другим состоялись восемь спектаклей «Нормы» на сцене парижской «Опера», которые не только обессилили и без того усталый голос, но и физически полностью истощили саму певицу. И лишь в 1965 году она дала наконец двенадцать полноценны представлений «Тоски»: в Париже, Нью-Йорке и последне представление, 5 июня, в Лондоне. Помимо этого состоялось еще несколько гала-концертов, на которых многие зрители, д и некоторые критики тоже, очевидно, впервые слушали Каллас и потому не отважились признаться, что услышанное ими вовсе не отвечает громкой славе певицы.
И только ее восхищенные почитатели пытаются скрыть то факт, что она пела в полную силу всего двенадцать или тринадцать лет, исключая, конечно, несколько представлений в кони войны, о которых вообще невозможно судить. Так что у нее самая короткая – среди певцов такого ранга – певческая карьера. Джудитта Паста выступала тридцать четыре года, Генриетта Зонтаг – тридцать четыре, Шрёдер-Девриент – двадцать шесть лет, Гризи – тридцать два года, Розина Штольц – семнадцать лет, Полина Виардо – тридцать три года, Аделина Патти – двадцать девять лет, Лилли Леман – сорок два года, Марчелла Зембрих – тридцать два года, Эрнестина Шуман-Хайнк – пятьдеся четыре года, Эмма Кальве – тридцать восемь лет, Нелли Мелба – тридцать девять лет, Эмми Дестинн – двадцать восемь лет, Биргит Нильсон – тридцать пять лет, Роза Понсель – восемнадцать лет, только Мария Малибран пела всего одиннадцать лет – вплоть до своей безвременной кончины в возрасте двадцати восьми лет. Голос Марии Каллас потух уже в тридцать пять, да и сама она казалась психически выжатой. Сдержанный накал ее более поздних выступлений и записей может восхищать лишь тех, кто обладает пылким воображением и еще помнит, каким жаром опалял этот голос в былые годы.
В то время как голос певицы уже был охвачен агонией смерти, а слава начинала меркнуть – слава не как абстрактная величина, а как сознательное, объективное, восторженное признание, – росла мировая значимость звезды. В январе 1959 года Сол Юрок вновь уговорил Марию Каллас выступить с концертами в Америке. Но сначала она выступила в шоу Эдварда Мерроу, гостями которого были также дирижер Томас Бичем и датский комический актер Виктор Борге. С большим знанием дела они дискутировали на разные темы: о связях публики и исполнителей, об ответственности артиста, знакомого со всеми преимуществами и недостатками студийной и концертной записи, о жизни оперного театра, о клаке. В то время как Бичем так и сыпал общеизвестными анекдотами, а Борге весело острил, Каллас держалась серьезно, официально и отчасти даже церемонно (Еллинек). В конце дискуссии дирижер предложил диве исполнить партию Деяниры из «Геркулеса» Генделя, поскольку только ей одной подвластна эта страстная музыка.
27 января 1959 года в Карнеги Холле состоялось концертное исполнение «Пирата» Беллини с участием Каллас. Устроителем концерта было Американское оперное общество, дирижером -Никола Решиньо, а публику представляло общество ее страстных почитателей, подпавших под магию дарования дивы благодаря выразительности ее искусства и силе драматического воплощения (Еллинек). Каллас стояла в центре сцены в строгом белом облачении, освещенная лучами прожектора, как некогда позволял себе Леопольд Стоковский, а ее партнеры скромно отошли в тень.
Об этом, правда, ни один из зрителей не пожалел, потому что в худшем обрамлении Каллас практически не доводилосьвыступать– тенор Пьер Мирандо Ферраро и баритон Константино Эго оказались просто не способными воспроизвести самые простейшие вокальные фразы; их голоса, как показала запись, потянули только на третий класс. В литературе обычно подчеркивается, что Каллас была в хорошей форме. Но на репетициях она выказала себя чересчур самонадеянной. Ардойн цитирует высказывание Решиньо, который задал необычайно высокий темп при исполнении стретты в конце первого акта и вынудил Каллас вжать в четыре стремительных такта головокружительную гамму. Один лишь автомат мог стрелять в таком бешеном темпе, но не голос. «Мария испуганно взглянула на меня, когда подошло время этого пассажа, и не смогла его спеть. Я сказал ей, что во время спектакля немного замедлю темп». «Нет, – возразила она, – не делай этого. Мне очень нравится такой темп, он сюда подходит, и я не хочу, чтобы ты подыгрывал мне». «Хорошо, – согласился я, – но что будет, если во время спектакля ты не справишься?» «Это уже мое дело», – возразила она. Поразительно, но на представлении благодаря ее фантастической силе воли этот кусочек получился, и все было в порядке".
Хауард Таубман из «Нью-Йорк тайме» (который уже однажды назвал ее голос «составленным из мозаики» и считал его «продуктом ее силы воли») на сей раз отозвался о певице столь же смело, как прежде: «Мисс Каллас взращена на браваде. Публика уже перестала обращать внимание на ее платье в стиле ампир из белого атласа... и на красивую столу, которую она искусно вводила в игру во время представления, неизменно производя эффект. Ее партнеры исчезли со сцены, словно они уже сделали свое дело. И вот она стояла одна, освещенная прожекторами, стройная, грациозная и излучала магию театра. Она виртуозно исполнила вводный речитатив и арию „Col sorriso d'innocenza“, используя привычные художественные средства. Весь вечер она пребывала в хорошей форме, хотя вначале ее пение, быть может от напряжения, несколько напоминало звук электрической пилы. Она ухватила стиль Беллини и потому пела с необычайной силой убеждения. Ее голос то сладостно ласкал слух, то вдруг становился резким. Исполнение самых высоких звуков походило на азартную игру – они получались либо пронзительными, либо блистательными. Однако ближе к кониу она справилась с собой. Это была великая мисс Каллас, достойная своей славы. Театр буквально взорвался от грома аплодис ментов, и началось столпотворение».
После этой безликой похвалы и вежливой в порицании критики стоит привести квалифицированное суждение Ирвинга Колодина: «Не будь Каллас певицей с особым дарованием и с безупречно отшлифованной техникой, „Пират“ провалился бы уже при первом появлении Имоджене... Она должна была выдержать испытание – исполнить без сопровождения речитатив в форме каденции, а следом арию, которая заканчивалась высоким ре. К этому времени, естественно, ее голос устал, звучал несколько напряженно и тяжело, но страстно и наполнено. Она умело использовала все преимущества широкого диапазона своего голоса, но больше всего мастерства и экспрессии проявилось в тонком развитии ею линии легато и вокальных орнаментов, что – с ее чутьем к трагическим акцентам – впрямую соответствует тексту и природе его воздействия... Второй акт и заключительную сиену безумия (которую она пела на затемненной сиене, освещенная единственнымлучом прожектора) певица уже пела полным, сильным голосом, чего прежде в Нью-Йорке ей не удавалось добиться. Умоляющее „Tu m'apriasti in cor ferita“... было примером искреннего, чувственно окрашенного пения кантабиле. Выяснилось, что она может достичь эмоционального воздействия, не прибегая к бравурным эффектам или к другим эксгибиционистским элементам».
Перед отъездом в Милан «высокочтимую дочь города, чей блестящий голос и великолепное художественное мастерство подарило любителям музыки несказанную радость», чествовал бургомистр Нью-Йорка Роберт Вагнер. Февраль 1959 года она провела в Милане. Календарь ее выступлений не был заполнен, лишь в марте значилась вторая запись в Лондоне «Лючии ди Ламмермур». На последующие месяцы Менегини выторговал по более высокой цене концерты в Мадриде и Барселоне, а также в Гамбурге, Штутгарте, Висбадене и Мюнхене и в завершение в Амстердаме и Брюсселе. В июне Мария Каллас вновь выступила на лондонской сиене, на сей раз в «Медее». В записи оперы Доницетти гораздо заметнее, чем в нью-йоркской постановке оперы Беллини, улавливаются нестабильность голоса и его слабость. Даже в записи он звучит напряженно, звуковая текстура шероховатая и блеклая, а уверенно взятые и чисто выдержанные ноты редки.
Глава 10
Каллас и ее последствия
Большинство подражателей привлекает неподражаемое.
Мария фон Эбнер-Эшенбах
Искусственное пение
Мы многим обязаны ей. Она отворила нам дверь в terra incognita .
Монтсеррат Кабалье о Марии Каллас
Такое случается редко, но это больше, чем простое историческое совпадение: «Ковент Гарден» незадолго до записи оперы Доницетти подготовил ее премьеру в новой инсценировке Франко Дзеффирелли, где в главной партии выступала австралийская певица-сопрано Джоан Сазерленд, которая в 1952 году во время дебюта Каллас в «Норме» исполняла маленькую партию Клотильды. То, что в Лондоне вообще проявился интерес к этому произведению, комментаторы объясняют влиянием Марии Каллас; именно благодаря ей итальянская опера довердиевского периода стала актуальной. С исполнения Сазерленд, – о которой Мария Каллас якобы отозвалась так: «Она отбросила мою работу на сто лет назад», – началась если не новая, как при Каллас, эра пения, то время новых дифференцировок.
Английский литературовед Джон Б. Стин пишет в своей книге «Великая традиция – 70 лет пения на пластинке», что пятидесятые годы для исполнения «опер Моцарта и Вагнера, Верди и Пуччини, даже Беллини и Доницетти было довольно много хороших певцов».
Автор этих строк не вполне разделяет такое мнение. Вплоть до пятидесятых годов, что изложено в вводной главе данной книги, Верди пели исключительно исполнители, которые -стилистически, так и технически придерживались постулатов веризма. Мария Каллас первой стала исполнять партии Леоноры и Виолетты, отражая истинную многогранность их образов; ей удалось передать прежде всего драматизм ее героических героинь. Именно в операх Беллини и Доницетти шпось, пожалуй, ни одного партнера под стать ей, за исключением теноров Чезаре Валетти и Апьфредо Крауса, однако с ними ей никогда не доводилось петь в студии. Невыполненным остается лишь немногое, продолжает далее Стин: «Нужно вслушиваться в музыку, которую писали для Фаринелли и его современников Джакомелли, Риккардо Броски и другие, чтобы понять, что в действительности представляет собой виртуозное пение и как недосягаемо далеки мы с нашими нынешними певцами от его достижений. Партитуры опер Генделя дают массу свидетельств о певческом стандарте того времени. К тому же нам известно, что написанное в партитуре не шло в сравнение с тем, что исполнялось на сцене, ибо певцы имели обыкновение произвольно украшать свое пение и делали это блистательно, к сожалению, сегодня нам это не дано».
С конца пятидесятых годов ситуация значительно изменилась и не в последнюю очередь благодаря Джоан Сазерленд. После того, как своим виртуозным драматическим пением, подкрепленным языком жестов, Марии Каллас удалось реабилитировать «канареечную музыку», оказалось возможным найти новые параметры для интерпретации орнаментированной музыки – вктючая музыку XVIII столетия. Возможно, без интереса, пробужденного Марией Каллас, Джоан Сазерленд никогда бы не обратилась ко всему «арсеналу» стилей музыки бельканто, чтобы показать другое измерение выразительности пения, в частности – искусственное богатство форм этой музыки. Насколько это до сегодняшнего дня еще не нашло понимания, свидетельствует статья «Ренессанс Доницетти» , инициатором которого называют Марию Каллас. Она реабилитировала акое «искусственное стилистическое средство как колоратура, 'вляющееся медиумом драматической и психологической экспрессии». Это положительное высказывание (оправдывающее Каллас) в основе своей неверно. Неверно потому, что определение колоратуры как "искусственного стилистического средства делает ее чем-то поверхностным. Мария Каллас не только преодолела «искусственное пение», как полагает автор, но вновь нашла дорогу к нему. Если позднее утвердилось мнение,что такие певицы как Сазерленд, Кабалье и Силлз "явно от шли от еше новых традиций Каллас... и скорее считали для cefi обязательным «искусственное пение», то содержащаяся в это высказывании критика является фактически похвалой. Ни Кабалье, ни Сазерленд нельзя упрекнуть в том, что они пели «искусственно», а самое большее, в чем их можно упрекнуть так это в том, что они не наполняли драматизмом и спонтанностью многие вокальные формулы, как это делала Каллас; что в их исполнении прежде всего текст не нес нагрузки, как того требовали старые теоретики бельканто.
Достижение Джоан Сазерленд и, в первую очередь, конечно, Мэрилин Хорн заключается в том, что они, следуя указаниям Ричарда Бонинга, после изучения партитуры и других важных источников «обращали особое внимание на исполнительское мастерство старых певцов – прежде всего на широту диапазона и гибкость голоса» (Стин).
Сазерленд и Хорн программно продемонстрировали этот возврат в двух альбомах: «Эпоха бельканто» и «Памятные подарки Золотого века» (где Хорн исполняет партии Малибран и Виардо). Эти записи являются наилучшим примером, более того, аргументом в пользу «искусственного пения» – с целью избавить выразительное пение от того психологизма, что стремится проявить себя в экзальтации. Благодаря гибкости голоса и образцовой виртуозности исполнения некоторые певицы, прежде всего Сазерленд и Хорн, а также Кабалье, доказали, что им по плечу использование богатства языка музыкальных форм. Стало быть, в возврате тоже заключен прогресс, по крайней мере в том диалектическом смысле, какой имел в виду Верди, предложив: "Давайте вернемся к старому, это и будет прогресс . Мария Каллас уже сделала свое дело, когда Джоан Сазерленд – в начале пятидесятых годов она пела в Лондоне преимущественно партии лирические и спинтовые – только начал специализироваться в стиле бельканто, если иметь в виду композиторов (и тем самым определенную технику вокала); как выразилась позднее Монтсеррат Кабалье, Каллас «распахнула дверь в terra incognita». Иначе сказать, она задала масштабы новому искусству.
Во время гастрольных концертов, которые привели ее в 1959 года в Мадрид и Барселону, потом в Германию и затем в Амстердам и Брюссель, она находилась в отличной форме. Цитируемые Дэвидом А. Лоу критики отмечали, что периодически проявлялась уже известная нестабильность голоса – в особенности на высоких и самых высоких нотах. После концерта в Мадриде Антонио Фернандес Сид (Эй-Би-Си) отметил «неровный, неприятно жесткий и резкий верхний регистр» и осторженно отозвался об «исполненных следом нисходящих хроматических гаммах, спетых как по учебнику пения». Тут и там раздавались также критические голоса, осуждавшие фальшивый блеск таких гала-концертов и ничем не прикрытую материальную эксплуатацию славы. Кто мог тогда предвидеть, что это тоже было новым знаком и одновременно мостиком, перекинутым к старым временам? При всей идиосинкразии к культу голоса Женни Линд, Аделина Патти, Нелли Мельба, Энрико Карузо тоже давали концерты и материально использовали свою славу. Тот, кто встав в позу критика от культуры, называет это «умением делать деньги», не сознает, что ничто не продается так дешево, как подобная критика. Кто может в современном товарном мире воспрепятствовать артисту или художнику воспользоваться собственной продукцией? Нельзя не согласиться, что духовные творения тоже стали товаром, и это свидетельствует исключительно о невежестве.
17 июня Мария Каллас вернулась в лондонский «Ковент Гарден» и выступила в первом из пяти представлений «Медеи» Керубини под управлением Николы Решиньо; ее партнерами были Фьоренца Коссотто и Джон Викерс. Ирвинг Колодин, специально приехавший на это представление, писал в «Сатер-Деи ривью», что время «относительного ничегонеделания» пошло ей на пользу, потому что ее голос звучал «свежо, приятно и непередаваемо выразительно». Почти точно так же отозвались о ее пении Фрэнк Грэнвилл-Баркер из «Опера Ньюс» и Джордж Луис Майер из «Америкен Рекорд Гайд».
Все царства мира и их великолепие
Сколько времени Вы уже здесь? Десять лет? П стоянно здесь? Почти постоянно? C ' est etonnar ' О, я Вас очень понимаю! И тем не менее я приехал сюда, чтобы похитить Вас, склонить к мимолетной неверности, промчать по воздуху на моем плаще и показать все царства мира и их великолепие, и даже больше – бросить их к Вашим ногам... Простите мне мою помпезную манеру выражаться! Она в самом деле ridiculement exageree в особенности, что касается великолепия.
Томас Манн, «Доктор Фаустус»
21 апреля 1959 года состоялось одно из величайших выступлений Марии Каллас. Оно происходило в парижском «Максиме». Там певица отмечала десятую годовщину бракосочетания с Баттистой Менегини, отмечала ее с большой помпой, граничащей с бахвальством. Хроникеры сообщают о телеграммах со всех концов света, букетах цветов, охапках красных роз, о перечне блюд и приводят ее высказывание: «Я – голос, а он – душа». Спустя ровно два месяца после лондонской премьеры «Медеи» Керубини Онассис пригласил ее на вечер в отель «Дорчестер». Вечеринка не была, как это принято, обычным торжеством после премьеры. Миссис и мистер Аристотель Онассис пригласили пять тысяч гостей, чтобы доставить хозяевам «удовольствие своим присутствием». Среди гостей были Рэндолф Черчилль и Марго Фонтейн, Сесил Битон и Джон Профьюмо, а также чета Менегини-Каллас – и все диву давались, чего только не мог позволить себе этот человек, у которого все, казалось, само собой превращалось в деньги.
Бальный зал «Дорчестера» был выдержан в лиловом цвете и до отказа заполнен розами тоже лилового цвета. Хозяин бала с чрезмерной наигранностью удовлетворял официальные запросы родственного ему по духу общества и, по всей видимости, тайные пожелания Марии Каллас, для которой одной и был устроен этот роскошный праздник. В три часа пополуночи она покинула вечеринку, где ее, естественно, фотографировали то в объятиях мужа, то вместе с Онассисом. Онассис пригласил о их супругов принять участие в летнем "крестовом походе по Средиземному морю на шикарной яхте «Кристина». Биографы сообщают обо всем в подробностях, словно они сами там присутствовали, словно сами слышали те комплименты, словно почувстовали растерянность мужа, оттого что певица, как девочка позволила себе влюбиться в светского льва.
30 июня 1959 года она выступала в последнем из пяти предсавлений «Медеи» на сцене «Ковент Гарден», а появившись 11 и 14 июня в Амстердаме и Брюсселе, она завершила свое концертное турне по Европе. Концерт в Голландии получился необыкновенным, она пела блестяще и с беспримерной музыкальной концентрацией. Арианна Стасинопулос сообщает, что во время празднества Каллас подошла к Питеру Даймонду, директору голландского фестиваля, с просьбой уделить ей внимание для разговора с глазу на глаз. Во время беседы она попросила его задержать ей выплату гонорара. «В ближайшие месяцы в моей жизни произойдут значительные перемены, – якобы сказала она Даймонду. – Это мне подсказывает чутье. Вы многое еще услышите... Пожалуйста, останьтесь моим другом». «Мария, это мелодраматично», – запротестовал он и услышал в ответ: «Нет, нет, это не мелодрама, Питер, а настоящая драма».
В это можно поверить, ибо то, что произошло дальше, укладывается в рамки драмы; 22 июля, объятый мрачными предчувствиями, Менегини прилетел с ней в Монте-Карло и, полный страха, ступил на палубу плавучего дворца; Мария Каллас, с помощью мадам Байки снабженная для плавания потрясающим гардеробом, чувствовала себя, как Алиса в стране чудес. Среди гостей находились Уильям и леди Черчилль вместе с секретарем и личным врачом и глава концерна «Фиат» Умберто Аньелли вместе с супругой; в порту корабль провожал глава княжеского дома Гримальди, монакский князь Ренье, который буквально напичкал судно водоизмещением в1640 тонн венецианскими и византийскими произведениями искусства; в рабочем кабинете владельца судна висела картина Эль Греко, в ванных комнатах были золоченые краны, на яхте имелся плавательный бассейн, выложенный мозаикой, скопированной с мозаики Кносского дворца. Об этом плавании писали много. По сообщению Еллинека судно обслуживали сорок три человека: массажисты и повара, слуги и кельнеры, число которых, в новом изложении эротической одиссеи Арианной Стасинопулос, за двадцать лет возросло до шестидесяти. По Еллинеку – первые дни путешествия были спокойные, по Стасинопулос – тяжелые, поскольку Менегини не владевший ни французским, ни английским языком чувствовал себя изолированным и потому «впал в летаргию». Онассис был всего на девять лет моложе итальянца, но обращался с ним, как с дедом, как с глупым, обманутым стариком из итальянской комической оперы.
7 августа «Кристина» бросила якорь у горы Атос, знаменитой священной горы, издревле являющейся местом паломничства православных греков. На другой день оба семейства, Онасис и Менегини, были приняты патриархом Константинопольским. С присущим южанам красноречием он восславил «величайшую певицу мира» и «величайшего мореплавателя нового времени, нового Одиссея» и поблагодарил их за честь, оказанную ими его родине. Впоследствии Менегини сказал, что стал свидетелем «проявления националистического начала», которое «явно» привело его жену «в возбуждение»; «она уже не была такой, как прежде. А как я мог защитить себя от нового Одиссея?» Очевидно, в певице всколыхнулись чувства, которые она на протяжении десяти лет воспевала на сцене. 8 августа, в Стамбуле, незадолго до праздника в отеле «Хилтон», она призналась мужу, что любит Онассиса их не хочет долее продолжать супружескую жизнь.
17 августа, спустя несколько дней после завершения морского путешествия, в Сирмионе объявился Онассис и, пробыв там три часа, покинул поместье Менегини вместе с Марией Каллас. Певица вернулась в Милан и, по сообщениям ее друзей, безвылазно находилась в своей квартире на Виа Буонаротти. Мадам Байки рассказывала, что Каллас избегала даже самых близких друзей и знакомых, видимо, из чувства стыда. И тут началось то, что Реми метко охарактеризовал «греческим хором»: "Пресса принялась буквально потрошить столь деликатную ситуацию, и любое высказывание, любое объяснение певицы или судовладельца лишь служило вульгарным психологам для составления, как это называется на жаргоне иллюстрированных журналов, «психограммы». «У меня было такое ощущение, будто меня десять лет продержали в клетке, – цитирует певицу Арианна Стасинопулос, – я стала совершенно другой, когда повстречала Аристо». Благодаря этой встрече она стала намного мягче и обходительнее, что также послужило устранению препятствии пути примирения с Антонио Гирингелли, директором мила ской «Ла Скала».
В течение двух лет она записывала свои пластинки исклю тельно в Лондоне. И вот теперь, 5 сентября, ей предстояла новая запись оперы Понкьелли «Джоконда». 2 сентября она отправилась в «Ла Скала» и была вынуждена, как писал Питер Даймонд, спасаться от фотокамер назойливых репортеров. Даймонд выдал себя за «египетского парикмахера певицы, когда выясняли его личность, что ему прекрасно удалось, так-как в одном из журналов незамедлительно появилась цитата “парикмахера мадам Каллас»: «Волосы певицы всегда выглядят ягкими и послушными, когда она поет Виолетту, а когда появляется на сцене в роли Медеи, они курчавятся и топорщатся».
3 сентября 1959 года за ужином в одном из миланских ресторанов Марию Каллас и Онассиса настигли репортеры, тут же не замедлили появиться фотографии, которые облетели весь свет, а вместе с ними расползлись и разные слухи. 4 сентября репортеры взяли в осаду квартиру певицы. По прошествии некоторого времени она объявила, что разрыв с Менегини решен, однако он никак не связан с путешествием на «Кристине». «Разводом занимаются адвокаты и скоро дадут объяснение. Отныне я сама являюсь своим менеджером. Я прошу понимания в этой болезненной для меня ситуации... Меня и господина Онассиса связывает исключительно большая и довольно давняя дружба. Я поддерживаю с ним сугубо деловые отношения. Я получила предложения от Оперы в Монте-Карло, помимо этого я планирую сниматься в фильме». В тот же день, 8 сентября 1959 года, в кольцо репортеров в Венеции попал Онассис. Он заявил: «Естественно, мне польстило, да и как могло быть иначе, что женщина такого ранга, как Мария Каллас, могла влюбиться в человека вроде меня. А кто бы на это не клюнул?»
Каждое из этих высказываний было положено на чашу весов моральных и псевдо-психологических суждений и предубеждений, на каждое был дан ответ с привкусом обиды. Парвеню из Смирны, стяжавший сказочный успех, но пожелавший утвердить свое "я" за счет славы великой дивы. Певица с колоссальным комплексом неполноценности и долго подавляемым странным желанием любить. Обманутый и глубоко потрясенный муж, поначалу сдержанно, а затем с все большим ожесточением а забрасывавший прессу статьями. «Каллас – мое творение... она была жирной, безвкусно одетой женщиной, бедной, как церковная мышь, когда я повстречал ее. Теперь же мне приходится выслушивать, что я ее эксплуатировал... Да у нее вообще ничего не было за душой. А теперь я должен отдать ей половину нашего состояния».