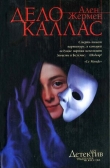Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Исполнение Каллас имеет выдающееся значение не в позднюю очередь за счет того, что драматическая акцентировка не мешает точному оформлению вокальной линии и «формул», нашим ушам представляется драматизированное пение бельканто, основой которому служит беспримерная певческая виртуозность. Все остальные исполнительницы этой партии уступают Каллас не только в разнообразии выразительных средств но и в техническом и стилевом отношениях. Карл Бём называл' Элизабет Хёнген, певшую Леди Макбет под его управлением «величайшей трагической актрисой мира». Запись не подтверждает этого суждения, поскольку Хёнген не в состоянии передать многообразие форм вердиевской музыки посредством вокальной нюансировки. Ни она, ни Ширли Верретт, ни Фьоренца Коссотто в этом отношении не могут сравниться с Каллас: удивительно, почему форсированные, резкие и жесткие тона Коссотто никогда не становились предметом критики. Еше важнее виртуозности умение Каллас наполнить каждую фразу, каждое междометие, каждый диалогический оттенок смыслом, напряжением и драматизмом: даже наместник Шекспира на земле, сэр Лоуренс Оливье, в этом отношении не смог бы сыграть выразительнее.
Уровень исполнения заключается во взаимном дополнении деталей. Это кажется трюизмом. И все же так редки роли, великолепные в каждой детали. Не только в арии, но прежде всего в речитативе и подобных ему диалогических пассажах звук должен опираться на слово, певец должен отказаться от вокальных эффектов, от него требуется сценическое воображение. Второй акт «Макбета», в котором реально совершенные действия (к примеру, убийство короля) находят отражение в мыслях и безумных видениях главных героев, может обрести сценическое дыхание лишь при условии того, что диалоги и речитативы драматически убедительны.
Уже финал первого акта в исполнении Каллас превращается в психологический этюд с бесконечно тонкой нюансировкой текста и окраской звука. Не менее выразительно звучит в ее устах ария «La luce langue», где задумчиво-скептические интонации чередуются с истерически-агрессивными: здесь и вопрошающе-беспокойное «Nuovo delitto» («новое злодеяние»), и решительно-страстное «ё necessario!» («необходимо!»). Так же тщательно разработаны контрасты застольной песни, существующей словно бы на двух амбивалентных уровнях языка и смысла: это и застольное приветствие гостей, и скрытое предупреждение Макбету.
Хуже удалась певице сцена ночного блуждания – в этом мнении сходятся Ардойн, Гамильтон и другие исследователи. В ней маловато весомости, драматических контрастов, она начинает в слишком быстром темпе; позже, уже под руководством Решиньо, Каллас исполнила эту сцену пусть и не столь блестяще в окальном отношении, зато более выразительно, что удалось ей благодаря идеальному оформлению многочисленных речитативных вставок. Однако этот недостаток, очевидный в записи, прошел незамеченным в спектакле, ставшем для Каллас своего рода вступлением на престол.
Возникновение легенды, или Вторая жизнь
«Не станет ли это диалогом с вечностью?». Столь патетически выразился Эмиль Берлингер, представляя общественности свое изобретение – грампластинку. С этим изобретением «поиски утраченного времени» в музыке обрели новое измерение. Музыкальное исполнение, привязанное к конкретному времени и пространству, отныне могло быть опосредовано и увековечено. Для исполнителей это означало что-то вроде второй жизни. Карузо, который, по словам Фреда Гайзберга, «сотворил» грампластинку, стал первым человеком, чье творчество постепенно обособилось от телесного присутствия, обеспечив ему жизнь в веках. Марии Каллас, родившейся полвека спустя, представился шанс использовать это техническое средство в новых целях: она сумела спасти оперу как эстетическое, драматическое построение, перенеся ее в «музей воображаемых экспонатов» (Андре Мальро) – на пластинку. Там – возвышение Карузо и эмансипация грампластинки, здесь – появление Марии Каллас и эра долгоиграющей пластинки. Случайны ли эти совпадения?
Нельзя усомниться, что Вальтер Легге с самого начала увидел в Марии Каллас идеальную протагонистку «воображаемого театра . Из его мемуаров следует не только то, что он путем бескомпромиссного отбора выискивал лучших исполнителей, но и то, что записи он ставил на службу их карьере, а заодно и своей Фирме. Студийные записи „Лючии ди Ламмермур“ Доницетти, ''Пуритан» Беллини и «Тоски» Пуччини с Каллас в главных ролях стали первыми пластинками американской фирмы 'Angel", Два сольных концерта 1954 года, один из которых состоял целиком из пуччиниевского репертуара, а другой из колоратурных арий, были призваны прославить Каллас по всему миру как универсальную певицу. То обстоятельство, что Каллас записывала арии из опер, которых больше не пела, и из опер, которых на сцене не пела вообще никогда, ничего не изменяет: ведь вторая жизнь исполнителя неразрывно связана с вымыслом, фикцией, условностью (да и кто сказал, что Каллас не могла бы петь Мими или Манон на сцене?).
Обоснованна ли эта мысль? Можно ли отрицать, что музыкальное исполнение произведения самоценно и уравнено в правах со сценической постановкой? И можно ли утверждать это, зная, что многие исполнители, справляющиеся с той или иной партией благодаря достижениям техники, ни за что не смогли бы исполнить ее на сиене? Эти и подобные им вопросы следовало бы осветить в работе, посвященной эстетике грампластинки, но в контексте творчества Каллас они теряют смысл, поскольку «живые» записи свидетельствуют о том, что она не пела в студии ничего из того, что не осилила бы на сцене. Большинство ее записей связано с операми и ролями, уже принявшими театральное крещение.
Это относится и к «Джоконде», записанной в 1952 году для компании «Cetra», и к «Лючии» EMI 1953 года. Правда, Лючию она до этого пела всего семь раз (три раза в Мехико и четыре во Флоренции), однако даже дюжина постановок не произвела бы такого эффекта, как посланные Вальтером Легге Герберту фон Караяну фрагменты записи. Дирижер моментально решил, что опера должна быть поставлена в «Ла Скала», и наивен тот, кто подумает, будто Мария Каллас убедила дирижера в выдающихся достоинствах самого произведения! Караян просто понимал, что качество постановки любой оперы напрямую зависит от уровня исполнителей. Тот факт, что в записи дирижировал Серафин, открыл опере двери «'Ла Скала», а слава этого театра, в свою очередь, сделала возможным «экспорт» постановки в Берлин и Вену; не будь успеха в этих городах, не было бы и дебюта Каллас в «Метрополитен Опера». Одним словом, Легге не только проявил себя как художественный продюсер, но и сыграл роль одного из главных зодчих карьеры Каллас – роль, достойную всяческого восхищения.
Многие деятели искусства, работавшие с Легге, вспоминали зачастую изводящее (хотя и неизменно благожелательное) внимание, с которым продюсер изучал работы своих подопечных. Один из его девизов гласил: «Мне кажется, что вы способны на большее». Его суждения были столь уверенны и независимы, он мог позволить себе поправлять даже Вильгельма Фуртвенглера, Герберта фон Караяна, Отто Клемперера или Дитриха Фишер-Дискау– и даже Каллас. Короче говоря, людей, поко-вшихся чужим указаниям только в том случае, если отказ уг-гуожал потерей новых возможностей в работе. Вспомним слова Теодора В.Адорно, что в эру технического воспроизведения никакой технический прогресс не заменит творца и одно должно дополнять другое. Но в практике «культурной индустрии» удачное совмещение художественного таланта и технического прогресса удается крайне редко, и то, что Легге сорок лет назад сумел добиться этого, оправдывает титул «технического художника», как его часто называют.
Шесть лет подряд Мария Каллас производила сенсации в оперном мире; с 1953 года она добивалась сенсаций через вид искусства, почти забытый в современном ей мире. В феврале 1953 года она записала «Лючию ди Ламмермур» под управлением Туллио Серафина, в марте – «Пуритан» Беллини, а в августе – «Тоску»; кроме того, в сентябре на студии «Cetra» осуществилась запись «Травиаты» Верди. Именно эти записи сделали ее славу, дотоле бытовавшую в узком кругу посвященных, всемирным достоянием. Интерес к певице вышел далеко за пределы крута специалистов: такого внимания удостаивались до того разве что кинозвезды.
В промежутке между 1953 и 1960 годами Мария Каллас ежегодно записывала минимум две, а то и четыре оперы, не считая полудюжины концертов. Это значит, что общественность узнала об ее существовании только осенью 1953 года.
Необходимо помнить, что «пиратские» пластинки начали пользоваться широкой популярностью лишь в начале 70-х годов, когда певица уже давно ушла со сцены. Книга Джона Ардойна «Наследие Каллас», вышедшая в свет в год смерти певицы – 1977-й, – раскрыла значение певицы уже задним числом. Важно и то, что первые долгоиграющие певческие пластинки в 5О-е годы выходили тиражом в какие-то несколько тысяч экземпляров. Общественная перспектива изменилась лишь тогда, когда художественный феномен Каллас затмился навязанным ей скандальным имиджем тигрицы, то есть где-то в 1956 году. после дебюта в нью-йоркской «Метрополитен Опера», записи 1953 года свидетельствуют о достойных восхищения цельности и профессионализме, который, однако, основывается не на верности произведению в филологическом смысле а на драматическом, театральном следовании его исполнитель' ской традиции: с точки зрения формы оно играется в соответст вии с театральной практикой своего времени. Поскольку большинство композиторов, включая Верди, являлись театральными практиками и в какой-то мере приспосабливали свои оперы к конкретным постановкам, можно утверждать, что некоторая театральная вольность в обращении с их операми никоим образом не гневила создателей. Другими словами, установка на точность воспроизведения партитуры, на аутентичность говорит скорее не об уважении к произведению, а о раболепии.
Приведем конкретный пример. Запись «Лючии ди Ламмермур», при помоши которой Марии Каллас удалось актуализировать эту оперу, совсем не так корректна, не так полна, не так аутентична, как постановка с участием Беверли Силлз. Только вот кого интересует эта корректная постановка? Кто придает большое значение тому, звучит ли в сцене безумия Лючии стеклянная гармоника, включенная Доницетти в партитуру? Не скрывается ли за ссылкой на эту полноту и точность, никогда не игравшую особенной роли в театральной практике (даже для Тосканини), признание, что Лючия Беверли Силлз или Монтсеррат Кабалье просто-напросто оставляет нас равнодушными? Нет, именно к калласовскому исполнению мы возвращаемся снова и снова, именно через него проникаем в суть произведения. Точнее говоря, через несколько ее исполнений: ведь существуют две студийные записи оперы и шесть «живых». Ее исполнение заглавной партии стало сенсацией благодаря студийной записи. Менее чем через год после флорентийской записи «Лючия ди Ламмермур» была поставлена в «Ла Скала» под управлением Герберта фон Караяна; он же «перевез» спектакль в Берлин и Вену. Тот факт, что она пела Лючию также в Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке и что эти спектакли вызывали в обществе чуть ли не истерию, говорит не только о том, что Лючия была одной из главных ролей Каллас: эта партия стала чем-то вроде символа ее славы, которую, в свою очередь, породила пластинка.
Джон Ардойн признавался, что, если бы ему разрешили захватить с собой на необитаемый остров одну-единственну пластинку, он взял бы берлинскую «живую» запись «Лючии ди Ламмермур» под управлением фон Караяна. Он же назвал флорентийскую пластинку наиболее удовлетворительным достижением звукозаписи и «гордостью эры долгоиграющих пластинок». Дэвид А.Лоу тоже отдает берлинской записи предпочтение причисляя ее к лучшим записям Каллас; он цитирует слова Десмонда Шоу-Тейлора, сказанные после берлинской премьеры «Осмелюсь сказать, что она никогда не будет петь лучше, чем поет сейчас». Тем самым критик, сам того не осознавая, признает непревзойденность совершенства и, быть может, намекнул, что в этот вечер пение Каллас было уже не таким уверенным и впечатляющим, как в былые дни.
Значит, первенство принадлежит все же первой «Лючии», где дирижировал Серафин. Примечательны прежде всего изменения в вокале и в певческой манере. Верхние ноты больше не напоминают прыжки «дикой кошки»: напротив, даже самые вершины здесь вплетены в линию или вносят последний штрих в кабалетту. Чувствуется, что певице уже не важны внешние эффекты. Большая цельность и выдержанность голоса – регистры лучше состыкованны, и все же каждый из них сохраняет неповторимую звуковую характеристику – создает чудесную гармоническую плавность пения: «Quando rapito» и особенно дуэт «Verranno a te» струятся превосходным легато, а звучание насыщено божественной пряной сладостью. Пение ди Стефано, глухо окрашенное, чрезвычайно эффектно и притягательно, но лишено шлифовки, отличающей романтический тенор бельканто. Такой тип голоса присущ Лучано Паваротти, но и ему в сцене у гроба не хватает изящества Франческо Маркони или Джона Маккормака. Верхние ноты ди Стефано словно бы подернуты дымкой, поскольку грудной регистр загоняется на чрезмерную высоту.
В сцене сомнамбулизма Мария Катлас средствами виртуозною вокала обнаруживает внутренний смысл музыки. Как и во всех по-настоящему великих постановках, время будто бы замирает, вернее, сценическое время подменяет собой реальное. Подобно Шекспиру, умевшему в первой же фразе задать пространство, настроение и атмосферу пьесы (к примеру, в «Буре»: Boatswain! – Here master: what cheer? – " Боцман! Здесь я. Что велишь, капитан? (англ.) – Перевод О.Сороки), певица окрашивает первые фразы арии сумрачной меланхолией, отчужденностью от мира. Легато блестящего скрипача и то не могло бы быть совершенней. Фраза «Ohime', sorge il tremendo fantasma» заключает в себе целое театральное действо; то же можно сказать и о тоскливом «Alfin sei tua». Эмоциональное содержание гласных невиданной силой проступает в звучании, окрашенном бесконечной болью. Ардойн называет это «agonizing beauty», умирающей красотой; по словам Андре Жида, из всех мелодий красивее всего самые печальные. Кто скажет, что в каденции время от времени проскакивает жесткая и резковатая нота, должно быть предпочитает монотонный вокал.
Отвлечемся на время от хронологии и обратимся к берлинскому спектаклю под руководством Герберта фон Караяна (существует и запись из «Ла Скала», прокомментированная Ардойном). Его так привыкли считать образцовым, что хочется процитировать критическое высказывание Майкла Скотта: «Услышав ее в Далласе, в 1959 году, я понял: от голоса ее осталась лишь тень. В первый раз она пела Лючию семь лет назад, а в 1955 году, в Берлине, где она выступала с ансамблем „Ла Скала“ под управлением Герберта фон Караяна, голос звучал утомленно и чересчур осторожно, как если бы она только разучивала партию''. Голос стал блеклым и дрожащим (wan and wavery); в секстете она не могла чисто и уверенно держать повторяющиеся высокие ля бемоль, а в конце первой части сцены безумия была вынуждена пропустить открытое интерполированное ми бемоль. Манера Караяна не выдержанна стилистически, но для „Лючии“ надобен не великий дирижер, а великая певица. Каким бы абсурдным и противоречащим всем общепринятым представлениям это ни показалось, но Каллас-Лючии был нужен кто-то, кто был бы способен следовать ей и держать ансамбль. Доказательство – радиотрансляция из Мехико от 14 июня 1952 года, когда дирижировал Гвидо Пикко: тогда звучание Каллас еще было удивительно весомым, фразировка – свободной, украшенные фразы – плавными и бесстрашными, а исполнение таким филигранным, какого мир не слыхивал со времен Нелли Мельба. В финале, на кульминационном верхнем ми бемоль, мексиканская публика сама устроила сцену безумия».
Возможно ли, что почитатели берлинской постановки преувеличивают ее значение, поскольку отчаянно хотят слышать в чудесном, музыкальном вокальном усилии красивое пение, если это и так, то феномен Каллас лишь возрастает оттого, что ее мастерство заставляло забыть о голосе.
Вслушаемся же в запись. Вокальная тема в «Regnava del si zio» плавно струится, мягко и меланхолически окрашена, однако ей не хватает насыщенности. Пассажи и гаммы в «Quando rapiito» выпеваются чисто, но без виртуозного огня, а высокое ре в финале кабалетты звучит плоско. Даже чарующее mezza voce, пение вполголоса, которым начинается «Verranno a te», кажется знаком ограниченности вокальных возможностей. Великие моменты появляются в дуэте с Роландо Панераи (Энрико): посредством звуковой нюансировки певица тонко выделяет восклицания и эмоциональные оттенки. Сцена безумия окрашена в пастельные тона, с четким акцентом на словах «il fantasma» и «alfin sei tua». Недостаточная интенсивность звучания, вероятно, связана с медленным, симфоническим темпом, выбранным дирижером и заставляющим ее экономить дыхание. Как всегда, превосходно ее «pacing» (чувство ритма) – внутривокальное напряжение, сохраняющееся даже в бесконечно длящихся фразах. Си бемоль, повторяющиеся на приеме стаккато, звучат несколько неуверенно. Первое ми бемоль она пропускает, а под конец вкладывает весь остаток сил в эту долгожданную ноту.
Великий спектакль? Более того: один из самых грандиозных за всю карьеру Каллас. И в то же время в нем ясно чувствуется борьба за голос, с голосом, пусть даже певица и одерживает победу. Спектакль, подтверждающий слова Вагнера о дивном искусстве дыхания, отменяющем вопрос о самом голосе.
В записи сохранились и другие постановки. Одна из них, превосходная, – неаполитанская, под управлением Франческо Молинари-Праделли и с участием молодого великолепного Джанни Раймонди; другая, менее удачная в силу крайне неуверенного звучания голоса Каллас, – нью-йоркская, сделанная в год дебюта Каллас в «Метрополитен Опера»; римский спектакль 1957 года под управлением Туллио Серафина, который вряд ли лучше нью-йоркского, и, наконец, вторая студийная запись, значительно уступающая первой, не в последнюю очередь из-за иного певческого состава.
Второй записью, сделанной для компании EMI, стали "Пуритане ' Беллини с Джузеппе ди Стефано, Роландо Панераи и Николой Росси-Лемени в качестве партнеров и Туллио Серафин – за пультом. Она осуществилась в конце марта 1953 года, но вышла в США раньше, чем «Лючия ди Ламмермур», поскольку Легге хотел сделать лучшую, с его точки зрения, запись своего рода визитной карточкой Каллас и нового лейбла «Angel». Хотя поздняя опера Беллини (если можно говорить о позднем творчестве столь рано умершего композитора) – совершенный образец «певческой оперы», в ней театральная фантазия Каллас не могла развернуться так полно, как в «Лючии», поскольку партия Эльвиры одномерна в драматическом отношении. К тому же, Джузеппе ди Стефано, прекрасно певший Эдгара, встретился с огромными трудностями в партии Артура, написанной для высокого, подвижного голоса романтического тенора Рубини в убийственной тесситуре. Эта партия куда больше подошла бы молодому Николаю Гедде, который впервые спел ее лишь в 1973 году. Легендарное рубиниевское фа он берет неплохо, но с ощутимым усилием, а голос звучит сухо и безжизненно. Лучано Паваротти поет эту ноту фальцетом, но у него хорошие ре бемоль правильное, немного узко сфокусированное звучание и натужное пиано. Альфредо Краус, романтический тенор, как и Паваротти, в техническом отношении увереннее, а в звуковом однообразнее, причем независимо от дирижера.
Напор ди Стефано не заменяет вокального изящества, тем более что Каллас поет свою Эльвиру со всей тонкостью мастерства. Она показывает, как выразительность может рождаться из простого развития и нюансировки темы, в полонезе демонстрирует нисходящие хроматические пассажи фантастической гибкости и повторяет раннее мастерское исполнение «Qui la voce» с той лишь разницей, что голос теперь звучит тише и несколько смещен вперед.
«Тоска», или Технический шедевр
Уже первые студийные записи Каллас, включая «Тоску» Пуччини, обнаружили, наверное, главный талант певицы – способность раскрыть смысл и эмоциональную окраску слова через звук, причем это касается не только речитативов или фраз, осмысляемых просодически. Многие певцы (к примеру, Джоан Сазерленд) поют так, что текст можно понять, только зная наизусть или читая по бумажке; в обратном случае он проходит мимо ушей, как незнакомая речь. Мария Каллас же умеет так произнести слово или фразу, что любой человек, даже не зная данного языка, поймет их смысл.
Искусность имеет гораздо большее значение в веристской музыке, чем в итальянском классицизме и романтизме. В операх Россини и Беллини, Доницетти и молодого Верди экспрессия заложена, как правило, в звуковых модуляциях. Пусть даже Россини и требовал драматически-пламенных колоратур и логичных трелей, а Доницетти или Верди – четких акцентов, их выразительные средства все же оставались чисто музыкальными. Веристские же композиторы не приспосабливали слово к звуку, а музыкализировали речь. Мария Каллас, вокальная техника которой брала истоки в бельканто, смогла стать выдающейся исполнительницей веристского репертуара, потому что пыталась, насколько это возможно, справляться с риторикой и экзальтацией веризма певческими средствами. В этом ей помогала вышеупомянутая способность передать как смысл, так и эмоциональную окраску слова. Даже когда от ее голоса осталась одна лишь тень, она все еще могла петь Тоску.
В записи «Тоски» под управлением Виктора де Сабата, инициированной все тем же Вальтером Легге и стоящей особняком в ряду других записей, Марии Каллас удался грандиозный симбиоз пения, служащего исключительно выразительности, и выразительности, остающейся чистой воды пением. Она синтезирует самые разные категории – экспрессию без экзальтации, сладость без сентиментальности, мастерство без головного расчета, спонтанность без спешки. Ее Тоска вылита из единого металла и, таким образом, представляет собой нечто большее, чем простую сумму деталей, как и любое значительное художественное достижение. В ее исполнении есть поистине великие детали. Уже в трех призывах к Марио, исполненных волнения и напряжения, нетерпения и страха, образ Тоски проявляется с яркой силой. Дуэт Тоски и Каварадосси напоминает допрос, устроенный подозрениями и обостренным чутьем ревности; он разыгрывается обоими героями на двух языковых, смысловых и эмоциональных уровнях. Она спрашивает – он уклоняется от ответа; она напирает – он умиротворяет; она медлит – он готов примириться; она оскорблена – он льстит; она кокетничает -он внимателен к ней; она льстит – он заигрывает; она манит и она же бранит. Конкретный пример: Каллас стоит перед изображением белокурой мадонны и вдруг вскрикивает, внезапно осознав ее сходство с синьорой Аттаванти. «Плача» (так в ремарке), она спрашивает, любит ли он ту, – но Каллас не рыдает. Она угрожает Каварадосси, заново разглядывает картину, смотрит в глаза мнимой сопернице. В ответ на это художник «с большим выражением» и «великодушно» запевает кантилену, «нежно» улещивает ее, а Тоска, «тронутая, склонив голову на плечо Каварадосси» (ремарка), поет «нежно, но прочувствованно и выразительно»: «О come la sai bene l'arte di farti amare» («О, как ты искусен в лести»). С точки зрения текста эта фраза, как и весь диалог двусмысленна. Текст говорит: «Ты льстец и лицемер», а музыка' «Я хочу тебе верить». Каллас произносит текст и сопровождает его звучанием, не опровергающим, а дополняющим его смысл Шницлер говорил, что в любви любая ложь мгновенно распознается и все-таки принимается на веру. Каллас поет это. В звучании ее голоса прямо-таки физически чувствуется любовный дурман Тоски, и оно внезапно становится таким дурманяще-прекрасным, как и не снилось Тебальди, Миланов, Прайс или Кабалье.
Второй пример: Тоска, все еще ревнуя, возвращается в церковь и натыкается на Скарпья. Трудно найти слова, чтобы описать игру Тито Гобби. Он единственный из всех партнеров Каллас был в любом отношении конгениален ей – не столько как певец, сколько как актер. Диалог Тоски и Каварадосси повторяется навыворот: теперь допрос ведет начальник полиции, демагог и преступник. Скарпья превращает ее ревность в орудие. «Плача» (ремарка), Тоска покидает церковь и «с большим выражением» поет: «Бог мне простит, ибо видит, как я страдаю». Над последней фразой значится: «Тонет в слезах».
Плачет ли Тоска в этом месте? Или она должна петь так, как будто плачет? Другими словами: что мы хотим и должны увидеть на сцене – тривиальные натуралистические рыдания или вокальный прием, от которого у нас самих наворачиваются на глаза слезы? В обычном, заурядном, рутинном спектакле или записи лишенная фантазии среднестатистическая дива наверняка разрыдается, как базарная торговка. Или как Рената Тебальди. Каллас не рыдает. Но то, как она поет «io piango» («я плачу»), как наполняет ноту – ноту! – слезами, заставляет слушателя почувствовать боль героини.
Она остается героиней и в тот момент, когда большинство исполнительниц Тоски превращаются в певиц, – в арии ''Vissi d'arte". В последних фразах мелодико-эмоциональная кривая нарастает «сильным крещендо» и оканчивается на си бемоль. Цезура. Затем новое вступление на ля бемоль, соль, падение октаву вниз и заключительная строфа. Монтсеррат Кабалье выпускает цезуру ради вокального и звукового эффекта – выпускает логику текста и музыки. Каллас сохраняет цезуру, спускает-октаву – и поет всхлип, почти неслышный, поет его как спонтанное изъявление чувства, а не как театральный жест, опыт и чутье автора показывают, что лишь одна-единственная певица была способна подобным образом объединить мастерство и эмоцию – Лотта Леман.
Вапьтер Легге рассказывал, сколько времени ушло на то, чтобы совладать с последней фразой второго акта, отточить ее и повести до совершенства. Тоска берет у убитого Скарпья письмо, якобы призванное спасти Каварадосси, но не уходит сразу, медлит у трупа, берет со стола свечи и ставит их рядом с ним. И говорит-поет-вздыхает: «А ведь когда-то перед ним дрожал весь Рим!»– Фраза состоит из одиннадцати нот – шестнадцатых и восьмых долей. Она находится в тональности до диез мажор, то есть ее нужно говорить. Она странным образом патетична, достоверна и недостоверна одновременно, потому что актриса в конкретной, жизненной, экзистенциальной ситуации должна не впадать в пафос, не играть страдание, а жить. Каллас делает и то, и другое: и играет сцену, и живет в ней. Но, Боже мой, кто заметит разницу!
Слезы, порожденные разумом
По сравнению с «Мадам Баттерфляй» или «Богемой» Пуччини, не говоря уж о вердиевских «Бале-маскараде» или «Отелло», ''Сельская честь" Пьетро Масканьи – всего лишь шлягер, ремесленное произведение. Одаренная актриса может сделать из Тоски, Федоры, Адриенны образы, которые придутся по вкусу массовой публике. Для этого нужно лишь сублимировать грубые «ли анахроничные страсти, перевести их в пласт наивности и в тоже время манерности. Однако к Сантуцце этот прием неприменим. Начиная с Джеммы Беллинчони, первой исполнительны этой партии, почти все итальянские сопрано – и многие меццо записывали эту партию (или, по крайней мере, арию ''Io sapete»), требующую, как и большинство веристских опер– ''полнозвучного пения" -довольно смутная, хоть и понятная метафора.
Описывая в своем разделе дискографии добрую дюжину постановок ''Сельскои чести", Чарлз Осборн пользуется весьма ограниченным набором прилагательных: «очень эффектно», «драматично», «трогательно», «характерно» («Опера в записи»). Странное дело: исполнение веристской музыки оценивается не в эстетических категориях, а в категориях субъективного ощущения.
Лина Бруна Раза (в постановке с ее участием дирижировал сам Масканьи), Джульетта Симионато, Рената Тебальди, Виктория де лос Анхелес – все они поют Сантуццу эффектно, драматично и более или менее красиво. Но ни в одной постановке не возникает своего рода трагического величия. Конечно, это определение не всегда применимо к веристской опере. Однако если «Пуритане» Беллини замешаны на «квинтэссенции меланхолии» (Джон Ардойн о калласовском исполнении), то «Сельская честь» проникнута страданием. Я, в отличие от Ардойна, придерживаюсь мнения, что партия Сантуццы в драматическом отношении не столь одномерна, как ее обычно трактуют (вернее, рыдают или выкрикивают).
Драматическая фантазия Каллас находит другой путь, нежели экзальтация. Только раз или два она позволяет эмоциям вырваться наружу – на словах «l'amai» и «io piango», – но оба раза полностью контролирует голос и жесты и, как и в «Тоске», не дает себе сорваться в рыдания, которые, как правило, производят нелепый или смешной эффект. Как ни в одной другой записи, богат тонкими оттенками выразительности дуэт с Туридду: вначале – холодная дистанцированность, за которой бушуют чувства, прорывающиеся наружу во фразе «Battimi, insultami»; а какой возвышенный пафос, глубокий, глухой призвук страдания во фразе «No, no Turiddu», которую она выводит в технике бел-линиевского бельканто. Хочу сказать, что она и здесь делает источником выразительности развитие, окраску, нюансировку вокальной линии. Еще очевиднее ее драматический талант проявляет себя в дуэте с Альфио, где слезы, риторика и ранимость сливаются в едином звуке.
Хочется снова отойти от хронологии и обратиться к оперному «близнецу» «Сельской чести» – «Паяцам» Руджеро Леонкавалло. Партию Сантуццы Каллас пела на сцене только в афинский период, Недды – вообще никогда не пела. «Паяцы» не без оснований считаются оперой тенора, однако из записи под управлением блистательного Туллио Серафина следует, что и Нед-ду нельзя сводить к схематической фигуре. У нее есть характер, причем небезопасный. Лишь в очень немногих постановках так показано, что супружеская драма имеет свою предысторию. Ясно, что ревность Канио не беспочвенна. Баллателла Недды не должна разрушать этот настрой. Образ молодой женщины должен обрести объем, а сочетание жизнелюбия и легкомыслия, с которым она смеется над любыми предостережениями, стать пружиной действия. Дуэт с Тонио полон той же подавляющей энергии, что и все остальные драматические поединки с Тито Гобби в «Тоске», «Бале-маскараде», «Аиде». В следующем за ним дуэте Недды и Сильвио мы снова слышим, как дурманяще-прекрасно умеет петь Каллас. Прекрасно с точки зрения не только драматической верности, но и звуковой насыщенности. Какая другая Недда обращала к своему Сильвио столь блаженное, счастливое, страстное пение, как Каллас – к Роландо Панераи? Оба партнера не выражают в своем пении страсть, как это обычно бывает: она сама становится звуком и образом.