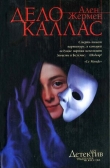Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Она была и есть та, что не просто пела партии, но жила на острие бритвы и заставляла слушателей леденеть, страдать и содрогаться. Джулини: «Мастерство, с которым Каллас в первом акте изображала капризную страсть куртизанки к наслаждениям и развлечениям, делало ее превращение в любящую женщину во втором акте еще более трогательным. Этот эмоциональный контраст был именно тем, что мы – Мария, Лукино и я -так долго искали. Используя все доступные ей средства вокальной, музыкальной и драматической выразительности, Каллас все глубже раскрывала способность Виолетты полностью забываться, растворяться в другом человеке, вплоть до того, чтобы пожертвовать собой и отказаться от единственной любви, которую ей дано было узнать. Невероятно, как Каллас удавалось выразить в одной-единственной арии всевозможные оттенки чувства и настроения. Это слышали зрители, и мы до сих пор слышим, как она восклицает: „Ah! Dite alia giovine“, – нет, не восклицает, а шепчет, и голос ее умирает и страдает и обращается вовнутрь и все же наполняет весь театр. И мы видим ее перед собой, как воплощение скорби и отчаяния».
Висконти: «В этот момент Виолетта все равно что мертва. Сидя за столом, она не делала ничего, чего бы мы ни отработали на репетициях: как она должна плакать, как поднимать брови, как окунать перо в чернильницу, как держать руку при написании письма – все это было тщательно отрепетировано. Никакого пения, только мимическая игра, сопровождаемая оркестром. Глядя на нее в этой сцене, публика плакала». И все вокруг нее исчезало, оставалась только она одна, как рассказывал критик Пьеро Този. Когда в последнем акте занавес открывался и грузчики выносили мебель Виолетты на продажу, она представала перед нами измученной, отмеченной печатью смерти, по словам Този, «как труп, как кукла из музея восковых фигур, уже больше не человеческое существо, и пела не голосом, а тенью голоса, такого слабого, такого больного, такого душераздирающего, с трудом ташилась к трюмо, на котором находила письмо Жермона, и пела „Addio del passato“....H тогда в окне появлялись огни карнавала, по стене ползли тени веселящихся. Жизнь превращалась для Виолетты в мир теней... В каждом жесте Каллас таилась смерть. Даже в блаженную минуту свидания с Альфредом она почти не могла двигаться, до того устала и ослабела... После дуэта влюбленных, где они поют о своей мечте жить счастливо вдали от городской суеты – „Parigi, о сага“, – Виолетту охватывало отчаянное желание бежать из этого склепа; она звала служанку и мучительно пыталась одеться. Перчатки не натягивались, потому что ее пальцы застыли, свидетельствуя о приближающейся смерти. Лишь в эту минуту Виолетта понимала, что надежды нет, и испускала душераздирающий крик: „Великий боже! Умереть так рано!..“. В сцену смерти Каллас вложила весь свой гений. Смирившись наконец со своей участью и передав Альфреду медальон со своим портретом, Виолетта произносила знаменитые заключительные слова. С сияющей улыбкой она объявляла Альфреду, что боли прекратились, что к ней возвращаются силы, пробуждая ее к новой жизни, и умирала со словами „О радость!“, огромные глаза невидящим взглядом обращались к публике, и занавес падал, скрывая этот мертвый взгляд. Несколько секунд ужас и боль Альфреда ощущала публика – она ощущала и приход смерти».
Такие постановки были еще возможны в 50-е годы, особенно в «Ла Скала», где она 7 декабря 1955 года пела свою незабываемую, лучшую из Норм, 14 апреля 1957 года, при драматических обстоятельствах, – Анну Болейн в опере Доницетти, 7 декабря 1957 года – «Бал-маскарад» Верди, а 7 декабря 1960 года -"Полиевкта" Доницетти. Но такие постановки были уже невозможны, когда в 1956 году она наконец-то появилась в «Метрополитен Опера» и оказалась вынуждена играть свои детально разработанные роли в балаганных представлениях. Как пишет Ирвинг Колодин в «Истории „Метрополитен Опера“», ее роли оставались все столь же драматически убедительными, но «никуда было не деться от небрежных постановок, раздражавших все больше и больше». Здесь у Каллас не осталось и того, что в Милане разумелось само собой, – достаточного количества репетиций.
Так же дело обстояло и со студийными записями. После длительных и утомительных переговоров, закончившихся заключением певицей 21 июля 1952 года контракта с фирмой EMI, Вальтер Легге смог наконец выдохнуть: «Каллас наконец-то моя!» – и начать записи в 1953 году. Он рассказывает: "Наши первые записи были сделаны во Флоренции после ряда представлений «Лючии». Зал, подобранный с этой целью нашей итальянской дочерней компанией, оказался решительно непригодным в смысле акустики. Я решил сделать пробную запись «Non mi dir» ( Ария Донны Анны из оперы Моцарта «Дон Жуан».) с Каллас, чтобы, во-первых, морально подготовиться к работе с ней и выяснить, как она относится к критике, а во-вторых, чтобы найти положение, которое обеспечило бы более или менее приличное звучание. Она приняла это предложение беспрекословно. В ней я нашел идеального партнера, который так же стремился доказать и усовершенствовать свое мастерство, как и все великие художники, с которыми мне доводилось работать (десятью годами позже мы потратили большую часть из трех часов, проведенных в студии, повторяя последние такты филигранной арии из «Фауста», чтобы достойно завершить запись). Мы отложили выход в свет этой «Лючии» и через несколько недель записали «Пуритан»: первые пластинки Каллас, сделанные компанией «Angel», просто обязаны были стать сенсацией – и ради нее самой, и чтобы подтвердить качество продукции «Angel». Это должно было сперва утвердиться в сознании. Кроме того, запись «Пуритан» была первым плодом сотрудничества ЕМI с театром «Ла Скала», хотя сделана она была в одной из миланских базилик".
То, что описывает продюсер, – это способ раскручивания карьеры, однако с помощью средств искусства, а не рекламы и маркетинга. Его отчет о записи «Тоски» Пуччини (10-21 августа 1953 г.) говорит о том, что все участники проекта стремились воплотить на пленке идеальный спектакль. Легге пишет: «Лучшей записью Каллас была ее первая „Тоска“, вот уже 25 лет занимающая особое место в истории грамзаписи итальянской оперы... Мы с Де Сабатой дружили еще с 1946 года, но никогда не работали вместе в студии. В то время стереозаписи еще не было, и добиться эффекта отдаленности звука было труднее, чем сейчас. Чтобы сделать появление Тоски убедительным, нам пришлось отдельно записывать все три ее возгласа „Марио“ с улицы, причем каждый последующий ближе к микрофону, и потом монтировать. На запись „Те Deum“ ушла большая часть двухдневной работы в студии: Тито Гобби недавно вспоминал, что мы заставили его спеть сцены в первом акте тридцать раз, причем мы не оставляли его в покое до тех пор, пока не добились нужного оттенка в каждом слоге. Каллас была в голосе и, как всегда, тщательно подготовила свою партию. Одно только „И перед ним весь Рим дрожал“ ей пришлось повторять по указу де Сабата в течение получаса – и это не было впустую потраченное время. На все это у нас ушли километры пленки» ( * Walter Legge . La Divina – Callas Remembered. Opera News. November 1977.).
Так же, как и воспоминания Джулини и Висконти, записи Легге показывают, что Мария Каллас оказалась в нужное время в нужном месте. Ситуация изменилась, когда она стала мировой звездой и вырвалась из строгого художественного мира равноценных по таланту режиссеров и продюсеров, которые одни только и могли обеспечить климат для процветания ее мастерства и выразительной силы. С началом схождения к званию знаменитейшей женщины планеты совпали и первые признаки спада в ее творчестве. Как будто в это время шла инкубация. Затем последовала серия нервных срывов и ощущение изнеможения. Первые большие скандалы разразились в результате отмены одного из представлений «Сомнамбулы» на гастролях «Ла Скала» в Эдинбурге в августе 1957 года и особенно после срыва «Нормы» в Риме в январе 1958-го: в соответствии с масштабом ее славы, эти происшествия были раздуты до размеров страшных скандалов. Упадок проявился и в том, что с конца 50-х годов Мария Каллас начала давать концерты в роскошной ''цирковой" атмосфере, в Гамбурге и Мюнхене, в Барселоне и Афинах в Лондоне и Амстердаме, что лишило ее возможности демонстрировать свой главный талант – актерское мастерство. И ликование, сопровождавшее сенсацию самого ее выхода на сцену, должно было отзываться болезненным эхом в ее ушах и в ушах некоторых критиков, почувствовавших, что ее триумф обернулся пирровой победой (я ни в коем случае не хочу сказать, что художник не имеет права нагонять упущенное на закате карьеры – это его право).
Это было время, когда оперная жизнь начинала вырождаться в оперное дело и разлагаться. Следствием этого стали гала-концерты и звезды, очень мало репетировавшие и слишком угождавшие внешнему миру, навязывавшие театрам постановки произведений, которые только что взяли в руки или абы как просмотрели. Между подобным превращением музыкальной жизни в рынок сбыта и угасанием той великой кометы, что почти десять лет освещала оперное небо, нет причинной связи. Мария Каллас поглотила саму себя, подобно свече, зажженной с обоих концов: «Светом станет все, к чему я ни прикоснусь, пеплом – все, что я оставлю, ведь я – это пламя».
Однако ее конец был символичен, так как ее время прошло. Как бы она жила, как бы пела в этом распадающемся мире?
Глава 5
Годы учения
Учитель пения должен обладать тремя способностями и тремя способами слушать своих учеников: он должен слышать их такими, какие они есть, какими могли бы быть и какими быть должны... Он должен развивать их разум, как и их тело. Он должен помогать им выявить свой характер. И он должен пробудить в них жажду прекрасного.
Джованни Баттиста Ламперти
Украденное детство?
Старые газеты – превосходная школа суетности всего сущего.
Роберт Музиль
В конечном итоге единственно важным оказывается количество правдивого во лжи.
Томас Бернхард
По мнению британского писателя Томаса Карлайла, задача биографической литературы состоит в «heroe-worship» – в поклонении герою, в преклонении перед гением, величием, бессмертием. Частная жизнь второстепенна. Авторы некоторых биографических работ о Марии Каллас воспользовались ее известностью, чтобы составить из личных, интимных подробностей ее жизни так называемую психограмму. О связи певицы с греческим предпринимателем Аристотелем Онассисом написано больше, чем о шестистах ее спектаклей, о скандалах – больше, чем о ее достижениях в искусстве. Раздобыть новые детали уже невозможно, гораздо важнее отсортировать маловажные. Это нужно не для того, чтобы окружить туманным ореолом певицу и стилизовать личность: просто только таким образом можно понять феномен Каллас и его место в истории оперы. Вальтер Легге пошел по этому пути, и от его описаний веет смесью восторга и холодности. «О ее несчастливом детстве написано больше чем достаточно, – утверждает он в своем очерке „Божественная“, – о вечно ссорящихся родителях, о близорукости, лишнем весе и недостатке внимания, но почему-то никому не пришло в голову проследить, как все это отразилось на ее карьере и характере. У Каллас был чудовищный комплекс неполноценности. Именно он скрывался за ее непомерным честолюбием, непреклонной волей, необычайной эгоцентричностью и неутолимой жаждой славы. Она стремилась достичь полного совершенства в любой сфере своей жизни и работы. Когда я впервые обратил на нее внимание – за год или за два до нашей первой встречи, – она была громоздкой, на ней топорщилось бесформенное твидовое пальто, а походка напоминала неуверенные шаги моряка, впервые сошедшего на берег после долгих месяцев, проведенных в открытом море. Впервые встретившись с ней, я был неприятно удивлен ее чудовищным нью-йоркским говором... Ей понадобилось всего несколько месяцев, чтобы начать говорить на „королевском английском“, как его называли англичане, пока его не истребило Би-Би-Си. Кроме того, она обнаружила отличные языковые способности и в скором времени уже хорошо говорила по-французски и по-итальянски. В результате строгой диеты она похудела со 180 до 126 фунтов и стала одной из самых элегантных дам Милана. Ее квартиры в Вероне, Милане и Париже свидетельствовали об изысканном вкусе и любви к порядку. В Милане на каждой вещи в ее гардеробе висела табличка, на которой значилось, когда и почем она купила эту вещь и по какому случаю надевала. Перчатки она хранила разложенными по парам в прозрачной пластиковой сумке; так же хранились и сумочки. У каждого предмета было свое место. Это было результатом той же педантичности, какую она проявляла в работе».
Что за ловкий ход, предотвративший опасность углубления в психологический экскурс наподобие тех, которыми изобилует массовая биографическая литература о Каллас! Когда речь идет о творческом пути певицы, отказ от сплетен не освобождает от обязанности «все видеть, все наблюдать или, по меньшей мере, на все намекать», как гласит максима Сент-Бёва. Нельзя умалчивать о том, что она была не особенно приятна в общении, что, говоря словами Легге, которого и самого не назовешь слишком приятным, «могла быть мстительной, скандальной и злобной по отношению к людям, в которых видела соперников или просто не любила, причем без какой бы то ни было видимой причины. Она была неблагодарной: на протяжении нескольких лет отказывалась не только что работать, а даже разговаривать с Серафином, который имел неосторожность записать „Травиату“ с Антониеттой Стеллой; между тем он оказан ей неоценимую помощь и способствовал взлету ее карьеры после дебюта в Италии».
Подобное поведение привычно объяснялось ее робостью и неуверенностью в себе, связанной с несчастливым детством. Третий ребенок Евангелии и Джорджа Калогеропулос, она родилась 3 декабря 1923 года в Нью-Йоркском госпитале на Пятой авеню и при крещении получила имя Сесилия София Анна Мария. Арианна Стасинопулос пишет, что Мария Каллас всегда справляла свой день рождения 2 декабря. Доктор Ланцунис, присутствовавший при родах, подтверждает эту дату. Ее мать называет 4 декабря. В школьных записях значится 3 декабря.
21 августа того же года, после смерти трехлетнего сына, родители Марии эмигрировали из Афин в США. В книге «Моя дочь Мария Каллас» мать певицы рассказывает, что «молила Бога дать ей другого сына взамен умершего Василия, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в сердце». После родов она была горько разочарована и согласилась посмотреть на дочь «лишь спустя четыре дня». Но взгляд черных глазок ребенка, словно спрашивавший: «Мама, почему ты меня не любишь?», – пробудил материнскую любовь в ее сердце.
Материальное положение семейства ухудшилось. Аптекарь Джордж Калогеропулос, относительно удачливый в Афинах, оказался вынужден зарабатывать на жизнь, работая коммивояжером по продаже парфюмерных и аптекарских товаров. Его жена настаивала на том, чтобы дать дочерям музыкальное образование, а ему это казалось бессмысленной тратой денег перед лицом экономической депрессии. Евангелия рассказывает, что Мария уже в четыре года с восторгом внимала звукам домашней пианолы. Слушая купленные матерью пластинки с записями «Фауста», «Миньоны» и «Лючии ди Ламмермур», обе девочки восхищались голосом Розы Понсель и подпевали ей. От Евангелии пошла и легенда, будто в один прекрасный день семья слушала трансляцию «Лючии ди Ламмермур» из «Метрополитен Опера», и когда певица заглавной партии допустила ошибку в сцене безумия, Мария вознегодовала и воскликнула, что она спела бы лучше.
Уроки игры на фортепьяно Мария брала с восьми лет. Благодаря этому она уже взрослой певицей не нуждалась в аккомпаниаторе, когда разучивала партии. В десять лет пела арии из «Кармен», и, говорят, прохожие останавливались под окнами послушать, когда она пела «Ла Палома» и другие песни. На конкурсе, организованном «Мьючуа Радио Нетворк», она получила приз – часы Булова. Это послужило толчком к участию в бесчисленных конкурсах, на которых она оказывалась благодаря тщеславию матери, видевшей в обеих дочерях вундеркиндов. Позже Мария Каллас горько жаловалась на то, что мать лишила ее детства: «Это должно быть запрещено законом. Я чувствовала себя любимой, только когда пела». Еще большие страдания причиняли ей полнота и крайняя близорукость: «Моя сестра Джеки была красивой девушкой, а я была жирная, вся в прыщах и развита не по годам. Я чувствовала себя глубоко несчастной, настоящим гадким утенком».
В коние 1937 года мать решила вернуться в Грецию вместе с обеими дочерьми. Она была убеждена, что только в Афинах Мария сможет получить подобающее вокальное образование. Джордж Калогеропулос, ставший в Америке Калласом, согласился. Через несколько дней после окончания восьмого класса Мария с матерью и сестрой взошли на борт корабля «Сатурния». Во время путешествия она развлекала капитана и пассажиров тем, что пела «Ла Палома» и «Аве Мария», а под конец исполнила хабанеру из «Кармен» Визе. Рассказывают, что на последней фразе, «Prends garde a tot», она вынула из вазы гвоздику и бросила капитану.
Больше чем учитель: Эльвира де Идальго
Техника пения проста и никогда не меняется. Трудность заключается только в том, чтобы научить человека делать то, что нужно. Это умеет только хороший учитель.
Лучано Паваротти
На следующий же день после возвращения в греческую столицу жизнь девочки превратилась в жизнь поющего робота. Она пела для всех и каждого. В сентябре 1937 года ее дядюшке Эфтимию удалось организовать для нее прослушивание у Марии Тривеллы, преподававшей в Национальной консерватории в Афинах. Перед самым выступлением Марию охватил панический страх, что случалось с ней и позже, перед многими спектаклями. «Перед тем как начать петь, мне кажется, что я ничего не знаю, не помню ни ноты из партии, не знаю, когда я должна вступать». Тривелла, посредственная певица, но опытный и знающий педагог, немедленно взяла Марию Каллас к себе в ученицы и даже согласилась фальсифицировать возраст ребенка: Марии было тринадцать лет, тогда как в Консерваторию принимали только с шестнадцати.
Мария пела фрагменты из «Кармен», «Лючии ди Ламмермур» и «Сельской чести». В ноябре 1938 года, незадолго до своего пятнадцатого дня рождения, она дебютировала на сцене в студенческой постановке этой оперы Масканьи и получила первый приз Консерватории. Пьер-Жан Реми считает символичным то, что уже первой ее ролью была страдающая, жертвующая собой женщина. «Всю жизнь она играла крайности – либо жертв, либо тигриц; но ведь и тигрица, будь то Медея или Сантуцца, по-своему тоже жертва». После двух лет работы с Марией Тривеллой Каллас предприняла новую попытку попасть в Афинскую консерваторию. Услышав пение девочки, испанское сопрано Эльвира де Идальго настояла на том, чтобы ее туда приняли, несмотря на юный возраст.
Эльвира де Идальго родилась в 1892 году и училась у Поля-Антуана Видаля. В 16 лет она дебютировала в неаполитанском театре «Сан-Карло» в роли Розины в «Севильском цирюльнике». Легендарный импресарио Рауль Гинзбург заполучил ее для театра в Монте-Карло, где она опять пела Розину в компании с Дмитрием Смирновым (Альмавивой) и Федором Шаляпиным (Базилио). Джулио Гатти-Казацца переманил ее в «Метрополитен Опера»: ему срочно нужна была певица, которая составила бы конкуренцию Луизе Тетраццини, певшей в Оперном театре Оскара Хаммерштайна. Однако де Идальго не могла тягаться с итальянской дивой. Послушав ее, Уильям Джеймс Хеммерсон написал, что «Метрополитен Опера» – не «богоугодное заведение по опеке маленьких девочек». Она вернулась в Европу, в 1916 году дебютировала в «Ла Скала» все той же Розиной (Фигаро пел Риккардо Страччари) и с тех пор пела на итальянских сценах средней руки и в Южной Америке. В 30-е годы она приехала в Афины в составе переезжающей с места на место оперной труппы и, когда начавшаяся война осложнила путешествия, устроилась в Консерваторию преподавательницей. Она планировала поработать там только один год, но задержалась надолго.
О своей первой встрече с некрасивой и зажатой девочкой испанка вспоминала так: «Смешно было даже подумать, что эта девочка хочет быть именно певицей. Она была высокая, очень пухлая и носила толстенные очки. Глаза у нее были большие, но тусклые, а если она снимала очки, то ничего не видела. Все в ней выглядело как-то нелепо. Платье ей было велико, спереди оно застегивалось на пуговицы и висело, как мешок. Не зная, что ей делать, она тихонько сидела в углу, грызла ногти и ждала, когда ее попросят спеть».
Мария спела «Ozean, du Ungeheuer» из «Оберона» Карла Марии фон Вебера – и учительница была потрясена, услышав «бурные каскады звуков, которые она еще не умела полностью контролировать, но которые были полны драматизма и подлинного чувства. Я слушала, закрыв глаза, и представляла себе, какой радостью было бы работать с таким материалом и отшлифовывать его до полного совершенства». Марию приняли в Консерваторию в качестве частной ученицы де Идальго, и ей не пришлось платить за уроки, благо де Идальго, о которой Реми пишет как о «Пигмалионе женского пола», приложила все усилия, чтобы сделать из ученицы такую певицу, какой она мечтала быть сама. «Уроки начинались в десять, – вспоминала Мария Каллас в 1970 году, – около полудня мы делали паузу, чтобы съесть по бутерброду, и после этого занимались до самого вечера. Мне никогда в голову не приходило пойти домой пораньше, хотя бы потому, что мне там совершенно нечего было делать».
Ее диапазон был тогда столь ограничен, что некоторые учителя считали, будто у нее меццо-сопрано (такие голоса, как правило, не имеют широкого диапазона). Осторожное расширение его вверх и вниз она воспринимала как атлетический тренинг: «Я была как спортсмен, который получает удовольствие, используя и развивая свои мышцы». Эльвира де Идальго была для нее больше чем учителем, она стала ее самым близким человеком и в эмоциональном отношении.
Чем больше они сближались, тем более критично Мария относилась к матери, которая позже отомстила ей, написав свою книгу. Де Идальго была чуть ли не единственным человеком, к которому Мария Каллас неизменно питала теплые чувства. В квартире Каллас после ее смерти, помимо портрета легендарной Марии Малибран, нашли фотографию Эльвиры де Идальго. Именно она помогла «гадкому утенку» преобразиться – Не только музыкальными уроками, но и практическими советами Она научила Каллас, как вести себя на сцене, как одеваться, как держать себя.
Заветным желанием матери была слава Марии. «Слава – вот все, чего я для нее хотела». Ради этого она и лишила дочь детства, как позже говорила певица. А Эльвира де Идальго указала ей путь к славе и научила относиться с уважением к самой себе Обе женщины повлияли на дальнейшую судьбу и манеру поведения певицы.
В то время как де Идальго занималась шлифовкой голоса Каллас, она посоветовала ей для начала сосредоточиться на более легких колоратурных партиях, на «canto fiorito». Только окончательно освоив техническую сторону дела, ученица могла перейти к более сложным, драматическим партиям. Вообще-то с самого начала было ясно, что из Марии Каллас выйдет не «легкое сопрано», a «soprano sfogato», наподобие Джудитты Пасты, выразительный, драматически окрашенный голос с широким диапазоном и колоратурными задатками, для которого Беллини написал партии Нормы и Амины в «Сомнамбуле». «Я была вроде губки, – скажет позже Мария Каллас, – готова впитать все, что угодно».
Учительница обеспечила ей основательное и всестороннее образование. Она давала ей партитуры, которые та учила наизусть, зачастую просиживая над ними целые ночи. Мария разучивала песни Шуберта и Брамса, «Стабат Матер» Джованни Перголези и «Дидону и Энея» Генри Пёрселла, даже «Страсти по Матфею» И.-С. Баха. Не будь этого систематического и напряженного тренинга, схожего по своему принципу с этюдами, без которых не может обойтись ни один пианист или скрипач, Мария Каллас никогда не смогла бы в дальнейшем за считанные сутки разучить и мастерски отточить сложнейшую партию. Упражнения в том особом виде искусства, который бездумно называют бельканто, были для нее «специфическим тренингом голоса и развитием технических навыков, сравнимым с тем, которое необходимо скрипачу или флейтисту, чтобы в совершенстве овладеть своим инструментом». Де Идальго позаботилась о том, чтобы ее ученица получила роли в студенческих постановках третьего акта «Бала-маскарада» Верди и Сестры Анжелики" Пуччини. В том же 1940 году она обеспечила Каллас ангажемент в Королевском оперном театре в Афинах: 27 ноября та исполнила маленькую партию Беатриче в оперетте Франца Зуппе «Боккаччо». Двумя годами позже Каллас представилась возможность заменить заболевшую коллегу в той же Королевской опере: она пела партию Тоски в тринадцати спектаклях под открытым небом в театре «Теллентас».
Вокруг этих спектаклей возникли недобрые толки – предвестники тех скандалов, что омрачали ее дальнейшую карьеру. Недомогавшая дива якобы встала во главе недоброжелателей Каллас. Услышав, что ненавистная конкурентка будет петь Тоску, она подослала своего мужа в оперу, чтобы помешать той выступить, и Каллас в ярости вроде бы расцарапала ему физиономию.
Этим случаем принято объяснять стойкую нелюбовь Марии Каллас к данному произведению. Действительно, она неоднократно заявляла в интервью о своей неприязни как к этой партии, так и к музыке Пуччини в целом. Но причина такой оценки кроется, по всей вероятности, в том, что эта партия в вокальном отношении гораздо сложнее партий бельканто, которые она привыкла петь с легкостью. Этим можно объяснить и тот факт, что, хоть она и пела 48 раз Тоску и 23 раза Турандот в 1948-1949 годах, желая пробиться к вершинам оперного мира, но Чио-Чпо-Сан исполняла всего 3 раза, а Мими в «Богеме» или Манон Леско не пела на сцене вообще никогда. В период с 1953 по 1958 год, когда ее слава была в зените, героини Пуччини ничего не значили для ее карьеры и для превращения в величайшую примадонну эпохи. И все-таки она с самого начала имела большой успех в роли Тоски, несмотря на нелюбовь к этой партии. Александра Лалауни писала о спектаклях в августе и сентябре 1942 года: «Все недостатки и слабые стороны постановки забываются, как только на сцене появляется Мария Калогеропулос, молоденькая девушка, почти ребенок... Она не только безукоризненно справляется с ролью, не просто верно поет, – она обладает редким даром драматической убедительности, покоряющим публику. Диапазон ее голоса охватывает целый регистр. Неважно, какое образование она получила: мне кажется, она наделена чем-то сверх того. Безошибочному музыкальному инсинкту и драматическому таланту научиться нельзя, тем более ее возрасте. Они у нее от природы». В конце карьеры Каллас часто пела Тоску, и это подтверждает тезис о том, что с партиями веристского репертуара можно справиться за счет актерского таланта, даже если голос уже не тот, что прежде.
Начиная с 1940 года, когда Греция была оккупирована немцами и итальянцами, материальное положение Евангелии Каллас и ее дочерей все ухудшалось. Еды было так мало, что 17-летней Марии пришлось давать концерты в Афинах и Салониках: в качестве гонорара она получала спагетти и овощи. В конце концов Афинская опера ангажировала молодую певицу, предложив ей 3000 драхм. Выбрать самой репертуар ей не позволили: она должна была петь то, что стояло в программе. В апреле и мае 1944 года это были шесть представлений «Долины» Эжена д'Альбера. Критик Фридрих В. Херцог писал в «Немецких новостях в Греции», что она обладает всем тем, чему должны учиться другие певцы, а именно драматическим чутьем, выразительностью и актерским воображением. Примечательно, что он упоминает «пронизывающую металлическую силу» ее голоса на высоких нотах. 14 августа последовали два спектакля «Фиделио» (Бетховена) в афинском театре Ирода Аттика; дирижировал немец Ханс Хернер. Двумя месяцами позже оккупанты потеряли контроль над Афинами, а затем и над всей Грецией. В Пирей вошел британский флот. Мария Каллас приняла решение вернуться в США к отцу: чтобы заработать денег на поездку, она дала концерт в Афинах 3 августа 1945 года, где пела «Bel raggio» из «Семирамиды» Россини, арии из «Дон Жуана», «Аиды», «Трубадура» и «Оберона». Из этого подбора репертуара можно заключить, что она обладала потенциалом драматического сопрано d'agilita. 5 сентября последовало представление «Нищего студента» Карла Миллекера. Через несколько дней Мария Каллас, простившись с Эльвирой де Идальго, взошла на борт корабля «Стокгольм» и поплыла в Нью-Йорк.
Снова в Нью-Йорке
Я предпочитаю полагаться на себя и только на себя.
Мария Каллас, 1970г.
Ее принял отец, живший в скромных условиях. Арианна Стасинопулос рассказывает, что певица не могла устоять перед гастрономическими соблазнами и становилась все толще и толще («Я была голодна настолько, насколько только может быть голоден человек, давно не видавший настоящей еды»). Попытки получить ангажемент не удавались. Она искала помощи у греческого баса Николы Москоны, известного благодаря участию в нескольких постановках опер Верди под руководством Тосканини и видевшего в Афинах несколько спектаклей с Каллас, которая произвела на него большое впечатление. Добившись встречи с ним, Мария попросила представить ее Тосканини, но певец категорически отказался порекомендовать тщеславную юную певицу пожилому маэстро. Вместо этого он устроил ей прослушивание у тенора Джованни Мартинелли.
Мартинелли, родившийся в 1885 году в Монтаньяне, как и его коллега Аурелиано Пертиле, с ноября 1913 года пел в «Метрополитен Опера», дебютировав там в роли Рудольфа в «Богеме» и переняв после смерти Карузо в 20-е годы такие его партии, как Радамес, Канио, Альваро, Дик Джонсон и Андре Шенье. До 1946 года он пел в каждом сезоне «Метрополитен Опера», в целом он провел более 650 спектаклей, сыграл 36 ролей, а кроме того, участвовал в 300 гастрольных спектаклях. Он был настоящим драматическим певцом с фантастическим контролем над дыханием и аристократическими манерами; правда, голос его никогда не обладал вполне свободным звучанием. В стилистическом отношении он тяготел к экспрессивной манере Артуро Тосканини: мало кто из теноров в XX столетии пел пламеннее, патетичнее, риторичнее.
Мартинелли доброжелательно отнесся к молодой певице, но посоветовал ей продолжать уроки вокала. Скорее всего, ему не понравилась неровность ее голоса, слышимые "переключения" между регистрами.