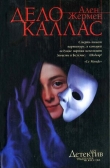Текст книги "Мария Каллас"
Автор книги: Юрген Кестинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Отчет тенора Джованни Мартинелли о постановке «Трубадура» в «Метрополитен Опера» – его можно прочитать в «Мьюзикал Америка» за 1963 год – позволяет предположить, что Тосканини хотел избавить оперу от духа музыкальной драмы. Вторично приняв руководство "Ла Скала'1 в 1920 году, дирижер возмечтал о том, чтобы каждая постановка в его театре становилась событием, и предпринял титанические усилия по претворению сей идеи в жизнь. Харви Сакс впечатляюще описал эту работу в своей биографии Тосканини, и, судя по его воспоминаниям, постановок такого уровня в дальнейшем было крайне мало, если вообще была хоть одна.
Однако революции, даже эстетические, требуют жертв, и Тосканини во имя идеи верности произведению пожертвовал ключевыми элементами пения – импровизацией и отделкой, даром сотворчества с композитором, которое, по крайней мере до середины XIX века, само собой разумелось. Он. сделал это во имя Верди, тем самым обнаружив свое непонимание Верди, который, само собой, возражал против произвольных певческих выходок, но ни в коем случае не возводил принцип верности нотам в закон и в старости даже говорил, что бытовавший некогда произвол примадонн сменился кое-чем куда более ужасным – «тиранией дирижера».
Показательно, что типичная «певческая опера» начала XIX века, то есть произведения Россини, Беллини и Доницетти, практически не появлялись в репертуаре «Ла Скала» с 1920 по 1930 год, если не считать «Цирюльника» Россини и «Лючии» Доницетти. Какими же операми дирижировал Тосканини? В его первом сезоне, 1922-23 года, это были «Фальстаф», «Риголетто», «Борис Годунов», «Мефистофель» и «Нюрнбергские мейстерзингеры». Год спустя последовали: мировая премьера «Деборы и Иаиля» Пиццетти, «Манон Леско», «Луиза» Шарпантье, «Лючия ди Ламмермур», «Мадам Сан-Жен» Умберто Джордано (мировая премьера оперы состоялась в 1915 г. в «Метрополитен Опера» под руководством Тосканини) и «Волшебная флейта» Моцарта. Сезон 1923-24 года ознаменовался «Аидой», «Травиатой», Тристаном и Изольдой", «Ирис» Масканьи, «Орфеем» Глюка и мировой премьерой «Нерона» Бойто. В 1924-25 годах Тосканини дирижировал во впервые исполнявшемся «Ужине шутов» Джордано, в «Кавалерах Экебу» Дзандонаи и закончил сезон «Пеллеасом и Мелизандой» Дебюсси. В 1925-26 годах игрались «Бал-маскарад», «Фауст» Гуно, «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Мученичество св. Себастьяна» Дебюсси, «Любовь трех королей» Монтемецци и мировая премьера «Турандот». В оставшиеся годы десятилетия на сцене появились также «Фиделио», «Тоска», «Ариадна и Синяя Борода» Дюка, «Отелло», «Дон Карлос», «Сила судьбы», «Парсифаль» и мировые премьеры «Фра Герардо» Пиццетти и «Короля» Джордано. Как видно, Тосканини не дирижировал ни одной итальянской оперой первой половины XIX столетия за исключением «Лючии ди Ламмермур». Он сконцентрировал свое внимание на Верди и Вагнере, обратился к второстепенным, с итальянской точки зрения, произведениям Мусоргского и Дебюсси и особенно к актуальной продукции.
От него не могло укрыться, что эта последняя переживает глубокий кризис. Тем не менее постановки современных опер для него были делом само собой разумеющимся, а что касается Верди и Вагнера, современником которых в качестве действующего исполнителя он был добрых десять лет, то Тосканини продолжил борьбу, начатую ими. Это была борьба за оперу как цельный вид искусства, за взгляд на нее из исполнительской перспективы. Тосканини пытался превратить каждую из постановок в художественное событие; педантичность и бескомпромиссность, с которой он добивался объединения всего музыкального и сценического действия в законченное целое, не имеет аналогов в истории оперы.
Своеобразно и типично, что в 1899 году дирижер отменил премьеру «Нормы», готовившуюся много недель, после генеральной репетиции. Объяснил он это так: «Вы когда-нибудь слушали эту оперу? Я никогда не слышал ее такой, какой она действительно должна быть. Я попробовал поставить ее – и мне это не удалось». Маловероятно, чтобы он счел себя причиной неудачи: ведь проблем с оркестром для него никогда не существовало. Дело могло быть только в исполнительнице заглавной роли, Инее де Фрате, не отличавшейся особенным мастерством в экспрессивном украшенном пении.
А может быть, на то была более веская причина, которую дирижер, скорее всего, не осознавал, а именно идиосинкразия по отношению к эстетическим особенностям романтической оперы бельканто? В любом случае обращает на себя внимание то, с какой горячностью, даже гневом реагировал Тосканини, когда певица позволяла себе малейшее отступление от печатного текста – дело для бельканто обычное и даже приветствуемое композиторами. Тоти даль Монте рассказывала, что привела Тосканини в ярость, слегка украсив партию Джильды (можно только догадываться, что было бы, если бы она рискнула как следует изменить эту партию). Примечательно и то, что при записи «Травиаты4 Верди с Лючией Альбанезе в главной роли все отголоски бельканто, проявляющиеся в бринднзи, в виолеттином ''Е' strano», в «De'miei bollenti spiriti» Альфреда и в «Di provenza» Жермона, подверглись изгнанию, что, однако, не очистило вокальные партии от излишеств, а обнажило их, лишив богатства оттенков и неповторимой прелести. Подобная верность тексту не имеет ничего общего с верностью произведению. Тосканини заменял уже отжившую, с его точки зрения, манеру на собственную; это видно из того, с какой бесцеремонностью он выкинул из партий, исполнявшихся Жаном Пирсом и Робертом Мерриллом, тончайшие динамические нюансировки Верди. Своим неоспоримым значением эта запись обязана исключительно лихорадочному оркестровому напряжению и неистовой риторике.
Этот экскурс в историю пения может быть продолжен. Возникновение стиля экспрессионизма, поставившего во главу угла принцип реализма и непосредственности изображения, можно связать с развитием нового направления в композиторской мысли времен Тосканини – веристской школы. Таких, в общем-то, непохожих композиторов, как Понкьелли, Пуччини, Масканьи, Леоккавалло, Дзандонаи и Чилеа, объединяло одно – отказ от приемов классического пения. На самом деле и в их операх можно найти украшения, правда, как правило, в виде простых мелизм и форшлагов, а не развернутых фиоритур или продолжительных трелей. В тех произведениях» где речь идет» как в «Паяцах», о «чудовищной правде» реальной жизни или о невротических душевных состояниях, язык бельканто был неуместен и его заменили натуралистические выразительные средства. Симптоматично рождения aria d'urlo – «арии с криком». За считанные десятилетия, где-то между 1890 и 1910 годами, эстетика пения полностью изменилась: из регламентированного искусства с набором строго определенных приемов оно превратилось в натуралистический язык аффекта. Эта трансформация имела место и в драматургии: например, персонажи пьес Гауптмана в моменты сильнейших переживаний «частую утрачивают способность говорить и прибегают к языку звуков и жестов. Подобные приемы навсегда остались чуждыми примадоннам конца XIX века – Аделине Патти, Марчелле Зембрих, Нелли Мельба, Наконец, в первой декаде нового столетия примадонна утратила центральное положение в иерархии оперы. Новой звездой сцены с легкой руки Карузо стал тенор; после 1904 года слава неаполитанца затмила славу любой из тогдашних сопрано.
Причина этого кроется не только в сугубо музыкальной сфере. Родившийся в 1873 году Карузо первым воспользовался услугами нового посредника, чтобы завоевать сердца слушателей; этим посредником была грампластинка. Его глухо окрашенный тенор идеально вписывался в допустимый спектр частотности записи и воспроизводился граммофоном лучше, чем высокочастотные женские голоса, звучание которых делалось плоским и однотонным; кроме того, он, в отличие от коллег, совершил невиданный по эстетическому нахальству шаг и поставил свою технику бельканто на службу веристской музыке. Не утратив с годами гибкости голоса, с 1906 года Карузо тем не менее почти всегда пел только полным голосом – меццо-форте и форте. Тот факт, что его замечательные ранние записи в течение долгого времени ценили лишь знатоки, да и те многие из них недооценивали, связан не только с плохим качеством записи и музыкального сопровождения; дело, скорее, в том, что из перспективы более поздних записей они выглядели анахронизмом, так как хранили отчетливые признаки бельканто – растягивание нот, свободное рубато, обилие музыкальных украшений. Характерный пример: Вольф Розенберг, автор книги «Кризис певческого искусства», сравнил карузовские записи арии «Una tuttiva lagrima» 1904 и 1911 годов и пришел к выводу, что первая манерна, искусственна и стилистически устарела, – тем самым Розенберг поставил драматическую экспрессию в пении выше виртуозного мастерства.
Безосновательной эту точку зрения не назовешь; больше того, она соответствует нашему сегодняшнему вкусу. Вот только кризис певческого искусства, в причинах которого Розенберг так и не разобрался, в существенной степени объясняется спадом вокального мастерства и переходом к исповедуемому Карузо экспрессионистскому пению (*Это быстрее всего распознал Уильям Джеймс Хсндерсон. После того, как Титта Руффо дебютировал в «Мет» 19 ноября 1912 года и произвел фурор своим мощным звуком, критик написал полемическую статью под названием «Громко петь – быстро богатеть». Он сетовал на то, что формирование мощного звука подводит черту под золотом эрой вокального искусства – девяностыми голами XIX века.). В какой-то мере символична одна из знаменитейших и лучших записей неаполитанца – плач «Recitar» из «Паяцев» Леонкавалло. Жалобную арию Карузо начиняет душераздирающими всхлипами, производящими впечатление искренности и спонтанности, а фразу «bah, si' tu forse un uom» сопровождает горьким смешком, включенным Леонкавалло в партитуру. Кульминационный возглас «sul tuo amore infranto» он, вжившись в роль, пропевает на одном дыхании, бесконечно растягивая последнее слово; интонирование слова «сердце» неповторимо и трогает.
К несчастью, эмоциональный акцент в пении многие певцы довели до абсурда. Беньямино Джильи, МигуельФлета. Марио дель Монако и молодой Пласидо Доминго наполняли даже длинный заключительный проигрыш всхлипами и громкими рыданиями. То, что у Карузо было спонтанным и естественным, – пение на аффекте, горение священного огня, – со временем выродилось в кривляние. Подражали и пению «con sforza» (с силой), когда звук получался максимально напряженным. Карузо пел фа – ноту переходного регистра – как высокую ноту, так что верхнее ля оставалось в пределах его диапазона, в то время как многие из подражателей пели эту ноту как поту средней высоты и перенапрягали этим голос. В итоге получалось глухое звучание, все гласные в котором превращались в нечто среднее между "о" и "а", сродни английскому «aw».
Манера Карузо, сочетавшая классическую технику и современные средства выразительности, была совершенным выражением бельканто – и одновременно ею концом. Он был одним из последних певцов, которые, в совершенстве владея искусством пения старого стиля, сумели приспособить его к веристской эстетике. Он был убедителен за счет силы своей личности и правдоподобности игры.
Смерть Карузо в 1921 году совпала с концом традиционной оперы. «Турандот» Пуччини, сыгранная Тосканини в 1926 году в «Ла Скала» по оставшейся от композитора незаконченной редакции, была последней «певческой оперой». В это время такие дирижеры, как Артуро Тосканини и немец Фриц Буш, начали работу по сохранению репертуара, ставшего историческим. То было героическое усилие – попытка систематизации истории оперы и перенос ее в музей одновременно. Репертуар составляли экспонаты этого музея. Материальной же инкарнацией музея оперы стала грампластинка. Именно пластинки Карузо перевели парию от культуры в разряд инструмента. Его записи положили конец эре «певческой оперы» сразу в двух смыслах: его последователи пели уже «репертуар», шедевры, превратившиеся в музейные экспонаты, часть так называемого культурного наследия.
Наследие не может быть просто принято во владение, оно не достается просто так. «Что унаследовал ты от отцов, – говорится в „Фаусте“, – то должен заслужить». Наследие требует постоянных видоизменений и, что гораздо важнее, гармоничного переплетения с новым. Это примирение, еше удававшееся Карузо, было уже невозможно для певцов последовавшего поколения. Мировая душа покинула «певческую оперу», как выразился Теодор Адорно. Такие произведения, как «Воццек» или «Лулу» Альбана Берга, окончательно порвали с традицией «певческой оперы», а поздние творения Штрауса иначе как ремесленными изделиями и не назовешь.
Возможно, у изменений, произошедших в традиционном певческом искусстве, была и другая причина – все та же грампластинка. Она изменила наш слух и в каком-то смысле наше восприятие времени, а вместе с тем и эстетическое чувство. В любом музыкальном спектакле сочетаются два типа времени -время реальное и время переживания, – ставшие важной темой в литературе рубежа веков, к примеру, в эпопее «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Находясь в театре, мы можем полностью забыть о реальности и наслаждаться мгновением, а ведь, говоря словами Ницше, любое наслаждение жаждет вечности. Мы ощущаем, что в фиоритурах Беллини, как и в арабесках Шопена, запечатлено застывшее время. Но иллюзия зачарованного времени исчезает, если слушать запись. Рубато, фермато. эффектная деталь, задевающая за живое на спектакле, могут потерять всю свою прелесть и даже показаться помехой, если слушать пластинку. Примечательно, что в записях 30-х годов романтическое рубато уступает место более строгому в метрическом отношении исполнению, следующему «хроносу реального времени», как выразился Игорь Стравинский в своих заметках о музыкальной поэтике. Не кто иной, как Тосканини сделал полумеханическое, машинальное следование оригиналу каноном, пожертвовав техническому совершенству «музыкальным смыслом» произведения.
В заметке о Фуртвенглере под названием «Хранитель музыки» Теодор Ааорно Писал: «Актуальность Вильгельма Фуртвенглера представляется мне связанной с тем, что при всем богатстве возможностей исполнителям не хватает чего-то такого, чем в высшей мере обладал Фуртвенглер, а именно чувства музыкального смысла в отличие от бездумной точности Исполнения, которая со времен Тосканини считается пределом музыкальных мечтаний. Фуртвенглера можно назвать своего рода поправкой к такому роду музицирования, ставящему безукориэенность исполнения превыше всего». Безукоризненность исполнения, noнимаемая как идеальная слаженность оркестра, кажется необходимым условием для записи пластинки: ведь главное преимущество оной по сравнению со спектаклем – это неизменная точность и безошибочность воспроизведения. В этом смысле мысль Адорно можно продолжить: точность исполнения начала играть такую роль в музыкальном мире не столько под влиянием Тосканини, сколько в результате развития технических методов воспроизведения звука.
Скептическое и даже отрицательное отношение Фуртвенглера, великого антипода Тосканини, родоначальника романтического типа дирижера, к студийной звукозаписи, нельзя объяснить простой враждебностью к технике: оно обусловлено осознанием непреодолимой разницы между собственным чувством музыки (и времени) и результатами записи этой музыки на пластинку (и соответствующими временными законами).
Задокументированная грампластинками история исполнения музыкальных произведений показывает, что нет ничего труднее, чем запечатлеть на пластинке с ее «хроносом реального времени» пресловутую временную зачарованность. Музицированне с обильным использованием рубато Падеревского, Тибо, Менгельберга, Барбиролли и пение Фернандо де Лючии кажутся слушателю, не разбирающемуся в истории оперы, курьезными и старомодными, записи этих исполнителей словно бы подтверждают приговор романтическим вольностям и леваческому самодовольству. Таким образом, они выпадают из времени сразу в двух смыслах: и из хроноса реального времени, которого требует пластинка, и из современных представлений о музыке.
После смерти Карузо тенор еще целых три десятилетия оставался фаворитом публики. Тип драматического гибкого сопрано, soprano d'agilita, постепенно исчезал со сцены. Украшенные партии доставались колоратурным сопрано, голоса которых зачастую были для этого слишком легкими» лирические и драматические партии – сопрано spinto. Ни одна сопрано в эпоху после Карузо не могла похвалиться славой Беньямино Джильи, Рихарда Таубера, Джозефа Шмидта, дававших публике то, что она хотела слышать, – музыку «души» и коммерческой выгоды, исполненную вздохов и рыданий, сочетание вибрато и акцента на словах, позже перешедшее в шлягеры.
Певческое искусство в строгом смысле слова, как принцип построения исполнения со сводом жестких правил, начало разлагаться. Даже лирические тенора, последовавшие вслед за Фернандо де Лючией, Алессандро Бончи и Джузеппе Ансельми, а именно Тито Скипа, Чезаре Валлетти, Луиджи Инфантино, Ферруччио Тальявини и Луиджи Альва, больше не были певцами-виртуозами и зачастую не справлялись с колоратурными партиями. Драматические тенора делали ставку на уже упоминавшееся пение con sforza, достигшее своих высот в начале 50-х годов в искусстве Марио дель Монако. Даже такой лирический тенор, как Джузеппе ди Стефано, обладавший одним из красивейших голосов за всю историю оперы, перетруждал свой голос открытым пением и слишком большим напряжением в среднем регистре. Карузо публично объявил его своим преемником и тем самым как бы удостоверил его право задавать тон другим тенорам. Начиная с Мартинелли, Джильи и Пертиле и заканчивая дель Монако, ди Стефано и Доминго, все тенора брали пример с великого неаполитанца, как пишет Майкл Скотт в своей биографии Карузо. У сопрано такого примера не было. Традиция классических и романтических певиц прервалась еще после ухода Патти, Зембрих и Мельба, самое позднее – Розы Понсель. Во времена Тосканини большинство сопрано принадлежали к веристской школе: среди них попадались выразительные певицы, но виртуозок больше не было. Тем большее недоумение должно было вызвать появление в начале 50-х годов такой певицы, как Мария Каллас.
Исполняя оперы Верди, Пуччини и веристов, она нашла в Джузеппе ди Стефано и Марио дель Монако, Ричарде Такере и Эудженио Фернанди хотя и отличающихся от нее в стилистическом отношении, но тем не менее компетентных и соответствующих вкусам времени партнеров. Однако она далеко превосходила своих партнеров в вокальном мастерстве, когда пела партии бельканто в операх Россини, Беллини и Доницетти и даже молодого Верди. Решающим стало то, что она сумела восстановить связь с традицией, продолжая линию не «легких сопрано», a «soprano sfogato» XIX века.
В отличие от Тосканини, который в период работы в «Ла Скала» и «Метрополитен Опера» был современником Верди и Вагнера и даже некоторых веристов, Мария Каллас могла найти новое только в старом. Попытка объяснить ее успех героическими усилиями и стремлением сделать то, что делают все великие, а именно – задержать время, несостоятельна. Она умела задержать время только благодаря своей почти мистической способности сделать даже незначительную деталь частью музыкальной архитектуры, благодаря специфическому чувству меры и пропорции времени.
Вернер Шрётер писал в некрологе, что она прибегла к форме искусства, не соответствующей духу времени, а именно к итальянской опере бельканто, тем самым загнав себя в «художественную и социальную сферу», которой недоставало жизненности, и что «безжизненная» верхушка современного ей общественного строя «сводила ее великолепные вечера к светским мероприятиям». Эти строчки дышат страстью пламенного поклонника, стремящегося к своего рода мистическому единению с объектом своего преклонения. Однако трудно представить Марию Каллас в роли жертвы «безжизненного» слоя общества. Она, скорее, стала жертвой демократической системы с ее комплексом эстетической неполноценности и тягой к нивелированию. Тем, против чего ей пришлось бороться, была усредненность, рутина театрального дела, небрежность в репертуарных постановках.
На протяжении нескольких лет эта борьба неизменно оканчивалась триумфом, несмотря на все мыслимые и немыслимые препятствия. Тот, кто слушал записи ее арий в неаполитанском «Набукко» Верди под руководством Витторио Гуи, в «Аиде» и «Трубадуре» из Мехико-Сити, «Сомнамбуле» Винченцо Беллини и «Травиате» либо «Бале-маскараде» Верди театра «Ла Скала», кто обращал внимание на реакции публики в постановке «Анны Болейн» Доницетти и внимал тому, как она в премьере «Нормы», открывавшей 7 декабря 1955 года сезон в «Ла Скала», на одном дыхании пела «Ah si, fa core, abbracciami», вызывая у публики
вздохи восхищения, заметит, что по крайней мере в театре у нее были настоящие слушатели – слушатели, покорявшиеся ее таланту и сознававшие необычайность ее пения. И в аплодисментах есть тона и полутона. Храп во время спектакля может быть формой критики, а вопли "браво" – унизительными; Каллас же хлопали с изумлением, с восторгом, с преклонением.
Нет, времена, когда она выступала, не были невосприимчивы к опере; такие времена настали, лишь когда она покинула сиену и Новый и Старый Свет заполонили «фестивальные спецпредставления» (Теодор Адорно). Как следует из воспоминаний Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли или Вальтера Легге, ее талант пришелся ко времени. Конечно, в молодости ей в течение одной недели приходилось и петь Брунгильду в «Валькирии» Вагнера, и разучивать совершенно иную в стилистическом и техническом отношении партию Эльвиры в «Пуританах» Беллини, а на «Армиду» Россини у нее было вообще всего пять дней; однако то, что она приняла этот вызов и справилась с ним, свидетельствует о высочайшей степени технической подготовки, которая позволяла одолеть самые замысловатые сложности бельканто.
Однажды заявив о себе, она смогла, по крайней мере в Милане, Флоренции, Венеции, Лондоне и Чикаго, петь в постановках, излучавших все то, что должно излучать настоящее художественное событие – жажду совершенства, которую с ней разделяли многие из ее коллег. Совершенство – какое несовершенное в силу своей абстрактности понятие! Говорить нужно о выразительности, о лихорадочном стремлении творить искусство и преображать «заурядную трагедию» (Ингеборг Бахман) в одно из тех событий, что объединяют великий замысел тех, кто его осуществляет, со способностью воспринять его теми, кто его переживает.
Вечером 28 мая 1955 года... ах нет, это происходит сейчас, мы можем это слышать, потому что время возвращается в вечность, итак, тогда и вчера, и сейчас, и завтра, и через десять лет мы переживаем момент, описанный Карло Марией Джулини, который дирижировал тогда и будет дирижировать завтра, момент, когда он закончил прелюдию к "Травиате" и занавес медленно пополз наверх под звуки аллегро, сопровождающего сцену бала: "Мое сердце замерло на мгновение. Я был зачарован красотой, представившейся моим взорам. Это было самое волнующее и превосходное оформление, какое я когда-либо видел в своей жизни. Каждая деталь созданных Лилой де Нобили декораций и костюмов казалась частью другого мира, мира непостижимо достоверного. Иллюзия искусства – или искусственности, ибо театр есть искусственный мир, – рассеялась. Всякий раз, когда я становился за дирижерский пульт на этой опере, меня заново охватывало это чувство – больше двадцати раз за два сезона. Тогда реальностью для меня становилась сиена. То, что было за мной, – публика, зал, сама "Ла Скала", – все это казалось мне поддельным, а то, что происходило на сцене, было правдой, было самой жизнью".
Именно этот спектакль так восхищал Ингеборг Бахман. «Она единственная, кто, выходя на сцену в течение этих десятилетий, заставлял слушателей леденеть, страдать, содрогаться, она всегда была искусством, самим искусством...» Именно в этой постановке воплотилась мечта Лукино Висконти о совершенной актерской игре: «Я поставил „Травиату“ для нее одной, не для себя. Я сделал это в угоду Каллас, ибо Каллас должно угождать. Лила де Нобили и я перенесли действие оперы в коней прошлого века, в 1875 год. Почему? Потому что Мария Каллас прекрасно смотрелась в костюмах той поры. Она была высокой и худой – просто заглядение, если одеть ее в платье с узким верхом, кринолином и длинным шлейфом. Что касается моей режиссуры, то я попытался придать Каллас что-то от Дузе, что-то от Рашель, что-то от Бернар. Но прежде всего я думал о Дузе».
Это была та выразительность, о которой сценограф Сандро Секуи сказал: «Висконти научил нас верить тому, что мы видим, но он сказал также, что правда должна пройти сквозь фильтр искусства. И хотя все в его „Травиате“ выглядело бесподобно реалистичным, оно не было таковым. Большинство театралов Италии считают Лилу де Нобили величайшим сценографом в мире благодаря ее чудесной способности кристаллизировать атмосферу. Ее творения создают иллюзию правдоподобия, но правдоподобия живописного полотна, правдоподобия с поэтической дистанцией. Она умеет создавать атмосферу, выходящую за пределы реальности. Я помню огромную люстру в первом акте: она была не настоящая, а нарисованная и оклеенная шелком, газом и тюлем. Когда на нее попадал луч света, она казалась реальной. Так же дело обстояло и с большими восточными вазами и гардинами: они не имели никакого отношения к подлинным шедеврам восточного искусства, однако все верили в их аутентичность. На всем спектакле в целом лежал оттенок декаданса, и это было правильно. Висконти и де Нобили запечатлели незабываемую мечту о „прекрасной эпохе“».
Именно эта постановка стала плодом скрупулезной и вдохновенной, приносящей радость и мучительной работы. Карло Мария Джулини: «В этом спектакле Каллас пела и играла с такой легкостью, словно находится у себя дома, в квартире, а не в театре. Это было неотъемлемой частью нашей постановки, нашего видения Виолетты: ведь публика должна была верить всему, что она делала. В первом акте Каллас была одета, как все остальные куртизанки, и вела себя соответственно, но ее окружала некая мистическая аура, выделявшая ее среди других. Не то чтобы она была лучше ос вешена или на ее долю приходилось больше действия, нет, она просто обладала загадочным магнетизмом....Перед тем, как я начал музыкальные репетиции с солистами, хором и оркестром, а Висконти стал репетировать с артистами на сцене, мы долгое время работали с одной Марией. Мы втроем оттачивали ее мастерство, полное единение слова, музыки и действия. Помимо того, что Висконти просто театральный гений, он еще и удивительно чувствует итальянскую романтическую оперу. Каждый жест Марии он выводил из музыкального контекста. Особое внимание мы уделили душевному состоянию Виолетты, попытались проникнуть во внутренний мир этой маленькой хрупкой женщины и обнаружили при этом тысячи мельчайших нюансов. Я убежден, что ни один из тех, кто видел Марию в „Травиате“, никогда этого не забудет, точно так же как невозможно забыть красоту Гарбо в „Камилле“. Все были взволнованы и тронуты....Что касается пения Каллас, то до сих пор я работал с ней только один раз – четыре года назад, в Бергамо, в один из вечеров, когда давали „Травиату“; это был мой самый первый спектакль. Ее в последний момент попросили заменить Ренату Тебальди, которая пела в премьере. У нас даже не было времени разобрать партитуру на рояле перед представлением. Пела она, разумеется, великолепно – тогда она была очень полной, – но ее Виолетта в „Ла Скала“ была совсем другой – с богатым внутренним миром, очень нежной. Когда она, Висконти и я готовили роль, шаг за шагом, она находила все новые краски в своем голосе, все новые средства музыкальной выразительности – благодаря новому пониманию натуры Виолетты. Все смыкалось. Могу лишь подчеркнуть, что это был медленный, изнурительный, кропотливый труд, труд не ради массового успеха, а во имя раскрытия всех возможностей театральной выразительности».
Оно было и остается это желание – а любое желание жаждет вечности, глубокой, глубокой вечности – болезненное желание творить искусство. Джулини: «Мария не знала, что такое капризы или рутина, даже если ей приходилось сто раз проделывать одно и то же. Она относится к немногим артистам, известным мне среди певцов, музыкантов и дирижеров, для которых последний спектакль не менее важен и волнителен, чем первый. Все остальные – и в этом беда театра – уже после премьеры, самое большее после нескольких представлений, теряют вкус к спектаклю. Уверяю вас, что для Марии восемнадцатая „Травиата“ была не менее захватывающей, чем первая. Конечно, какие-то спектакли были удачнее других – певец ведь не машина. Но одно оставалось неизменным: Мария полностью отдавалась своей работе и театру, ее переполняло желание что-то дать публике. Ее вдохновение чувствовалось не только в кульминационные моменты, в знаменитых ариях или дуэтах, но даже тогда, когда она в речитативе звала служанку. Это могло тронуть сердце любого».
Она была и есть единственная актриса, всегда появлявшаяся на сцене по праву, в то время как ее партнер, Джузеппе ди Стефано, скучал во время репетиций нежного любовного признания и в скором времени начал опаздывать, а то и вовсе не являлся на репетиции. Висконти: «Марию раздражало подобное поведение. „Это неуважение ко мне и отсутствие порядочности, даже по отношению к самому себе“. Она была и есть тот рычаг, что повернул землю к слушающим и глядяшим».
Сценограф Пьеро Този, двумя месяцами раньше оформлявший постановку «Сомнамбулы» Беллини: «Первая декорация де Нобили, выполненная в траурных цветах – черном, золотом и пурпурном, – наполняла атмосферу предчувствием смерти Виолетты. Висконти придал неповторимую индивидуальность каждому хористу, каждой куртизанке. Гастона он сделал экспансивным гомосексуалистом. Беспорядочная неразбериха на сцене походила на настоящий кутеж с его грубоватой разнузданностью. На заднем плане был павильон, и, таким образом, гости Виолетты могли уходить туда за едой и естественным образом возвращаться на сцену. Во время дуэта „Un di felice“ влюбленные оставались одни; на Каллас было черное вечернее платье и длинные белые перчатки, в руке она держала маленький букетик фиалок. Когда Альфред признавался ей в любви, она медленно отворачивалась от него и шла к просцениуму... Руки в белых перчатках она держала за спиной, напряженно вытянутыми. В таком положении Альфред и обнимал ее. Букетик падал на пол. Незабываемо трогательно. Театральная прелесть....После ухода гостей опустевшая зала становилась похожа на кладбище: полуувядшие цветочные гирлянды, стол, напоминающий поле боя, салфетки и вееры на полу, перевернутые стулья. Входила служанка Аннина и гасила люстру и свечи, а Каллас тем временем опускалась в кресло у камина, закутанная в широкий шарф, в отсветах пламени. Снимая украшения и вынимая шпильки из волос, рассыпающихся по плечам, она пела „Ah, tors' e lui“. Потом вставала, подходила к столу; садилась, откидывала голову и сбрасывала туфли с ног – точь-в-точь Нана Золя. Здесь голос Альфреда прерывал ее пение. Она не понимала, откуда взялся этот звук, звучит ли он в ее воображении или в реальности. Ища источник звука, она бежала к веранде. Казалось, в этот момент зрители могли слышать биение ее сердца».