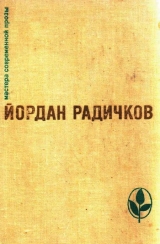
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
– Ну-ка, поглядим, что там, на этих подводах…
В его взгляде была подозрительность и некоторая важность – вероятно, благодаря небрежно висевшему на плече оружию. Он шел не торопясь, повторял одно и то же, но вдруг остановился и замер, чуть наклонившись вперед и к чему-то прислушиваясь. Цыгане, оказавшиеся с ним рядом, повернули головы и тоже стали прислушиваться.
А услышал патрульный конское ржание. Казалось, в этом не было ничего необычного или загадочного, но с чего было так напряженно вслушиваться, но патрульный вслушивался.
– Дорчо, Дорчо! – крикнул он, на его зов с готовностью откликнулась лошадь.
Тогда патрульный резким шагом двинулся к середине каравана и там, возле одной из телег, увидал привязанную лошадь, она стояла боком, высоко задрав голову и прядая ушами, и в упор смотрела на патрульного.
– Это ты, Дорчо? – спросил патрульный, лошадь мотнула головой и весело заржала, а у патрульного лицо стало злым и грозным. Еще более злым и грозным голосом он спросил, чья это лошадь.
Перед ним тут же вырос тщедушный цыган, одно плечо выше другого, огромные уши стоят торчком.
– Это ты мою лошадь угнал? – спросил патрульный, но не расслышал ответа, потому что весь табор загудел, как пчелиный улей, со всех телег пососкакивали люди, и все в голос заорали – как это можно, что мы – воры, что ли, все лошади тут наши кровные, как это мы на чужих лошадей позаримся, наши лошади все до единой одинаково моченые, вон, сразу видать, у всех одно ухо надсечено, и у этой лошади тоже надсечено, ежели лошадь не пометить, животное ведь, того и гляди, заплутает ночью на пастбище и, о господи! – господа поминали, главным образом женщины, – раз мы цыгане, так каждый думает, что мы разбойники.
Хозяин угнанной лошади обошел ее кругом, похлопал по холке и вдруг обнаружил, что одно ухо у нее надсечено и свежая рана еще кровит.
– Это ты мне лошадь покалечил? – взревел он и, взмахнув ножом, рассек ухо стоявшего перед ним цыгана.
Тот схватился рукой за рассеченное ухо, завопил во всю мочь: «Убили, зарезали!» – и упал в дорожную пыль, корчась и дергаясь так, будто его и впрямь проткнули ножом насквозь. Вопль прокатился по всему табору, цыгане все разом ощетинились, Мустафа забегал, заметался, точно серый дух, алый платок на его шее хлопал на ветру. Патрульного с небрежно висевшим на плече карабином мгновенно обступили со всех сторон, щуплые цыгане сжимали в руках ножи и топоры, глаза полыхали огнем, и патрульный почувствовал, что этот огонь прожигает на нем рубаху. Он поспешно отпрянул, сминая спиной кукурузные стебли, рубаху уже больше не прожигали, и он рванул с плеча карабин.
– Ни с места! – рявкнул он изо всей силы, и такая это была страшная сила, что трудно сказать, что нагнало на цыган больше страху – хриплый этот крик или последовавший за ним выстрел в воздух. (Этот-то выстрел и услыхал сержант Иван Мравов, когда возвращался с железнодорожной станции. Он остановился, прислушиваясь, не последует ли второй выстрел из боевого карабина. Считаю своим долгом сообщить читателю, что, пока Иван Мравов стоял неподвижно, не снимая ноги с педали велосипеда, весь табор тоже стоял неподвижно, прикованный к месту звуком выстрела. И крестьянин с парализованным пареньком тоже, и даже распряженные буйволы стояли возле дышла не шевелясь, словно они были не живые, а истуканы чугунные.)
Только цыганенок с медведем продолжали шагать по широкому междурядью мимо стеблей кукурузы, спотыкаясь о бугристые желтые тыквы. Цыганенок и медведь вынырнули из кукурузы как раз там, где стояли буйволы. Парализованный паренек первый заметил их и радостным возгласом приветствовал медведя. А отец паренька, обернувшись, в первую секунду от удивления мог только вымолвить: «А!»
Он хотел было шагнуть назад, к своей телеге, но помешали буйволы. Черные тяжелые животные, которые до той поры стояли на месте как прикованные, тут громко запыхтели, задвигали ушами и хвостами, а еще через мгновение будто какая-то потусторонняя сила подтолкнула их, и они понеслись на медведя, трубя в свои иерихонские трубы. Медведь только разок повернулся на месте и вмиг избавился от своей неповоротливости. Он сильно дернул цепь и косматым черным клубком покатился на буйволов. Треск, топот, рев хлынули по Илинцу, смолкло журчание воды в чешме, родник, питавший ее, захлебнулся, холм Илинец тоже дрогнул, задрожали три вяза на его вершине вместе с топографической вышкой, даже молельный камень и тот слегка вздрогнул, с римских развалин посыпались пепел и пыль. Цыгане, патрульные, отец больного паренька, и сам паренек, и сороки – все повернули головы в одном направлении, все смотрели, как через покрытые росой поля и луга, через кукурузное поле, подсолнухи и люцерну мчится огромными прыжками медведь, а за ним с ревом и пыхтеньем несутся два буйвола, похожие на стенобитные машины.
Прошло немало времени, прежде чем вся природа вокруг стряхнула с себя оцепенение, вода в чешме вновь зажурчала, опять зашумели листвой вязы на холме, а отец больного паренька догадался, придерживая шапку рукой, кинуться за буйволами вдогонку. «Дело это так оставлять нельзя», – решили, очнувшись, сороки и полетели над полем вслед за хозяином буйволов.
3
Чуть выше я упомянул о монастырском клепале, а теперь обстоятельства заставляют меня вернуться немного назад, чтобы бросить, пусть мимолетный, взгляд на монастырь, тем более что там уже несколько дней крутился какой-то странный народ, хотя я бы не назвал их подозрительными, как выразился сержант Иван Мравов (профессия вынуждала его быть особенно бдительным). Если бы за этот район отвечал сержант Антонов, он выразился бы еще суровее, назвал бы этих людей сомнительным сбродом, отребьем и в двадцать четыре часа без лишних слов очистил бы от них весь монастырь.
Монастырь – это, конечно, чересчур громко сказано, потому что речь идет о маленькой церквушке, окруженной приземистыми хозяйственными постройками, где некогда держали домашний скот, а теперь из распахнутых настежь ворот веяло мраком и запустением. Имелась там также заброшенная сушильня для слив, пристройка, где жили монахи, с деревянной верандой, к которой вели несколько ступенек; в глубине двора приютилась пасека со старыми островерхими ульями, похожими на капюшоны, чешма с одним краном, а возле чешмы – дощатый помост, на котором висело клепало. Через несколько лет после войны старый набожный игумен умер, был он единственным хранителем святой обители, какое-то время церквушка стояла на запоре, но, когда начали обобществлять землю, епархиальный совет прислал монаха – видимо, из опасения, что село Разбойна позарится на небольшой участок земли при церкви и присоединит его к сельхозкооперативу. У монаха была багровая физиономия и глаза фанатика. Сразу по прибытии он поставил у окошка своей кельи швейную машинку и целыми днями вертел колесо и что-то шил. Все, какие были в селе верующие, по большей части женщины постарше, потянулись поглядеть на нового монаха, как он там шьет на швейной машинке. Лицо монаха говорило скорее о постоянной физической боли и неудовлетворенности, чем о неудовлетворенности и боли духовной. С помощью своих людей, которых он называл добровольцами, сержант Иван Мравов все разузнал о новом монахе, не заглядывая в монастырь – впервые он побывал там всего лишь неделю назад.
Неделю назад молодой сержант вошел в монастырские ворота, катя перед собой велосипед, остановился возле дощатого помоста с клепалом, снял фуражку и не успел еще вытереть потный лоб, как из пристройки показался монах, который был счастлив, по его словам, приветствовать в святой обители народную милицию, и вообще он, дескать, счастлив повидаться с милицией, потому что, хотя и разным оружием, все мы, по сути, служим одному и тому же богу, то есть хотим сохранить национальный дух, единство всех болгар, как это делали наши прадеды, сохранявшие и защищавшие болгарский дух во времена чужеземного ига. Разговор получился в высшей степени любезный. Слушая монаха и отирая со лба пот, Иван Мравов с удивлением обнаружил, что монах примерно одного с ним возраста. «Это надо ж, в такие молодые годы заточить себя в этой дыре!» – дивился он, озирая запустелую древность, громко именовавшуюся святой обителью. Монах тоже с удивлением обнаружил, что они с милиционером почти ровесники, и не понимал, как это молодой парень может закабалить себя милицейской формой.
По словам монаха, монастырь был основан еще при царе Иване Шишмане [4]4
Иван Шишман (годы правления 1371–1393) – последний царь независимой Болгарии до ее порабощения Османской империей.
[Закрыть]. Иван Шишман построил множество таких христианских сторожевых пунктов, так сказать, опоясал свое царство христианской верой, дабы защитить его с помощью креста и бога. Много раз турки-разбойники и черкесы разрушали и сжигали монастырь, но он снова отстраивался и восставал из пепла, и если сержант полюбопытствует, то увидит, что в церкви и сейчас хранится много старинных икон.
Монах долго вертел ключом в замочной скважине, но наконец отпер двери и повел Ивана Мравова смотреть иконы и обратил его внимание на акустику. Из икон он остановился главным образом на святом Димитрии, который верхом на красном копе пронзал копьем зеленого дракона. На хвосте у дракона плясал дьявол, дракон изрыгал на святого алые языки пламени, но тот благодаря своей святости и своему копью поражал дракона насмерть. Все это символизировало превосходство сил Добра над силами Зла. Далее на иконе изображалось освящение хлеба. Иконописец изобразил на столе плоды человеческого труда, что показывает, как близко стоял старый мастер-богомаз к народу и его труду.
– Мы вообще почитаем труд добродетелью, – объяснял монах. – Впрочем, вы это знаете не хуже моего, потому что новая власть провозгласила: «Кто не работает, тот не ест». Мы все должны работать, я вот тоже целый день ломаю глаза и гну спину за швейной машинкой. Наши апостолы явили нам свой личный пример, и нам должно ему следовать, если мы хотим быть достойными своего имени.
– А известно ли вам, – спросил он чуть позже, когда они уже вышли из церкви, – что святой апостол Павел самолично ткал холст, из которого шили одежды для других апостолов?
Ивану Мравову это было неизвестно, в чем он откровенно признался, улыбаясь смущенной, ребячьей улыбкой. На прощанье он пообещал монаху заглядывать, когда случится проезжать мимо, обещание свое сдержал и за одну неделю дважды наведывался в монастырь. Во второй раз он застал здесь чужой народ, тех самых слегка подозрительных сборщиков лекарственных трав, черепах, грибов и прочего, о которых мы не так давно уже сообщили читателю.
Когда цыгане поили в реке своих лошадей и ополаскивали лица водой, от чего они стали только еще смуглее, монах без особого рвения звонил в клепало. Сборщики лекарственных трав к тому времени уже проснулись – кто лежал, кто сидел на веранде, некоторые курили и переговаривались между собой хриплыми спросонок голосами. Монах кончил звонить, пошел к чешме умыться, он был с непокрытой головой, волосы густые, длинные, черная борода. Вынув из-под рясы гребешок, он долго расчесывал свою гриву, перхоть мелкими точечками падала на плечи. Тщательно расчесав и разложив шевелюру по плечам, монах занялся бородой. На веранде чей-то сиплый голос убеждал кого-то, что не может ветеринарная лечебница сегодня тоже быть закрытой, но другой, такой же сиплый, голос выражал сомнение, потому что, говорил он, теперь вся ветеринарная лечебница в разгоне из-за ящура.
Эти двое были не местные, пастухи, накануне пришедшие в село Разбойна. Они принесли мешки с отрубленными свиными хвостами, чтобы в лаборатории ветлечебницы проверили и убедились, что у свиней нет никакой заразной болезни, и разрешили пустить свиное стадо в Кобылью засеку, где много желудей. На постоялом дворе мест для ночлега не оказалось, поэтому пастухи попросили крова в монастыре. Один из них говорил:
– И нынче тоже будем дожидаться, только вот не знаю, как бы проклятые эти хвосты не того…
А другой отвечал:
– Они, наверное, уже давно «того-этого».
На что второй говорил рассудительно:
– Того – не того, а пускай в лечебнице поглядят и выдадут справку, что у наших свиней чумы нету.
– Да ведь у нас нет бумаги, что они наши, – возражал второй, а монах расчесывал бороду и мысленно твердил, имея в виду пастухов со свиными хвостами: «Нищие духом, нищие духом…»
Спрятав расческу, он вышел на середину двора, вся его фигура излучала благолепие, вокруг жужжали пчелы, в воздухе реяли пушинки одуванчика, тихонько журчала чешма, сверкали в траве капельки росы, краснокрылая бабочка сделала вираж, но села не на траву, а на оштукатуренную стену церквушки. Вселенский свет заливал весь двор, он не струился, а бесшумно обрушивался с неба и оседал в кронах отцветших лип и старых яблонь. Казалось, в любое мгновение мог слететь сюда с небес ангел, прошелестеть крылами и, устало опустившись на траву, заморгать своими круглыми птичьими глазами.
Однако не ангела увидел монах, а нечто совсем иное, пугливо влетевшее в потоки света, бесшумно прятавшиеся в ветках деревьев. Думаю, подобные видения посещали только библейских старцев; в первую секунду монах оцепенел, только тщательно расчесанные его волосы чуть приподнялись, а зрачки расширились, чтобы охватить представшее глазам зрелище во всей его глубине, противоестественности и эпичности, ибо зрелище было воистину противоестественным и эпическим, почти как если бы началось второе пришествие. И еще противоестественнее выглядело все потому, что в тот миг, когда крохотная обитель божья рушилась, в нескольких шагах от монаха хриплые мужские голоса спокойно, равнодушно и буднично уговаривали друг дружку – мол, если эти проклятые хвосты в мешке окончательно «того-этого», то придется побросать их и сходить за другими, потому что…
Монах не смог уразуметь почему, если хвосты «того-этого» и так далее, не хватило времени. Через сотрясаемую, ходившую ходуном обитель, сминая высокую траву, прямо на него, грозный и лохматый, как грозовая туча, только без молний и грома, несся медведь. Руки у монаха вскинулись кверху – то ли к богу он их протягивал, то ли хотел показать, что сдается, про то, дорогой читатель, ни я, ни он сам сказать не в силах. Зверь одним махом повалил его в траву, вопль монаха прокатился по всей обители, все подозрительные личности повыскакивали спросонок на веранду и увидели, как монах, точно кошка, вскарабкался на помост, где висело клепало, прижался к столбу, безумно поводил глазами, указывал на что-то рукой и широко разевал рот, хотя оттуда не исходило ни единого звука. Подозрительные личности, а также пастухи со свиными хвостами увидели, как медведь по дороге перевернул все ульи на пасеке, разметал сухую медовку в заброшенной сушильне для слив и с ревом влетел в распахнутую дверь старого хлева, где раньше, должно быть, держали коз.
– Медведь! – смог наконец вымолвить осипший монах, черной кошкой скатился с помоста и плюхнулся в траву.
Сгрудившийся на веранде народ разом засуетился, закричал: «Водой его, водой надо сбрызнуть», – но тотчас же и с той же быстротой, с какой соскочил с веранды, кинулся назад, не разбирая ступеней, перемахивая через перила, позабыв и про монаха, и про воду, которой хотели его побрызгать, чтобы он очухался. Монах, в сущности, не был в беспамятстве, он просто окаменел, впал в оцепенение, ни рукой, ни ногой не мог шевельнуть, только глазами ворочал во все стороны и так их выкатил, что толпившимся на веранде людям казалось, будто перед ними только и есть, что перепуганное, заросшее буйной растительностью лицо, а на том лице два концентрических круга, вращающиеся в адском ужасе.
А убрались они назад, на веранду, потому, что увидали, как прямо на них мчатся два обезумевших буйвола, с налитыми кровью глазами, куда кровожадней медведя, и, когда они пронеслись под верандой, ноги у всех затряслись так, что посыпалась штукатурка. Черные стенобитные машины грозно трубили и пыхтели, как два мощных паровоза, грудью и копытами они прикончили остатки пасеки и почти одновременно влетели в распахнутую настежь дверь заброшенного хлева. Они унесли внутрь хлева и саму дверь, и стояки дверного проема, раздался оглушительный треск – ломались сухие доски, разнесся рев, запахло свежепотоптанной травой, сухой медовкой, просочился также и медвежий запах. Пчелы, мирно жужжавшие над святой обителью, попадали в траву… Пушинки одуванчика вздрогнули, но удержались в воздухе…
Несколько человек спрыгнули с веранды, подняли монаха и чуть не на руках доставили в безопасное место за перилами. Дорогой он вдруг зашевелил конечностями, но не было в его движениях ни порядка, ни толку, он просто взмахивал в воздух хе руками и ногами, как заводная игрушка, в которой вдруг пришли в действие все пружины разом и каждая вертит свой механизм, не считаясь с другими. Монаха прислонили к стене и принялись извлекать из своих бездонных мешков топоры с короткими топорищами – острия обмотаны тряпками, чтобы не распороть мешковину; короткие железные ломы для выламывания камней в каменных карьерах, известные в физике как рычаги первого рода; солдатские лопатки для рытья окопов, разный шанцевый инструмент – и сразу превратились из безобидных сборщиков лекарственных трав и черепах, дикорастущих плодов и грибов в вооруженную до зубов банду. Не хватало только огнестрельного оружия, чтобы банда была полностью вооружена.
Подозрительные личности вооружились на глазах потрясенного монаха, их взгляды были прикованы к хлеву, который ходил ходуном, как при землетрясении. Несчастная постройка от старости и без того еле держалась на ногах, сейчас ее всю трясло и раскачивало, иссохшие ее кости трещали и разламывались, из дверного проема валил дым, потом вдруг все стихло, стук и треск прекратились, слышно было только тяжелое дыхание, сильно запахло сухим конским навозом, валившая из двери туча пыли все густела, и, к всеобщему изумлению, оттуда, чихая, вылез черт. Он держал под мышкой дохлую сороку, на физиономии у него было написано крайнее огорчение. Не переставая чихать, он пересек двор, его внимание привлекла застывшая на белой оштукатуренной стене бабочка, черт направился к ней, сердито стуча копытами, они выглядывали из штанин, каждое в пядь величиной. Подойдя к бабочке, черт взмахнул лапой и схватил ее. В тот же миг из его лапы взметнулся огонь, бабочка обуглилась, черт стряхнул с лап хлопья сажи, они легко, словно бабочка, вспорхнули и улетели, черт продолжал тереть и отряхивать лапы, сажа продолжала слетать с его лап и разлетаться вокруг, а потом все увидали, как у черта исчезли копыта и он остался висеть над травой, упираясь в воздух пустыми штанинами. Потом штаны тоже обуглились, как обгоревшая бумага. Черт, теперь уже безногий, двигался по воздуху, сжимая под мышкой дохлую сороку, а потом взвился вверх и исчез за монастырем.
Никто не шевельнулся, все, затаив дыхание, ждали, что произойдет дальше. А дальше, скажу я вам, произошло нечто, изумившее всех куда больше, чем появление черта или происшествие с бабочкой.
В монастырский двор вошел человек, обутый в постолы на босу ногу, в руках он нес пустой, старинной формы улей, а под мышкой – дохлую сороку. Наиболее сильное впечатление произвела на всех сорока. Человек поздоровался самым человеческим образом и спросил, не пролетал ли возле монастыря пчелиный рой, потому что один рой у него совершенно неожиданно начал роиться и во главе с маткой улетел. Прошлый год один рой у него улетел таким же манером и так и не нашелся, погиб где-то среди лип и дубов Кобыльей засеки. А дохлая эта сорока, сказал человек, валялась на траве у церкви, надо ее привязать где-нибудь под стрехой, чтоб отпугивала других сорок, потому что эта погань, сороки, день-деньской только и знают, что летают да выискивают куриные насесты, смотрят, нельзя ли где утянуть яйцо, а когда дохлую сороку привяжешь, то остальные боятся и держатся подальше.
Он все еще растолковывал, как отпугивать сорок, которые вертятся возле куриных насестов, когда во дворе появился второй человек, тоже в постолах на босу ногу, в руке он держал кепку, на макушке сверкала большая плешь. Этот всех удивил не только плешью, но и тем, как сильно он запыхался. Он поздоровался прерывающимся голосом и спросил, не видали ли они тут двух буйволов, а следом за ним появился босой цыган с босым цыганенком и, поздоровавшись, спросил, не видали ли тут медведя.
– Вы что, насмехаетесь над нами, – сказал человек с дохлой сорокой, – спрашиваете, не видали ли мы медведей да буйволов?
Теперь пришел черед удивляться человеку с дохлой сорокой, потому что все, кто был на веранде, включая монаха, ответили, что видали и медведя, и буйволов, что те набросились прямо на них, и только чудом дело обошлось без жертв, а потом влетели в заброшенный хлев, все там переломали, такой стоял рев и треск, хлев чуть в щепки не разнесли, из дверей валила пылища, до того густая, что не разглядеть, медведь ли сожрал буйволов или буйволы сожрали медведя!
Услышав такое, человек выронил из рук свой улей, однако дохлую сороку не выронил и вместе с ней взбежал на веранду. Вооруженный до зубов холодным оружием народ малость отодвинулся и воззрился, но не на него, а на дохлую сороку.
– В чем дело? – ничего не понимая, спросил человек.
Он смотрел то на незнакомых людей с холодным оружием, то на сороку, к которой были устремлены пристальные взгляды всех присутствующих, их волнение передалось ему, он выпустил сороку из рук, а когда та упала на дощатый пол, удар был такой оглушительный, словно это не дохлая сорока упала, а чугунное ядро. В ту же секунду кто-то громко завизжал и завертелся, как дервиш, вокруг своей оси.
Позже выяснилось, что, когда человек, у которого улетел пчелиный рой, выронил из рук дохлую сороку, перепуганный тем, как все на нее уставились, один из сборщиков грибов или трав выронил железный лом прямо на ногу стоявшего с ним рядом человека, и этот железный лом громыхнул об пол, а завизжал и завертелся, как дервиш, тот, кому ушибло ногу.








