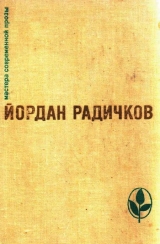
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Милойко
«Видишь, Милойко, – сказал мне Леко Алексов, – как бритва стало долото…» Но только он стукнул молотком по долоту, камень раскололся пополам, будто его взорвали порохом; и только увидел я, как Леко Алексов побледнел и как глаза у него тоже побледнели, я тут же понял, кто погубил дядю Ангела и тетю Василку, кто выдал их полиции. И я тут же на месте сказал Леко Алексову, что рука предателя не могла не дрогнуть… Предатель может обуздывать свою руку, он и себя может обуздывать и сдерживать, но все равно когда-нибудь дрогнет и одним движением выдаст свою тайну.
Я стегнул мулов, пустая телега затарахтела по улице, но я не слышу ее тарахтенья, я слышу только треск камня, расколовшегося пополам. Мулы остановились у моих ворот, стоят, поводят ушами, помахивают хвостами, а я и не догадываюсь сойти и открыть ворота, чтобы завести телегу во двор. Сижу себе в телеге и думаю: не может предатель делать памятник герою, все силы природы станут у него на пути, сам памятник станет у него на пути и не допустит этакого. Дядя Ангел и тетя Василка для нас святой пример, и памятник им можно делать только чистыми руками. Даже камень, какой он ни холодный и ни бесчувственный, не позволяет нечистым рукам до себя дотронуться!
И еще я думаю, сейчас ли пойти куда надо и обо всем рассказать или оставить это дело до утра. Когда дядя Ангел и тетя Василка сгорели в пекарне, я пытался дознаться, кто их предал, толкался повсюду, прислушивался, даже в полицию ходил несколько раз и там тоже слушал – не удастся ли за какую ниточку ухватиться. Когда мои мулы нагружены дровами, мне повсюду легко пройти. В полиции предлагаю три поклажи дров, два постоялых двора у нас есть – и там предлагаю, и в казармах, и в офицерской столовой останавливаю мулов и предлагаю офицерам дрова. Так что я всюду проникал со своими мулами – где просто послушаю, где порасспрашиваю. Но так ни до какой ниточки и не добрался. После Девятого сентября наши перерыли все архивы, нашли в них имена провокаторов и доносчиков, но по делу дяди Ангела ничего не нашли. Я знаю, что все тайное в этом мире становится явным и что в один прекрасный день предательство обнаружится… И вот – камень сам раскололся и указал на предателя.
Слез я с телеги, завел мулов во двор. Распряг скотинку и, пока переносил упряжь в сарай, решил завтра с утра пойти рассказать обо всем этом деле или в милиции, или в партийном комитете, потому что и партия, и милиция ломают себе голову и никак ни до какого следа не доберутся. И с дядей Флоро то же самое получилось. Дядя Флоро возил глиняную посуду по деревням, держал связь с партизанами, но его выдали, и он был убит на мосту. Дядя Флоро погиб, детишки малые остались, жена осталась хворая, не работница, ей детишек никак одной не прокормить. Купил я тогда у нее Флорову телегу, а старшего из ребят стал с собой в горы за дровами брать. Телега у дяди Флоро вся разрисована – тут и повстанцы, и башибузуки, но боковины ведь и под дождем мокнут, и солнце их печет, так что краска потрескалась, и теперь уже трудно понять, где там нарисованы повстанцы, где башибузуки, а где пароход. Если когда-нибудь дойдут у меня до этого руки, я дам телегу тележному мастеру, чтоб он выкрасил боковины, а потом заново нарисовал и повстанцев, и башибузуков, и дядю Флоро чтоб нарисовал посередке с берковским расписным кувшином в руках, и дядю Ангела с тетей Василкой чтоб нарисовал, как они с хлебом встречают отряд повстанцев и воеводу. Авось дойдут у меня когда-нибудь руки и до этого дела!
Ночью допоздна лежал я без сна в постели и все думал, как же это я не докумекал, что Леко Алексов – предатель! Через три дома живем, на одной улице, а не приходило мне в голову, что это он выдал дядю Ангела. Из его мастерской видна вся улица, мышь не пробежит незаметно. Он торчит у себя на дворе, постукивает долотом по камню и одним глазом наблюдает за улицей, дворами, домами, мастерскими и все видит – кто идет, кто куда входит и откуда выходит, кто что несет – и все перед ним как на ладони. Вот ведь, через три дома живем, а я до сих пор не догадался, что когда Леко Алексов обтесывал камни у себя во дворе и щурился будто для того, чтоб ему осколок в глаз не попал, так на самом деле он щурился, чтоб лучше видеть, кто куда идет и на кого надо донести в полицию! «Смотри-смотри, – думаю я, и меня охватывает злоба, – завтра будешь через решетку смотреть, а когда в землю тебя зароют, никто тебе креста каменного не вытешет, и где твоя могила, никто знать не будет!»
С этими мыслями стал я засыпать, но только задремал, слышу – в окно сильно стучат. «Милойко! Милойко!» – зовет кто-то с улицы. «Кто там?» – спрашиваю и сажусь в постели. «Это я, я!» – говорит человек, который стучал. Но я его ни по голосу не могу узнать, ни по лицу, потому что на улице темно, да и я еще сонный. Встаю я, зажигаю лампу и иду открывать окно. Открываю и вижу освещенного лампой Леко Алексова, он все такой же бледный, как был вечером, когда камень раскололся у него под долотом, только глаза уже не белые, как тогда, а красные. На плече у него – железный лом, в руках – соломенная шляпа.
Я от удивления никак в себя не приду. Смотрю на него и молчу, и он смотрит на меня и молчит, но потом заговорил: «Насчет того, что вчера вечером случилось, ты, Милойко, неправ. Я не предатель, и рука у меня не дрогнула, а просто в камне гнилая жила была, и я как ударил долотом, в самую эту жилу и попал. Потому камень и раскололся, будто в него громом ударило. Да еще, признаться тебе, у меня потому язык отнялся, что я, когда дошел до имен, увидел, как Ангел и Василка подошли к ограде и остановились там посмотреть, как я буквы выдалбливать буду. Ангел держит большую пекарную лопату и смотрит мне в руки, как я буду камень долбить. И сейчас у меня все перед глазами стоит». Меня холодный пот прошиб, слова не могу сказать. А Леко Алексов все стоит в раме окна, и лампа освещает его до середины груди. «Вот я и пришел, Милойко, попросить тебя – поехали сейчас в карьер, подберем камень и привезем его, а я уж потом как сяду, день и ночь буду долотом работать, но памятник сделаю».
«Само собой! – сказал я тогда и стал искать по комнате свою одежду. – Ты ведь сейчас ехать хочешь?» – «Сейчас, сейчас, – говорит Леко Алексов. – Я и без того всю ночь глаз не сомкнул из-за страшных слов, что ты мне сказал, и теперь уж не сомкну глаз, пока не кончу памятник». – «Само собой!» – говорю я, а сам верчусь по комнате, надел рубаху – наизнанку, снял ее, снова надел – опять наизнанку. Хочется мне прямо среди комнаты упасть на колени и просить у него прощения за страшные слова. Не по себе мне, потому что я его мысленно уже за решетку упрятал, а вот он стоит, бедняга, у меня под окном, глаза красные от бессонницы, и хочет по самой темноте в карьер ехать, привезти камень для дяди Ангела и тетки Василки. «Само собой!» – кричу я громко, потому что никак других слов придумать не могу, и выскакиваю из комнаты – бегу запрягать мулов.
Мулы смотрят на меня с удивлением. «Вот сумасшедший! – думают они. – Нашел когда запрягать». И переступают копытами неохотно, фыркают и норовят ухватить Леко Алексова зубами за рукав. Понимают, видно, кто виноват, что я их так рано запрягаю, вот и норовят каменотеса укусить. «Отойди в сторонку, – говорю я ему, – как бы мулы со сна тебя за рукав не хватили». – «Я знаю, – говорит Леко Алексов и заходит сзади, чтобы положить в телегу железный лом, – мул, когда захочет, хуже собаки укусить может!»
Он залезает в телегу и приседает на корточки, придерживаясь обеими руками за боковины, а я вывожу мулов на улицу, закрываю ворота, сажусь к нему в телегу, и мы трогаемся. Нигде ни живой души, и окошко ни одно не светится, рано еще. Одно время я всегда об эту пору выезжал, нигде ни живой души, и окошко ни одно не светится, только в конце улицы видно, как пляшет пламя в пекарне дяди Ангела. «Доброе утро, дядя Ангел!» – «Доброе утро, Милойко, раненько ты сегодня выбрался!» – «Да приходится, – говорю, – лесничий не дает рубить дрова на старой лесосеке, вот мы и карабкаемся, как козы, до самых летних пастбищ. Пока туда доберешься да пока обратно, день и прошел». В пекарне тепло, приятно посидеть у огня, но дорога ждет меня, я беру когда хлеб, когда муку и ныряю в темноту. До восхода солнца всю горную росу успеваю собрать.
Леко Алексов, видно, о том же думает, потому что говорит мне: «Бывало, в это время Ангел печь растапливал. У меня ведь дом на таком месте, что мне все видно. На нашей улице тогда раньше светало, а сейчас, когда пекаря нот, позже светает, некому огонь разжигать и будить нас некому».
На развилке, где отходит дорога к карьерам, мулы остановились, не хотят к Беговице идти. Повернули ко мне головы, смотрят на меня – и ни с места, только хвостами помахивают. «Моих мулов иногда точно муха какая укусит, – говорю я каменотесу и взмахиваю кнутом. – Н-но! Н-но!»
Не желают мои мулы идти в карьеры. «Мулы, – говорит Леко Алексов, – упрямая скотина. По упрямству ослам не уступят…» Я и кнутом, я и уговорами, наконец мулы согласились и пошли, даже побежали легкой трусцой. Пустая телега, громыхая, подскакивает на камнях, мы оба молчим, потому как, чтоб разговаривать, надо кричать друг другу в ухо. В темноте перед нами забелели карьеры.
Я остановился и хотел развернуть телегу, а Леко Алексов спрыгнул со своим ломом и говорит мне: «Ты, Милойко, разворачивай телегу, а я тем временем камни погляжу». И он исчез среди каменных навалов, а я развернул телегу, расслабил упряжь и пошел его искать. Камня навалено много, впору и потеряться. «Леко! – окликаю я. – Леко!» Спустя некоторое время я услышал его голос. «Спасайся!» – кричит, и тут же сверху с грохотом покатились камни. Камни ударяются один о другой, искры летят, словно весь карьер сейчас вспыхнет, но камни не вспыхивают, а только мечут искры и лавиной устремляются на нас. Я, как кошка, метнулся в сторону, лавина погрохотала, погрохотала и, докатившись до более пологого склона, остановилась.
В то же мгновение словно кто-то крикнул мне в ухо: «Берегись, Милойко, убьют!» В следующий миг я увидел, что Леко Алексов с железным ломом в руке бежит по камням прямо ко мне. Он остановился, едва переводя дыхание, весь в поту. «Уф, чуть беда не случилась!» – сказал он и посмотрел на меня, прищурившись, будто боялся, что я хлестну его по глазам. «Один камень покатился, другие за собой потащил – опасное дело! Чуть в лавину не попал…» Смотрю я на него – дрожь его бьет, на лице – крупные капли пота. Пощупал я камень рядом с собой, камень тоже потный, холодный пот его ночью прошиб. «Поосторожней надо в темноте, давай здесь обойдем», – говорит он и ведет меня за собой.
Я карабкаюсь или пробираюсь между кучами камней, но сам настороже и готов отбиваться, если тот повернется ко мне и занесет свой лом. Теперь я уже точно знаю, кто был предателем. Я единственный свидетель того, как раскололся памятник. Он всю ночь не спал и решил зазвать меня в карьер, а там столкнуть на меня камень или, если не выйдет, ударить меня железным ломом, а потом вызвать каменную лавину и меня завалить… Я незаметно подбираю по дороге обломок камня с острыми углами, словно это кусок стали. Сжимаю его в руке.
Он нагревается, рука потеет. Я начеку. Смотрю вниз, на дорогу: внизу, в темноте, едва видно телегу и мулов. Потом мне приходит в голову: не попробовать ли закричать, но городок далеко, никто меня не услышит, да и темно в городке, ни одно окошко еще не светится. «Этот камень опасный, – говорит мне Леко Алексов, – обойди его». – «Ладно», – говорю я и обхожу камень, а сам по-прежнему начеку. «Камень, – слышу я его голос, – все равно что дикое животное. В любом зверь сидит либо стихия дремлет. Коли есть у тебя на то глаз, увидишь, в каком камне зверь притаился, в каком – скотина. Вон из той глыбы лошадь можно вытесать, вставшую на дыбы, барана тоже можно вытесать, только не из большой глыбы, а из другого камня, который рядом». – «Конечно, – говорю, – но для этого дела глаз нужен. Я в дереве разбираюсь, знаю, какое на дрова годится, какое на доски пойдет – пол настилать, какое для столярной работы, а в камне ничего не смыслю. Знаю только, что в народе говорится, будто под камнем зло спит, и, если камень сдвинуть, зло вылезет». – «Уж и зло! – смеется Леко Алексов. – Лягушка может вылезти, либо ящерица, или козявка какая». – «Или змея», – говорю я. «Или змея, – соглашается Леко Алексов, – но змея редко… Вот этот камень для памятника подходит!»
Он подложил лом, нажал, и камень перевернулся несколько раз, подминая и круша мелкие камни. «Иди теперь за мной, да поаккуратней, чтоб нам снова лавину не разбудить!»
Леко Алексов начинает своим ломом толкать глыбу, катить ее к дороге, я, спотыкаясь, тащусь сзади, не выпуская из руки камня. «Пусть только замахнется, – думаю я, – я его этим камнем, как ножом, прикончу». Но он на меня не замахивался, толкал перед собой глыбу, одолел, задохнувшись, склон и наконец докатил ее до дороги. На ровной дороге и мне волей-неволей пришлось помогать, и я потихоньку выбросил свой камень. Когда мы сняли боковину и стали по ней вкатывать камень в телегу, у меня опять мелькнула мысль, как бы он не придавил меня глыбой, но это продолжалось одно мгновение. Мы погрузили камень, я снова поставил боковину. Леко Алексов положил лом на дно телеги и только тогда сказал мне: «Знаешь, Милойко, как я испугался, когда эта чертова лавина тронулась. Как бы не было несчастья, – подумал я, – и перекрестился два раза». – «Я тоже напугался!» – признался я каменотесу.
Смотрю я на него – хлипкий человек, в шляпе соломенной, если я ему вмажу, он у меня в дальний кювет отлетит. Но ведь ночь, темно, а страх пуще всего в темноте разыгрывается. Сейчас мы уже на дороге, мрак редеет, небо на востоке начинает белеть, и сам карьер становится светлее. Страх тоже редеет, тоже становится светлее и понемножку рассеивается. Мне даже смешно делается, но я помалкиваю, ничего больше не говорю, затягиваю упряжь, и мы трогаемся. В телегу мы не садимся, а идем с Леко Алексовым рядышком, позади. Мулы сами знают дорогу, тянут бойко, и мне не приходится их понукать.
В мастерской мы сгружаем камень. Леко Алексов обходит его со всех сторон, осматривает покрасневшими глазами, покашливает (тощие люди всегда по утрам кашляют, то ли от сырости, то ли от холода – не знаю), потом берет инструменты и тут же принимается за работу. «И день и ночь буду тесать, Милойко, но памятник сделаю, как обещал». Я стою, смотрю на этого человека, как он уже на колени опустился, жалко мне его становится, и я говорю тихо: «Ты меня прости за те слова! Прости!» – «Все простил, Милойко!» – говорит каменотес, не глядя мне в глаза. И хорошо, что не глядит, потому что непрошеная слеза обжигает мне щеку. Я скорей вытираю слезу —> точно оса меня ужалила – и вывожу мулов на улицу.
Днем я несколько раз мимо проходил, смотрю – Леко Алексов все работает долотом. И вечером прошел – он повесил керосиновую лампу и все продолжает тесать. Я, не останавливаясь, иду дальше, подхожу к обгорелым развалинам пекарни, И вижу – перед развалинами сидят на лавочке дядя Ангел и тетка Василка, засмотрелись на что-то или о чем-то задумались. «Добрый вам вечер!» – говорю я тихо и иду дальше. Дохожу до конца улицы, поворачиваю и на этот раз заглядываю к каменотесу. «Добрый вечер!» – «Добрый вечер!» – говорит он мне и постукивает по долоту размеренно. «Двигается дело?» – «Как же ему не двигаться?! Не появился еще на свет тот камень, который перед Леко Алексовым устоит!» И как сказал он это, что-то треснуло: тр-рак! – и свет погас.
Во дворе стало темно. Леко Алексов медленно выпрямился, не выпуская молотка из рук. «Стекло! – сказал он спокойно. – Из-под долота осколки летят, уже второе стекло у лампы разбилось. Но я это предусмотрел».
Он зашел в дом, вынес новое стекло, зажег лампу, и во двор вернулся свет. Я ушел и до поздней ночи слышал, как работает каменотес. Живем ведь мы через три дома, улица стихает рано, все и слышно. Утром встал еще до света, смотрю, во дворе у Леко Алексова лампа горит а человек над камнем склонился, «Когда же этот человек спит, да и ложится ли он?» – думаю.
«Двигается дело?» – спрашиваю. «О-о, ты вот завтра приходи посмотреть! Такого расчудесного камня мне давно не попадалось!» – «Приду, приду!»
Прихожу на другой день, Леко Алексов на бруске долото точит. Вжик, вжик! – взвизгивает долото. Каменотес пробует его большим пальцем. «Как бритва! – говорит он мне. – Этим долотом я вырежу сейчас имена Василки и Ангела Кодовых, чтоб остались они на камне на вечные времена». Присел он рядом с камнем и поглядел на улицу, словно ждал кого. Я тоже поглядел – на улице никого не было. Каменотес покачал головой, поплевал на ладонь, взял молоток и, прикинув взглядом, ударил по долоту. Я ждал, что, как в прошлый раз, послышится треск, невидимый гром ударит камень в сердце и расколет его пополам.
Но этого не случилось.
Помню, что, когда он ударил молотком по долоту, долото бесшумно вошло в белый мрамор, и в следующий миг мрамор посыпался, как мука. Каменотес, онемев, стоял на коленях, в глазах его застыл ужас, он смотрел на белую, как мука, горку, которая росла перед ним, и не двигался. Помню только, что в какую-то минуту он словно хотел что-то сказать, но нижняя губа его треснула и из нее потекла кровь. Помню еще, что я попятился, споткнулся о кучу камней и бросился бежать по двору, а тот все так же стоял на коленях, и кровь капала ему на подбородок. Вдруг я очутился рядом с дядей Ангелом и теткой Василкой, они сидели на лавочке перед развалинами, уйдя в свои мысли. Чтобы не мешать им, я тихо, совсем тихо сказал им: «Добрый вам вечер!» – и на цыпочках прошел дальше. Городские часы пробили несколько раз, но который был час, я не помню; кто же в такие минуты способен сосчитать, сколько раз бьют городские часы!
От автора
Милойко очень хорошо помнит – все было действительно так. Кровь сначала капала на подбородок, потом потекла на рубашку. Леко Алексов, не подымаясь с колен, бессмысленно смотрел на белую бессмыслицу перед собой. Когда он поднял глаза, он увидел поверх ограды, что по улице к нему идет пекарь с большой пекарной лопатой, в два раза выше домов, а за ним семенит его жена, сунув руки под передник. Пекарь остановился у ограды, опираясь на лопату, чуть позади остановилась его жена. Они молча смотрели на Леко Алексова. Где-то начал звонить колокол (в сущности, это был бой городских часов, который услышал Милойко, но Милойко тогда не сумел сосчитать, сколько раз они пробили), и, когда колокол перестал звонить и последний его удар рассыпался над улицей, пекарь и его жена повернулись и пошли в сторону карьера. Леко Алексов потерял их из виду, но зато ясно видел большую пекарную лопату, которая все росла и покачивалась в небе. Она была уже в три или четыре раза выше домов. Кто-то схватил Леко Алексова за плечи и заставил его встать, он оглянулся, но никого не увидел, а увидел только кровь, которая капала на рубашку. Он пошел вслед за лопатой, вышел на улицу, дорогу ему пересекли ребятишки на роликах. Улица была каменистая, неудобная для роликов, ребята часто спотыкались, но продолжали кататься. Это были те самые ребята, которые дергали Милойковых мулов за хвосты, а Милойко хлопал на них дождевиком: пых! Леко Алексов запомнил только, что он тоже начал спотыкаться, словно у него к ногам были привязаны ролики. Он спотыкался, но все так же шел вперед, не спуская глаз с большой пекарной лопаты. Потом все исчезло, мир стал пустым и голым, и в этой пустоте двигались только лопата и Леко Алексов. Потом человек увидел в пустоте карьер – он светлел в глубине, искрясь чешуйками кварца. Большая пекарная лопата вскарабкалась по склону карьера и остановилась наверху, загородив почти все небо. Леко Алексов, спотыкаясь на своих невидимых роликах, подходил все ближе к карьеру. Он знал душу камня и теперь, всматриваясь в него покрасневшими глазами, стал различать спрятанных в больших глыбах зверей и скотину. Вот спиной к нему встала на дыбы лошадь. Вот дремлет под своей оболочкой лев, за ним стоит дикий козел и ждет, когда долото каменотеса, освободив от оболочки, вытащит его на свет божий. И другие животные были живописно разбросаны по всему пространству, словно это была не каменоломня, а окаменевшая скотобойня. Чей молоток в силах одолеть эту магию и освободить животных? Леко Алексов, ни о чем уже не думая, брел, спотыкаясь, к окаменевшей скотобойне. Кто-то горластый закричал: «Берегись! Берегись!» – но Леко Алексов не слышал и все так же, спотыкаясь, шел к карьеру. Горластый еще отчаяннее закричал: «Берегись! Берегись!» – но Леко Алексов не слышал и все шел к скотобойне, еще чуть – и он коснется рукой окаменевших животных, застывших на вечные времена. И вот, когда он протянул руку, чтобы дотронуться до бычьей головы, оказавшейся перед ним, каменная скотобойня с грохотом зашевелилась, сдвинулась с места и стала рушиться на него. Высокий каменный лев откололся, едва шевельнув лапами, лошадь, стоявшая на задних ногах, повернулась, так что Леко Алексов успел увидеть ее раздутые ноздри, и в следующую секунду придавила его своим боком. Рев и мычанье перекатывались по карьеру, ожившие животные, сталкиваясь друг с другом, высекали искры, трещали каменные кости, запахло порохом. Леко Алексов попытался прикрыть руками глаза и взглянуть, не видно ли поблизости большой пекарной лопаты. Загребая синее небо, она удалялась от карьера. Больше ничего увидеть он не успел, потому что обрушившийся на него камень перебил ему руки, размозжил кости и навалился на него всей своей тяжестью. И тут же карьеры Беговицы стихли, эхо диким зверем уползло в горы и скрыло свои следы на высоких травянистых пастбищах.








