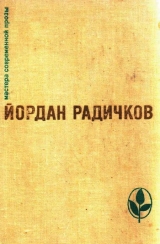
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
Прикончив ежа, монах словно бы приходит в себя и бросает железные вилы. На некоторое время он запирается у себя в келье, продолжая дрожать в лихорадке, а в сумерки выходит во двор, чтобы попросить беспамятную позвонить вместо него к вечерне, потому что ноги его не держат и ему трудно взобраться на звонницу. Еще он просит беспамятную, когда она заберется на звонницу, посмотреть сверху, не идет ли по дороге человек в кителе. Увечная монахиня со своей стороны советует ему надеть теплые шерстяные носки и растереться керосином, но Доситей говорит ей, что лучше он обогреет келью, для этого он берет жаровню и разжигает в ней уголь. Жаровня еще стоит во дворе, когда в монастыре появляется Шушуев. Он видит, как лихорадит монаха, и, растревожившись, сам вносит жаровню в келью и отливает из керосиновой лампы керосин, чтобы тот растерся. Шушуев советует Доситею оставить окно открытым, потому что держать в комнате жаровню опасно, в жаровне мог остаться непрогоревший уголь, от которого легко угореть. Когда Шушуев собирается идти в деревню, монах просит его разузнать, не заночевал ли там неизвестный человек в кителе. Шушуев обещает это проверить и прийти рано на следующее утро навестить Доситея и заодно сообщить, удалось ли ему узнать что-нибудь о неизвестном человеке в кителе.
Беспамятная запирает за Шушуевым монастырские ворота, поднимается на звонницу, чтобы ударить в колокол, никакого человека в кителе она сверху не видит, а видит Шушуева, который идет в сторону деревни. Она звонит в колокол, а на обратном пути заглядывает к монаху; тот, по ее словам, уже бредил и на вопрос беспамятной: «Можно будет усыновить?» ответил: «Можно!»
Однако кого собиралась усыновить беспамятная и зачем, она не смогла объяснить Йоне и только сбила его с толку, а когда прибыли следственные власти и экспертиза, она успела забыть, что шел какой-то разговор об усыновлении, и помнила только о приходе Шушуева.
Беспамятная возвращается к своей увечной сестре, а увечная, по ее словам, все это время сидела на стуле у окна, держась руками за подоконник. Увечная считала, что монахом овладело безумие, поэтому она допоздна читала молитвы, а когда сестры уже ложились спать, они услышали в темноте, как кто-то ходит по веранде. Заскрипела оконная рама, тихо звякнуло стекло, по веранде что-то затопотало, послышалось тяжелое дыхание. Монахини испугались еще больше, они подумали, что на веранду пробрался какой-то человек, но не успели они закричать, как в темноте у самого окна заверещала коза, и они услышали, как она стучит копытцами по веранде, потом спускается по ступенькам на землю и верещание ее доносится уже со стороны хлева. Несколько раз в течение ночи они слышали несвязный говор и думали, что это монах бредит в своей келье.
На рассвете их будит своим верещанием коза, беспамятная выходит из кельи и находит скорчившегося в своей постели Доситея, а на полу – обгоревшее одеяло. Она сообщает об этом увечной, потом поднимается на звонницу, чтобы ударить в колокол, и оттуда видит Шушуева, который идет в монастырь. Йона спрашивал беспамятную, видела ли она утром около монастыря блудного сына (речь шла о том самом незнакомце из Софрониева – или ниоткуда, – у которого были белесое галифе и здоровенные красные башмаки). Беспамятная сказала, что блудного сына она не видела, зато видела двух вооруженных людей.
Двое вооруженных людей были Йона и Тодор Аныма. Когда они вошли во двор, Йона увидел, что железные вилы прислонены снаружи к закрытому окну; он обратил на это особое внимание, потому что никто не прислоняет вилы к оконному стеклу. Когда Тодор Аныма закрыл дверь кельи и лицо его заволокло туманом, он тайком от Йоны и от Шушуева переставил вилы к стене. Видно, ему пришло в голову, что кто-то приходил ночью, закрыл открытое монахом окно и припер его железными вилами. Именно поэтому монахини слышали скрип оконной рамы и звон стекла. Таким образом, думал Йона, и был отравлен бредивший в ту ночь монах. А кто был заинтересован в том, чтобы монах отравился, чтобы он так страшно умер в своей келье, Йона так и не смог дознаться.
Монаха обмыли и похоронили в монастырском дворе. Тодор Аныма присутствовал при обмывании, и Йона спросил его, не видал ли он, обрезан был монах или не обрезан. Тодор Аныма ответил на его вопрос не прямо, а следующим образом, следующими словами: «Душа у монаха была обрезана, душу свою он продал туркам!» Йона спрашивал об этом же и Шушуева, но и Шушуев не выдал тайны. Зато ему сообщили один очень странный факт. Когда монаха стали перед обмыванием раздевать, обнаружилось, что одна его нога разута и пятка почата бритвой.
Что значит «почата»? По невежественным и суеверным представлениям былых времен, человек после смерти может стать вампиром, приходить к своим близким, пугать их и так далее. Чтобы предотвратить это, суеверие придумало резать бритвой голую пятку покойника, чтобы помешать ему приходить к родственникам. В годы между двумя мировыми войнами можно было услышать, что то здесь, то там «почали» покойника, но уже много лет как этот обычай был забыт. В наше время, утверждали Тодор Аныма и Шушуев, только сумасшедший может приложиться бритвой к босой пятке покойника.
Йона чувствовал, как его пробирает дрожь, и машинально поднимал ногу, словно боялся, как бы его не полоснули по пятке острой бритвой.
Выходит, что, хотя тело монаха охранялось, кто-то тайно пробрался к нему, разул одну ногу и почал бритвой пятку. Кто был этот безумец, так и не узнали, тайна осталась тайной. В связи с этим происшествием Йона думал и о незнакомце из Софрониева, незнакомец вызвал у монаха лихорадку, когда тот увидел его у открытых монастырских ворот; но почему он не вызвал лихорадки у Доситея утром, в церковке, когда стоял, сняв фуражку, перед преисподней, и монах видел его словно бы вдали, а лихорадка затрясла монаха позже, лишь когда он во второй раз увидел незнакомца у ворот, и его здоровенные красные башмаки стояли там, точно дна бычка? А может, это случайно совпало с лихорадкой или само видение незнакомца было вызвано каким-то внезапным помешательством?
Йона так и не смог разгадать ни это, ни самую, смерть монаха: Тодор Аныма ли его убил, приперев окно вилами, незнакомец ли из Софрониева, монахини или Шушуев, который внес в келью жаровню с непрогоревшим углем и первым появился на другое утро, или же это сам монах лишил себя жизни?
8
Родственник Йоны вернулся из города, темно-розовый шарф, которым он обычно обматывал шею, а зимой завязывал уши, теперь служил повязкой для сломанной, уложенной до локтя в гипс руки. Йона сказал ему, что перекрывать монастырскую сушильню для слив они не будут, а что надо сходить в село Разбойну за известью, потому как теперь самое время гасить известь, чтоб она успела созреть: Йона собирался осенью штукатурить свой дом. Родственник Йоны, хоть рука у него и была в гипсе, отправился с дядей за известью, они сторговали сколько им было нужно, и, когда собрались идти, мастер попросил их по дороге забросить полиэтиленовый мешок с негашеной известью монахиням из скального монастырька Разбойна. Он, мол, еще неделю назад обещал послать им известь, и все не было случая, монахини бог знает что могут про него подумать, вот, скажут, обещал человек и не прислал!
И вот Мокрый Валах Йона и его родственник с перевязанной шарфом рукой постучали в монастырские ворота. Их очень удивило, что за воротами раздался враждебный лай. Они постояли, Йона положил к ногам мешок с известью, снова постучал в ворота, собака залаяла еще громче, и было слышно, как она натягивает цепь. Обычно в монастыре не держат собак, и Йона сказал своему родственнику: «Держат собаку, потому как они женщины. Страх разбирает!» Родственник поправил свой шарф и спросил Йону: «Кого ж они боятся? Кто на них нападет?»
Собака полаяла, полаяла, потом ей надоело или она устала, и, проскулив напоследок, она умолкла. Йона и его родственник прислушались, не раздастся ли человеческий голос или шаги, не откроется ли где-нибудь дверь, не кашлянет ли кто и так далее, однако ничто не подсказывало, что за воротами есть люди. До ушей их достигал лишь монотонный шум, это шумела река. Река текла совсем рядом с хозяйственными постройками монастыря, делала поворот и разбивалась о южный скалистый скат. Наверху на скате, на маленьком каменном козырьке, под которым пастухи когда-то прятались от дождя, была построена церковка, прилепившаяся к берегу, как ласточкино гнездо. Деревянный мост с расшатанными перилами соединял оба берега реки, по нему можно было пройти от хозяйственных построек к церковке.
Отовсюду веяло запустением, заброшенностью, как будто здесь уже лет сто не появлялась ни одна живая душа. Йона нажал плечом на ворота, раздался недовольный скрип и свирепый собачий лай. Собака, привязанная под навесом, до отказа натянула цепь и, встав на задние лапы, порывалась кинуться на незваных гостей. Двор был пуст, заброшен, как и все постройки. Обитаемой тут казалась только северная двухэтажная часть монастыря, давно не штукатуренная, с потрескавшимся фасадом. На втором этаже на деревянные перила веранды был накинут половичок, с этого места во двор спускался вытертый до блеска деревянный желоб – для чего он служил, понять было трудно. Увидев, как облупилась на доме штукатурка, Йона заметил своему родственнику, что стену эту давно следовало побелить и что они правильно поступили, согласившись сделать небольшой крюк и отнести монахиням негашеную известь. «Монастыри должны быть белыми!» – сказал он, а его родственник, который шел за ним по пятам и все оглядывался, опасаясь, как бы собака в ярости не порвала цепь, отозвался: «Это уж конечно!» Собака охрипла от лая, устала и ушла под навес.
«Никого нет!» – сказал Йона.
Он осмотрелся в поисках тени, короткая тень ложилась недалеко от навеса, там стояли деревянные козлы, рядом – кучка распиленных дров, пила и забитый в колоду топор. За козлами зияла открытая дверь сарая с высоким деревянным порогом. Когда Йона и его родственник заглянули в открытую дверь, они увидели, что сарай пуст, а когда-то он служил конюшней – сохранилось стойло с вбитыми в него железными кольцами. Они сели на высокий деревянный порог, в спину веяло холодом. Родственник Йоны стал подтягивать узел своего темно-розового шарфа, чтоб поднять руку в гипсе повыше. Река равномерно шумела за оградой, в шум этот врезалось шипение и что-то глухо шлепнулось.
Они обернулись и увидели, что со второго этажа по деревянному желобу соскользнула увечная монахиня и шлепнулась на землю. Обеими руками она продолжала держаться за края желоба. Смотрела она на них не слишком приветливо, но ненависти в ее глазах не было. Скорее можно было сказать, что около них приземлилось бесконечно измученное, обесцвеченное временем существо, даже взгляд монахини был бесцветным – так по крайней мере показалось Йоне. Он мысленно перекрестился и шепнул на ухо своему родственнику: «Перекрестись мысленно!» Тот оставил в покое узел своего темно-розового шарфа и широко перекрестился здоровой рукой.
Река все так же шумела и билась о скалистый берег, и лишь глухой этот ропот отделял пришельцев от монахини. Йона поднял мешок с негашеной известью и встал с порога. Увечная не то прошипела, не то просипела что-то и сильно, почти по-мужски отталкиваясь, стала подниматься обратно по желобу на веранду. В эту минуту открылись ворота и во двор вошли беспамятная с корзиной грибов и Шушуев. Шушуев нес на плече срубленное дерево, на другое плечо он закинул топор и подпирал им дерево, распределяя его вес на оба плеча.
Можно сказать, что все трое мужчин были одинаково удивлены встречей. Больше удивились все-таки Йона и его родственник, не понимавшие, с чего это Шушуева занесло в женский монастырь. Они смотрели, как он прошел мимо них с деревом на плече, как он сбросил его рядом с козлами, чтобы распилить и наколоть топором, и как, пока он отряхивал рубаху, во двор по-свойски вошла большеголовая рыжая коза. Это была коза, взятая после гибели монаха Доситея из обители Старопатица. Увечная снова спустилась по желобу, в одной ее руке бренчало ведерко. Она позвала козу, коза подошли к ней, увечная ухватила ее за шею, подтащила поближе к себе и стала доить. Тут-то и выступил вперед Йона с негашеной известью и сказал Шушуеву, что они принесли известь по просьбе мастера, у которого был уговор с монашками.
«А, известь! – сказал Шушуев и подошел к Йоне. – Надо будет ее погасить. Скоро монастырский праздник, надо побелить церковь, не то, глядишь, какой богомолец забредет. А и не забредет, коли праздник, так следует побелить. Это дело Доситей из Старопатицы каждый год делал, но Доситея больше нет, а я обещал ему помогать этим горемыкам».
Йона заметил, что, как войдешь в монастырь, сразу видна мужская рука. Он имел в виду козлы для пилки дров и колун. «А я вон как покалечился, – сказал его родственник. – Теперь дома жена дрова колет. Но бабе нипочем топором не взмахнуть, как мужику».
Йона и его родственник потоптались на месте, увечная продолжала доить козу, слышно было, как струи молока гулко стучат по ведерку. Они собрались уходить, Шушуев тут же присоединился к ним и сказал, что проведет их по мосту, потом по козьей тропке через скалы, а оттуда через Моисеев заказник они выйдут прямо к Старопатице.
«Не заблудиться бы в этом чертовом Моисеевом заказнике!»– сказал Йона. «В заказнике не заблудишься, – возразил Шушуев. – Я через день по нему хожу и видишь – еще не заблудился! Скорее в жизни можно заблудиться, чем в заказнике!»
Он снял с гвоздя под навесом пиджак, повесил на руку и повел Йону и его родственника к реке. Монахиням он не сказал ни «до свидания», ни «прощайте», даже не глянул в их сторону. Мост весь шатался, Шушуев сказал своим спутникам, чтоб крепче держались за перила, и добавил, что к празднику и мост надо бы починить, а заняться этим некому, опять-таки Шушуеву придется его чинить. С другой стороны, как подумаешь, тут ничего починить нельзя, потому что все уже давно развалилось, но, коли уж он обещал монаху из Старопатицы, будет стараться как может и чем может помогать и латать дыры. «Хотя дыру разве заполнишь?» – спросил он и сам себе ответил: «Не заполнишь!»
Он вывел их наверх, к церковке, прилепившейся, словно гнездо, к каменному козырьку. Под ними вилась река, на другом берегу, внизу, виднелись хозяйственные постройки монастыря. Картина была такая, точно они склонились над колодцем и смотрят на дно. В колодце посверкивал топор и виднелось дерево, которое притащил Шушуев. «Такое сырое дерево нипочем не разожжешь!» – сказал Йона. «Это им на зиму, – сказал Шушуев, – для обогреву. Летом они печку почти и не топят, даже молоко не кипятят, сырое пьют».
На фасаде церковки была изображена самая убогая преисподняя, какую только можно себе вообразить. Родственник Йоны, глядя на преисподнюю, поправлял узел на своем темно-розовом шарфе и прищелкивал языком. «Вот это называется пекло!» – воскликнул Йона и тоже подошел полюбоваться пеклом.
Эта преисподняя, или пекло, представляла собой большой медный котел, два-три полешка едва тлели под ним, о одной стороны выбивалось немного дыма, курился пар, а среди пара виднелось двое мужчин. Они варились в котле, и на лицах их можно было прочитать нечто вроде вопля. Рядом в котлом, наполовину окутанная кудрявыми клубами дыма, стояла под охраной черта нагая грешница. Изображена она была со спины. Поскольку в котле для нее не было места, она, видно, стояла и ждала, когда подойдет ее очередь, то есть когда оба грешника вылезут, чтоб она могла залезть в котел и принять мученическое кипение. По дороге к котлу шел второй черт, согнувшийся в три погибели под вязанкой дров. Вокруг нигде не было видно ни леса, ни отдельного деревца, так что дрова, по всей вероятности, приходилось таскать издалека. Но как бы издалека их ни носили, как бы это ни было трудно, преисподняя есть преисподняя, и огонь под котлом надо поддерживать вечно, чтобы грешники испытывали вечные муки и вечные страдания.
«Вот кабы и нам попасть в такое пекло, – засмеялся Йона. – Да где там, мы небось попадем в такую преисподнюю, где все кипит и бурлит, как на каучуковой фабрике!»
Они сели на каменный козырек, спиной к простодушному и заманчивому пеклу. В убогом месте и преисподняя должна быть убогая, и молоко безропотно пьют сырым, и если какой-нибудь водяной или вампир живет внизу, в реке, где стелется ежевика и мрачно торчит медовка, то и водяной или вампир, верно, так на тебя глянут, что ты скорей пожалеешь их и дашь им милостыню, чем испугаешься.
Вот о чем думал Йона, Мокрый Валах, раскуривая цигарку. Раскурив ее, он спросил:
– А где-то сейчас бродит душа Доситея?
Шушуев взглянул на него и тоже спросил:
– А где-то бродит сейчас его семя?
Они помолчали.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Йона.
Шушуев вздохнул.
– Ребенок у него был, – сказал наконец Шушуев. – Ребенок у него был от беспамятной монахини, родился он здесь, внизу, отобрали его у горемычной, чтоб отдать на усыновление, но усыновил его кто или так он и сгинул, про то один господь знает! У ней памяти-то нет, но про усыновление что-то у нее застряло в голове, вот она временами что ни встретит, все хочет усыновить… Коли бог милостив, прибрал бы он лучше несчастных рабов своих!
Леса вокруг, наполовину погруженные в тень, были неподвижны и безмолвны. Погрузились в молчание и мужчины. Йона курил, сидя вполоборота к тропинке, и увидел, как на ней появилась тощая, костлявая, с горящими глазами монастырская собака. Ее спустили с цепи. Шушуев швырнул в нее камнем, крикнул: «Пшла!», и глаза собаки загорелись еще ярче. Тогда Шушуев начал ее подзывать, но собака стала как вкопанная, и только горящие ее глаза следили за мужиками.
Оставив позади церковку с убогой преисподней, они вышли на ровное плато. Собака на почтительном расстоянии бежала за ними, тощая, костлявая, взъерошенная собака с горящим взглядом. Она провожала их, когда они шли по Моисееву заказнику, мимо заброшенных пастушьих шалашей, она, как дух, следовала за ними, и, когда они вошли в сырой, полный подвижных теней дол Усое, и родственник Йоны прошел по тропинке вперед, он боялся идти последним. В конце дола они услышали подземный вой, доносящийся из собачьей могилы, собака тоже услышала этот вой, рывком обогнала их, и они увидели, как она, все ускоряя бег, несется подобно духу и стремительно исчезает в разверстой пасти собачьей могилы.
Страшное рычание раздалось внизу, Йона и его родственник перекрестились. «Нашла свою погибель!» – сказал Йона, и в этот миг перед его глазами заиграло всеми красками милое и приветливое пекло, нарисованное в скальном монастырьке Разбойна. «Вот кабы туда попасть!» – подумал он, таясь попутчиков.
Перед ними дымила своими трубами деревня, женщины Старопатицы растапливали очаги.
Перевод Н. Глен.
Змеиный снег
Бродя по жизни, я записываю рассказы очевидцев, разговариваю с разными людьми, прохожу через их праздники и будни, стараюсь разгадать их и всегда держу ухо востро, чтобы какое-нибудь минутное чувство или слабость не подвели и не обманули меня. Давно уже начал я бродить по миру Старопатицы, Балатина, Овчаги и Софрониева, деревушек и выселок, разбросанных между этими селами, и кажется мне, что эти селения и горстка их жизни будто выпали и рассыпались из телеги господа бога. Кого куда вытрясло, тот оттуда и смотрит на божий мир: один повернут лицом к топографическим вышкам, другие повернуты к рекам, третьи – к туманным, заповедным Моисееву заказнику и долу Усое, четвертые уставились одним глазом на деревянный крюк, готовые, если понадобится, услужить каждому. Зеленый кукурузный початок, олень, бегущий по настенному коврику, усталый кентавр у дерева, ребенок, который касается кизиловой веточкой белого холмика над могилой матери, Мокрый Валах, напуганный атомными могильниками – как бы не выглянул оттуда атомный вампир или леший… волшебная дурман-трава… безумный человек с грибом-дождевиком… незнакомец, который пришел ниоткуда.
Ну и что? Выходит, каждый по-своему смотрит на этот мир и по-своему толкует его! Я бы не сказал, что в этом есть мистика, я бы скорее сказал, что в этом высыпавшемся из божьей телеги мире есть нечто большее, чем сам мир. Я считаю, что и каждый человек больше нашего представления о нем, как и лицо каждого человека, как и лицо самой земли.
Никому еще пока не удалось обрисовать лицо земли: мы можем лишь наметить кое-какие его черты. Я бы даже сказал, что это не черты, а скорее морщины на лице земли. Если мы кое-где ухватим намек на улыбку, это будет, по-моему, прекрасно. А если ощутим на себе пристальный взгляд земли, будет еще прекраснее! Вот о чем размышляю я, когда перебираю всевозможные случаи из моей жизни. Я медленно листаю их, как листают старинную книгу, прочитываю в них далеко не все и, листая эти давние воспоминания, спрашиваю себя: отбрасывая прастарый Моисеев заказник, не создаем ли мы новый Моисеев заказник?
Мне вспоминается:
На рассвете вижу я тщедушного человечка в меховой безрукавке, вижу, как он сражается с трепещущим в сумеречном свете тополем. Тополь слегка накренился, словно хотел прислониться к чему-то или кому-то, но вокруг него было пустое пространство, и тополь стоял одиноко, вызывая сочувствие и грусть.
Тополь – дерево робкое и уступчивое, и, когда он стоит одиноко на болоте или где-нибудь у реки, он пробуждает в нас сострадание. Дуб, даже одинокий, гордо возвышается посреди равнины, богатырски стоит на земле, могучий в своем одиночестве; черный терновник сидит, как пес на задних лапах, выставив во все стороны колючки, дерзкий и дикий, поэтому человек или животное, если случится пройти мимо, стараются держаться от него подальше. А вот тополь беззащитен, когда остается посреди поля один, и, как вдовец, печален…
Вот этого-то одиночку, бобыля и выбрал тщедушный дровосек в меховой безрукавке – он засучил рукава своей холщовой рубахи и, пыхтя, взмахивал поблескивавшим в утренних сумерках топором. Злобно лязгая, вгрызался топор в древесину, при каждом ударе дерево вскрикивало, но никто не отзывался на тополиные вскрики, они рассыпались по полю и исчезали. Неподалеку от этого места, за худосочными дикими сливами и кустарником, притаился небольшой монастырей с белеными стенами. Позади монастырька, заросший бурьяном, терновником и кустами дикого шиповника, приютился погост. Над погостом кружила сорока, она что-то кому-то крикнула, подлетела к тополю поглядеть, что делает человек в меховой безрукавке, обругала его, потом неуклюже повернула назад, чтобы понаблюдать и за монастырем. Для этого она села на крышу и завертела хвостом во всех направлениях.
А смотреть в монастырьке особенно-то было и не на что. Тощая и злая тетка кормила под навесом гуся и свирепо кричала кому-то:
– Кыш! Кыш! Чтоб тебя поразил господь, поганец! Кыш!
Вздрагивающий и стонущий под ударами топора тополек остался позади, я шел по насыпи вдоль канала, по воде проворно пробежала лысуха и спряталась в камышах. Тетка из монастыря продолжала клясть какого-то поганца, гусь отозвался трубным звуком, закудахтала курица, послышалось хлопанье крыльев, и на ограду святой обители взлетел петух. Он словно полыхал в своем красном оперенье. Этот монастырский петух принялся кукарекать с таким воодушевлением, будто читал воскресную проповедь и хотел своим красноречием приковать к себе внимание всего достопочтенного собрания. Достопочтенное собрание состояло из моей особы, тощей и злобной тетки, невидимого гуся, невидимой кудахтающей курицы, дровосека и сороки, усевшейся на крышу. Было ясно, что монастырская курица снесла яйцо. Поэтому петух по-богатырски колотил себя в грудь, выпячивая свои заслуги в появлении куриного яйца. Тощая и злобная тетка швырнула в него палкой, не промахнулась, и петух упал с ограды.
– Господь поразит тебя, поганец! – грозилась из-под навеса тетка, а дровосек, опершись на топор, глядел, хорошо ли сделал засечки на тополе. Одобрив дело своих рук, он закурил, и у него над головой поплыли кольца синеватого дыма. Сумерки рассеивались, в маленькую монастырскую обитель стал просачиваться вселенский свет.
Поганец петух вышагивал вдоль ограды, издавая хулиганские возгласы по адресу злобной тетки, его мужское самолюбие было глубоко уязвлено, и от гнева он стал под конец заикаться. Сорока улетела и спряталась где-то на погосте. С одного его края алели зрелые ягоды шиповника, блестящие, пурпурные, необыкновенно красивые и никому не нужные.
Я тоже закурил по примеру дровосека, перешел на другой берег канала, оставив монастырек за спиной. Посреди зеленых массивов кукурузы и подсолнуха, посреди равнины, прорезанной асфальтовыми шоссе и линиями железной дороги, этот монастырей показался мне одной из последних христианских ящериц, вылезших погреться на солнышке. Самолеты чертили в небе белые линии, и я дивился тому, что под таким небом все еще сохранилось уютное маленькое человеческое кладбище. Там и тут выглядывали белые камни надгробий, по грудь заросшие бурьяном и ежевикой, или старые могильные кресты, подставившие спины серому лишайнику. Кротость и примирение излучал погост, лишь дикий шиповник со своими пурпурными ягодами вызывающе торчал по его краям.
Я снова услыхал у себя за спиной удары топора и вскрики дерева. Дровосек начал надсекать тополек с другого бока. Тощая и злобная тетка продолжала клясть поганца петуха и кормить гуся. Сорока, удовлетворив свое любопытство, покинула монастырь и летела теперь к камышам, сгрудившимся возле плотины Кремиковского отстойника. (Она рассеянно порхала, но вдруг пискнула, спикировала на камыши, потом взмыла вверх, снова снизилась и полетела по направлению к Желяве. Было видно, как там ползают машины – это прокладывалась северная автострада.) Я знал, что за автострадой вздымаются Балканы, но они существовали только в моей памяти. Синего венца гор не было видно, его окутывал дым Кремиковских металлургических заводов и нескольких маломерных вагранок, расположившихся возле станции Яна. Похоже, что основное занятие этих вагранок – непрерывно производить дым, как можно более черный, чтобы дополнить собой дым кремиковских вулканов.
Если встать спиной к этой дымовой завесе и повернуться лицом к востоку, можно увидеть светлый простор равнины, полоску гор, далекий и манящий горизонт. Да и солнце уже успело взойти, крупная роса сверкает на лугах и дамбах вдоль каналов, поэтому я поворачиваюсь лицом к востоку. Однако волнение сороки передается и мне, я пробираюсь через камыши и на вытоптанной проплешине замечаю бродячую собаку. Она катается по изодранной овечьей туше. Неведомым образом почуяв, что я наблюдаю за ней, она порывисто отскочила в сторону, скрылась в камышах, и несколько мгновений спустя я увидел, что она мчится по дамбе. Раза два-три она на бегу обернулась. Это был крупный большеголовый пес, худой и ширококостный. Он прихрамывал на одну ногу, но хромота не мешала ему бежать достаточно быстро.
Я мог пристрелить его еще тогда, когда он катался по овечьей туше, но я никогда не убиваю бродячих собак. Охотники истребляют их, потому что бродячие собаки дичают, становятся хищниками. Они собираются стаями, обходят стороной человеческое жилье, но пожирают все, что попадается им на пути – живое или мертвое, – вечно голодные и вечно преследуемые по пятам. Если в собачьей стае появляется потомство, его раздирают на куски, если одну из собак ранят, остальные сжирают ее. Этот многоногий одичавший комбайн круглосуточно на ходу, он легко передвигается на своих мягких собачьих лапах, истребляет приплод диких животных, ловит мышей, опустошает гнезда тех птиц, что гнездятся на земле, наводит гигиену в тех местах, куда люди выбрасывают околевших домашних животных. Не едят бродячие собаки лишь то, что брошено в воду. В позапрошлом году канал между монастырьком и селом Мусачево был забит дохлыми цыплятами. Вода выбросила ощипанных утопленников на берег, и я заметил бродячих собак в ту минуту, когда они кружили возле них, а когда подошел ближе, то увидал на снегу множество следов – видно, собаки долго топтались тут, но ни одна не притронулась к птичьей падали. Я видел собачьи следы и возле реки, восточнее монастырька, любопытство и голод привели их на берег речушки, где синел утонувший поросенок. Однако ни одна собачья пасть не прикоснулась к нему…
Печальны эти бродячие собаки, мне жаль их, потому что нам следовало бы видеть их силуэты и тени и слышать их голоса в деревенских дворах. Деревенские дворы теперь онемели, и, даже если покличешь, проходя мимо какого-нибудь из них, никто тебе не отзовется, ни один двор не ответит хриплым собачьим голосом, яростным лаем или громким предупреждением, будто мимо глухонемого проходишь. Прогнили конуры, проржавели цепи, человек вышвырнул со двора своего многовекового друга и помощника, наподдал ему на скорую руку, выгнал за пределы своего очага, а потом и очаг загасил, заменил телевизором, сел перед экраном и следит за ходом международных событий. Собака же из домашнего животного и друга превратилась в бродячего зверя, которого преследуют по пятам.
Вот о чем размышлял я, пробираясь через камыши вдоль дамбы и глядя вслед удаляющемуся хромому бродяге. «Не бойся, друг!» – хотелось мне крикнуть ему, но он бы мне не поверил. У меня из-под ног выпорхнул бекас и пропал за камышами, словно какая-то внезапная мысль, которая мелькнула и вдруг исчезла. И передо мной возникла одна картина; поле мгновенно покрылось снегом, ветер наметал сугробы, и я увидал среди них больную бродячую собаку, беспомощно лежавшую возле пучка сухой травы. Со всех сторон ее оцепили охотники, один из них кричал: «Лишко, Лишко, не бойся!» Это было в позапрошлом году, возле Студеного ключа, мы там охотились, но нас застала метель, так что пришлось укрыться в овраге. В атом, овраге охотники и наткнулись на бродячую собаку. Она была больная, истощенная, с потухшим взглядом, лежала возле того пучка сухой травы, больше похожая на выброшенную половую тряпку, чем на живое существо. Я был с сыном, по дну оврага текла маленькая речушка, я велел сыну перейти на другой берег, и он повернул назад, чтобы найти брод. В поисках брода он удалялся от охотничьей облавы, кольцом охватившей больную собаку. «Лишко, эй, Лишко!» – продолжал звать один из охотников, а кто-то громко предупредил, чтоб были поосторожней, потому что собака может оказаться бешеной.
Он еще предупреждал, когда среди завывания метели раздалась глухая трескотня выстрелов. Сын нашел брод и звал меня, чтобы я тоже перешел на другой берег. Он спросил, почему стреляли, я сказал, что охотники пристреливались, били по вороне. – «Да вон она, ворона, летит!» – сказал сын. И в самом деле, ворона летела сообщить другим воронам о том, что в овраге валяется падаль.








