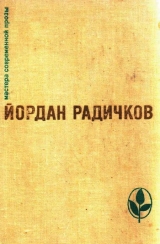
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
16
Люди Амина Филиппова, эти романтики, поэты и святая простота, как выражался учитель Славейко, которые всю свою жизнь разыскивали и разгадывали тайные знаки, рыли и долбили нашу старушку землю в надежде откопать ее богатства, и все это молча, чтобы не спугнуть своими голосами колдовские чары, теперь так же молча долбили неподатливую, ссохшуюся землю на кладбище села Разбойна, чтобы зарыть в нее одно из сокровищ села, одного из его сынов. Потом они снова пойдут искать зарытые клады, таская за собой припадочную козу, втайне от властей перекапывать землю, но вряд ли придется им еще раз, где бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, в безмолвной скорби зарывать в землю клад.
Над снующими по кладбищу людьми возвышается длинная, тощая фигура Амина Филиппова, вздувшаяся жилка пульсирует у него на виске, рядом стоит учитель Славейко, потрясенный тем, что плохо он, выходит, учил здешних ребятишек, и глазами спрашивает председатели, вправду ли происходит вся эта несуразность, и председатель взглядом же отвечает ему, что хоть и несуразность это, а истинная правда. И тихо рассказывает о том, что прошел рядовым две мировые войны и помнит, что, когда идут в атаку на неприятельские окопы, многие солдаты падают, сраженные пулями, а потом, когда атакующие врываются в окопы врага, бывает, останавливаются с разгону, увидев, что окопы пусты. И в такое впадаешь состояние, говорил дядя Дачо, что не понимаешь, выиграл ты или проиграл сражение, потому что завоевал ты пустой окоп, отобрал его у противника, но из-за этого пустого окопа погублено столько солдатских жизней!
Чтобы отдать сержанту Ивану Мравову последний долг, на заброшенное, запущенное сельское кладбище прибыло отделение молодых милиционеров под командованием сержанта Антонова. Щит-и-меч рыдал без слез, и, думается, в эту минуту прозвище всего больше соответствовало всему его облику. Сухим был порох в его пороховницах, в любую секунду мог вспыхнуть, взорваться, поднять на воздух все село со всеми относящимися к нему деревеньками, выселками, каракачанскими станами, разбросанными по горным пастбищам, взорвать и поднять на воздух вместе со всеми его тайнами, чтоб эхо разнесло грохот взрыва, ударило или постучалось во все окна, в том числе и в окна сотен милицейских участков, и пальцем, совсем легонько, постучало в чуткое человеческое сердце!.. Жители села Разбойна толпились на заброшенном кладбище, в толпе можно было увидеть тех двух пастухов, что пришли в ветеринарную лечебницу; хозяина сбежавшей овцы; пасечника, у которого улетел пчелиный рой, – в эту минуту он позабыл и про пчел, и про матку; бросивших табор патрульных с противоящурного кордона, у которых карабины болтались за плечами без всякого толку. Табор же в это время снимался с места, складывал свои латаные шатры, взваливал на телеги, гасил костры и собирался в дальний путь на перевал. Отец парализованного паренька остановился посреди реки, дожидаясь, покуда буйволы напьются воды, чтобы двинуться дальше по разбитому проселку через Кобылью засеку. Впервые, дорогой читатель, увидел я тогда в толпе Мемлекетова, о котором так часто упоминал Иван Мравов, старого комиту из соседнего милицейского участка. Он поддерживал худенькую большеглазую девушку, как позже выяснилось – свою сестру, невесту Ивана Мравова. Крупные капли пота выступили на лбу Мемлекетова, они умножались, росли, но ни одна капля не скатилась со лба, не упала на землю. Бледен был Мемлекетов и растерян, не знал, куда деть свои большие руки, повисшие как плети. Застывший в вечном покое, осыпанный цветами лежал перед ним сержант Иван Мравов. Таким запомнится он всем – спокойным, осыпанным цветами, таким осторожно опустят его в землю люди Амина Филиппова. Видимо, судьбе было угодно, чтобы именно кладоискатели предали земле его тело; только тело погребли они, дорогой читатель, дух его и память о нем продолжают жить в нас!
Прозвучал залп, и он, этот залп, постучался в каждое окошко села Разбойна. Стреляли молодые милиционеры, из карабинов их вылетели пустые гильзы. Сержант Антонов нагнулся, поднял одну и осторожно опустил в могилу рядом с Иваном Мравовым. Гильза была еще горячая и горячей исчезла в земле вместе с остывшим телом.
Залп услышали и в таборе, цыгане примолкли, перестали грузить на телеги свой скарб; услышал залп и отец парализованного паренька, чья телега стояла посреди реки, обнажил голову и в ожидании следующего залпа вспоминал, какую печальную мелодию выводил этот милиционер на окарине вчера на постоялом дворе. Вслед за залпом в воздухе раздалось жужжание, оно становилось все громче, люди один за другим подняли головы, поглядели вверх, и кто-то воскликнул:
– Мои пчелы!
Воскликнул пасечник, у которого улетел пчелиный рой. Видно, пчелы расположились на одном из кладбищенских деревьев и, вспугнутые выстрелами, полетели дальше, вслед за маткой. Труженицы пчелы покружились в воздухе, как огромное веретено, поднялись высоко-высоко и полетели по направлению к селу. Первым двинулся с кладбища пасечник, он пошел вслед за своим роем, а за ним потянулись остальные, сержант Антонов поддерживал под руку сестру Мемлекетова, он сказал Мемлекетову, что подал рапорт, чтоб его перевели сюда, в село Разбойна. Люди Амина Филиппова тоже мало-помалу отделились от толпы, мужик у брода надел шапку и погнал своих буйволов дальше, цыгане загасили костры, а когда все уже были готовы двинуться в путь, заметили у одного из костров узел с тряпьем. Мустафа дважды спросил, чей это узел, и цыганки дважды ответили ему, что ничей.
– Как это ничей? – воскликнул Мустафа и пошел к ничейному узлу.
И вдруг услыхал, что ничейный узел пищит. Нагнулся развернуть его, и тут все цыганки разом принялись ему объяснять, что это мальчик, а ведь табор до сих пор брал с собой только девочек-подкидышей, мальчиков же подкидышей оставляли, ведь мальчиков не продашь. За девочек-подкидышей дают хорошие деньги, особенно если их сбыть с рук совсем молоденькими, потому что больше всего дают за белокожих цыганок. А мальчишку-подкидыша какой табор усыновит? Ведь только зря хлеб есть будет. Но тут цыганки прикусили язык, потому что впервые увидели Мустафу в ярости. Вихрем промчался он мимо них, хлеща себя плетью по ногам; этот юркий, быстрый челнок проскользнул вдоль всей вереницы телег и, хлопая плетью, кричал, да так решительно, что возражать ему было бессмысленно:
– Табор усыновит его!.. Табор усыновит его!
Цыганки неохотно подняли скулящий ничейный узел с тряпьем, но, увидав лицо человеческого детеныша, стали корчить ему смешные рожи, заверещали, защебетали, и младенец из ничейного стал сыном табора.
В хвосте каравана плелся медведь, немного задумчивый, почти ручной, а рядом, тоже почти ручной, шагал цыганенок…
Все или никто?
Небольшое послесловие
Я в своей жизни, дорогой читатель, больше читал, чем писал, поэтому знаю на собственном опыте, что читатель во всех отношениях гораздо искушеннее в детективном жанре самого детективного из авторов. Быть может, читатель заметил, что те, кто работает в жанре детектива, завоевали себе право именоваться не писателями, а авторами. Какой ценой и какими средствами отвоевали они себе это право, мне неизвестно, главное, что отвоевали. Разумеется, это не тот предмет, какой нам следует тут обсуждать, потому что задача этого небольшого послесловия куда скромнее – дополнить и объяснить лишь то, что осталось для читателя неразгаданным или умышленно было от него утаено, чтобы держать его в напряжении.
В некоторой степени читатель сам повинен в этом, потому что он любит, когда его держат в напряжении, когда перед ним непрерывно вырастают всяческие неожиданности, и, введенный ими в заблуждение, он забывает обо всех оборванных нитях повествования. Считаю своим долгом извиниться перед читателем, потому что, перечитав рукопись «Все и никто», я сам заметил, что одна нить оборвана, и, кроме того, придумав определенную интригу, автор не дал исчерпывающего ответа – вернее, забыл взять читателя за руку и в полной мере удовлетворить его любопытство.
Речь идет о медведе и буйволах.
Когда те ворвались в заброшенный хлев и в своей звериной ярости растрясли его так, что он каждую секунду грозил рухнуть, и от сухого козьего навоза вздымались тучи ныли, нам, возможно, следовало бы войти туда или хоть заглянуть внутрь, но, если читатель помнит, именно тогда появился человек с дохлой сорокой, за ним мужик, у которого сын был парализованный, потом цыган с цыганенком, потом дохлая сорока плюхнулась наземь, вызвав мистический ужас у людей Амина Филиппова на монастырской веранде, потом хлынули, наступай друг другу на пятки, прочие события, и, боясь упустить хоть одно из них, мы вообще забыли про медведя и про буйволов, а когда все окончилось и над селом появился исчезнувший было пчелиный рой, неожиданно оказалось, что в наше отсутствие владельцы медведя и буйволов проникли в загон и забрали свое имущество. Я пишу это краткое послесловие для того, чтобы читатель узнал, что они увидели, когда заглянули в заброшенный хлев.
Прежде всего они увидали медведя.
Он забрался на стропила, стоял там раскорячившись и с высоты смотрел на взъерошенных буйволов. Потом они увидали буйволов, которые тяжело и грозно пыхтели и посматривали краем глаза на медведя. Под конец люди Амина Филиппова и все прочие переглянулись и просто оторопели, увидав друг друга.
Вот и все, что они увидели!
Этими несколькими словами, читатель, мы можем захлопнуть дверь нашей повести, через которую все мы прошли, никто не остался, а ключ зашвырнуть в реку. Плеск воды, водяное эхо и тишина проводят этот брошенный в реку ключ.
Показания Матея
Следователь спрашивает Матея, передана ли ему в камеру кринка с простоквашей и лепешка домашней выпечки. Матей отвечает, что передана, и спрашивает, кто их прислал. Следователь сообщает, что они посланы его матерью через сержанта Ивана Мравова, но ввиду того, что сержант Иван Мравов погиб на полпути, не успев выполнить обещания, которое он дал его матери, то это взяли на себя органы государственной безопасности; следователь особо подчеркивает, что Иван Мравов, хотя и через других лиц, обещание свое выполнил, кринка и хлеб доставлены по назначению. Матей на некоторое время погружается в молчание. Следователь спрашивает его, помнит ли он, когда сделал первый шаг к преступлению. Матей дает следующие показания.
– Первый шаг я сделал с цыганами, которых я шантажировал в связи с оловом, добытым ими незаконным путем. Чтобы откупиться, они всучили мне фальшивые турецкие монеты.
– Для чего потребовались вам эти монеты, и было ли вам уже тогда, на месте, известно, что они фальшивые?
– Что они фальшивые, я понял позже, через несколько дней, понял я это благодаря корчмарю. Когда я продал их ему, он тоже не сразу понял, что они фальшивые, только спустя несколько дней сказал мне, что какой-то мошенник растолковал ему, как обстоит дело в действительности, и пригрозил, что если я не верну ему деньги, то он сообщит в милицию. Корчмарь пришел за деньгами ко мне домой, но я их уже потратил и не поверил, что золотые кругляки были фальшивые. Оставалась одна монета, мы разрубили ее пополам, и она оказалась фальшивой. Тогда я сказал корчмарю, чтобы он вернул мне те турецкие кругляки, а я поднакоплю денег и тогда верну долг. Он сказал, что вернуть кругляки не может, потому что продавал их разным людям, и они требуют сперва деньги, чтобы держать нас в своих руках. Я засомневался, не вымогательство ли это со стороны этого жулика-корчмаря, и так ему прямо и сказал, на что он ответил, что это я занимаюсь вымогательством, но предъявить мне турецкие монеты не мог, потому что, я уверен, он все их с выгодой для себя сбыл разным мошенникам и торговцам. Что ни день этот жулик все больше меня раздражал, он совсем обнаглел, и я подумал: «Ах, вот ты как, ну коли так, я тоже наберусь наглости, забуду стыд и совесть». Стал все чаще ходить в его корчму, пил там напропалую и ни гроша ему не платил. И не заплачу! Только сейчас я понял, что если надо было мне кого пришибить, так прежде всего эту сволочь.
– Вы не сказали, зачем вам понадобились золотые монеты.
– Для одного особого дела.
– Какого особого дела?
Матей просит разрешения закурить, следователь разрешает, Матей выкуривает треть сигареты и только тогда продолжает свои показания:
– На участке Мемлекетова жила одна переселенка, точнее, три, но я познакомился с одной, она стояла на квартире у тетки одного моего дружка. Мы с Иваном Мравовым всегда ходили на пару, у него была любовь с сестрой Мемлекетова, Рашкой. Мемлекетов не знал о том, что у них любовь, и, когда однажды они остались вдвоем, я, чтобы не скучать в одиночку, познакомился с переселенкой. Однажды ей понадобились деньги, потому что она забеременела и хотела поехать к врачу – избавиться от ребенка. Денег у меня не было, так что я оказался в затруднительном положении. В это самое время в наших краях появились цыгане-лудильщики. Иван Мравов поручил мне сопровождать их табор и передать его с рук на руки Мемлекетову, а тот в свою очередь должен был дать им сопровождающего, чтобы передать в следующий милицейский участок. Мемлекетова тогда на месте не оказалось, он уехал с боевой группой на оперативное задание, и я пошел с цыганами дальше, в горы.
– Они тебя не заподозрили?
– Думаю, что нет, и мы уже почти с ними сторговались насчет лошади. В горах у меня несколько раз мелькала в голове черная мысль выудить у цыган деньги за их незаконное олово, но я не знал, как подступиться, да и риск был большой. Они могли прикончить меня да и кинуть куда-нибудь в овраг. Все бы хорошо; но мы там повстречали Мемлекетова, он возвращался вместе с боевой группой с границы, мы разговорились с ним, выкурили по сигаретке, и когда я вернулся назад, в табор, то я уже решился вытрясти из цыган деньги. Я сказал им, что мне приказано милицией проверить по документам, откуда они берут олово, что я в милиции свой человек, они увидали, что деваться им некуда, и в конце концов всучили мне эти фальшивые монеты. А потом меня обдурил корчмарь.
– Вы часто брали в корчме вино и не платили. Куда вы носили это вино?
– Вино это я брал, когда шел к переселенке, я знал, что у меня набралось много долгу, но денег, чтобы рассчитаться, взять было неоткуда.
– Тогда-то вам и пришло в голову, что можно раздобыть деньги с помощью убийства?
– Нет, не тогда. Я не хотел убивать. А уж Илию Макавеева я и вовсе убивать не хотел.
– Почему же убили, если не хотели? Быть может, он дал вам повод?
– Да, он дал мне повод. Он дал мне повод, потому что я поджидал другого человека, но тот не появился, а появился Илия Макавеев.
– Какого другого человека вы поджидали и где?
– В Чертовом логу поджидал. К переселенкам ездил из города один человек на мотороллере, он до Девятого сентября был коммивояжером, продавал патефоны и швейные машинки, и еще была у него своя маслобойня. Я с ним познакомился, то есть нас та бабенка познакомила, и мы раза два выпивали вместе. Страшная сволочь, денег – куры не клюют, вражина, и, поскольку у меня с деньгами было худо, я решил подстеречь его как-нибудь вечером, денежки отобрать и поставить точку на всей истории.
– Вы имели намерение убить его, а деньги присвоить?
– Не собирался я его убивать! Я собирался протянуть поперек дороги веревку – там как раз поворот, – чтоб он свалился со своего мотороллера, отобрать у него деньги, и дело с концом. У меня и в мыслях не было его убивать. Беда в том, что он-то не появился, а вместо него подъехал Илия Макавеев.
– Не было ли у вас обиды какой на Илию Макавеева, не испытывали ли вы к нему неприязнь?
– Обида у меня была, и неприязнь я испытывал.
– С какого времени существовала эта неприязнь?
– Не знаю, с какого времени, но, как только я тогда его увидал, я понял, что у меня на него обида и что я испытываю к нему неприязнь.
– Иван Мравов подозревал вас в чем-нибудь?
– Я думаю, что не подозревал. Один только раз я испугался, подумал, что он меня подозревает и знает про все, но оказалось, что это не так.
– Когда это было?
– Когда я возвращался с хромой кобылой в село. Он застал меня в корчме, дорогой вдруг повалил меня, сам навалился сверху, вывернул мне руки, вот тогда я и испугался. Но это было зря, он просто так, шутил. Тогда-то я и подумал, что, если когда со мной что стрясется, плохо мне будет с голыми руками, и попросил у него раздобыть мне пистолет. Он сказал, что вообще-то не полагается, но обещал попробовать и раздобыл.
– Думаете ли вы, что, если бы вы не выстрелили, Иван Мравов выстрелил бы в вас, и тоже со смертельным исходом?
– Я думаю, он не стал бы стрелять, и это пугало меня сильней всего. Он взял бы меня живым, самое большее ранил бы в ногу или еще куда, чтоб взять живьем, потому я так и перепугался. Он скрутил бы меня поводьями, я догадался об этом и совершил убийство с целью самообороны. Признаю себя виновным в убийстве с целью самообороны.
Под конец он просит следователя, если можно, отдать распоряжение, чтоб унесли кринку и лепешку из камеры. На вопрос следователя, почему, подследственный объясняет, что не может прикоснуться ни к лепешке, ни к простокваше, что они истерзали его. Из-за жары простокваша в кринке забродила, вся пошла пузырями, ночь напролет слышно, как она словно кипит и дышит в кринке. Сидит ночью в кринке, как человек, и дышит, будто она живая, будто живой человек сидит в той кринке и дышит. Следователь обещает принять просьбу во внимание и сделать все, что в его силах.
Всички и никой. Перевод М. Михелевич.
Из сборника «Пороховой букварь»*
(Рассказы)

Барутен буквар © Перевод на русский язык «Художественная литература», 1975. Перевод Н. Глен.
Бурка
На наших холмах все мелкая скотинка копошится, животному, какое покрупней, трудно по козьим тропам карабкаться. Овца, которую мы держим, молока дает с пригоршню, а когда весной острижешь ее, и шерсти всего пригоршня набирается. Трава у нас низкая, колкая, скотине с утра до вечера щипать ее приходится. С тех пор как я себя помню, мы все такую скотину держим. Как говорит Два Аистенка, это вам не Германия, где скотину откармливают со слона величиной.
Ну ладно, а потом наши, деревенские, раздобыли эту черноголовую овцу, плевенскую. У черноголовой овцы морда длинная, точно у лошади, и ноги длинные, и копыта большие. Мы думали, что, как зарядят дожди, копыта у нее сгниют от грязи и она заболеет ящуром. Но дожди пошли, дороги развезло, плевенская черноголовая овца бродит по колено в грязи, однако копыта у ней что твой кремень, и ящуром она не заболела. Мужики стали один за другим менять свою скотину, и я своих старых овец, сколько у меня их было, спустил и купил плевенских, черноголовых. Голова у овцы черная и вымя черное (зато большое, как у козы), а шерсть белая. Одна только овца мне попалась сивая.
Когда подошло время стрижки, жена мне и говорит: «Давай-ка, Лазар, возьмем этой шерсти и белой столько же, и сделай ты себе бурку! Ты уже в годах, в твои годы без бурки нельзя!» Это верно, в молодые годы человеку не к лицу в бурке ходить, но как войдет в возраст, самое время буркой обзаводиться. А я-то, уж конечно, в возрасте – два землетрясения помню и одно солнечное затмение.
Ну вот, взяли мы шерсть от сивой овцы и от одной белой, жена ее выпряла, наладила свой ткацкий стан и соткала полотнище: полосу белую, полосу сивую, потом опять белую – сколько их там требуется на одну бурку. Понес я тканину на валяльню (мы валяльней сукновальню называем). Давидко мне приятель, вместе в севлиевских казармах служили, он сразу и запустил мою тканину в валяльню. «На бурку?» – спрашивает. «На бурку, – говорю, – я уж человек в годах, мне без бурки никак нельзя!» – «Так и знай, – говорит мне Давидко, – эта шерсть для бурки самая лучшая! Прежняя овца – она хилая, коли возьмешь от нее шерсть, как тканину через валяльню не пропускай, все равно войлока не получишь. А от этой черноголовой пропустишь разок – войлок и готов. Хоть воду в нем неси на вершину холма – не протечет! Да и молодка твоя, гляжу, густым бердом ткала». – «Окстись, – говорю я ему, – какая ж она у меня молодка! Да она как турецкая черепица ссохлась, а ты говоришь – молодка. Хотя ткать-то она умеет». – «Что ж ты думаешь, – возражает Давидко, – коли моя толстая, так от нее больше проку? От толщины тоже радости никакой!» – «Так-то оно так, – говорю, – чересчур толстая тоже ни к чему, а все ж когда потолще, оно приятнее! Бурку надумаешь справить, уж на что нехитрое дело, и то стараешься, чтоб потолще вышла». – «Насчет бурки, – говорит Давидко, – оно, конечно, верно!»
Войлок получился на славу, да только у нас в деревне портного нету, так что пришлось мне идти в соседнее село, а там портных целых двое. Один шьет по-городскому, позаковыристей шьет, лацкан какой тебе посадит или другую фиговину, а второй больше по старинке работает. Я пошел ко второму. Тот похвалил мой войлок, сшил мне бурку и, когда я за ней пришел, говорит мне: «Ну и войлок у тебя, Лазар, я об него все иголки пообломал! Игла его не берет, и утюгом его не прогладишь!» – «Это потому, что он из шерсти черноголовой овцы, той, плевенской, да и Давидко мне друг, на совесть в валяльне прокатал. Мы с Давидко вместе в армии служили, и в карцере три раза вместе сидели, и под ружьем вместе стояли». – «Что правда, то правда, – говорит портной, – по уставу он тебе войлок свалял, но и я по уставу бурку сшил, будешь носить и меня добром поминать!»
Накинул я бурку, а она на мне как влитая. Полоса белая, полоса сивая, полоса белая..! И все пригнано как полагается, и наголовник тоже складно посажен.
В бурке, я вам скажу, сразу чувствуешь себя как-то основательнее и шаг становится вроде внушительней. По дороге домой – я и сам замечаю – иду я медленней, ступаю с достоинством, проходя мимо валяльни, говорю только: «Здорово, Давидко!» – а поболтать не останавливаюсь, потому что человеку в бурке болтать уже не к лицу. Бурку коли надел, двигайся с достоинством, говори поменьше, если кто встретится и скажет: «Добрый день!» – отвечай только: «День добрый!» И больше ни слова, и гляди прямо перед собой. Встречный тогда подумает: «Этот-то в бурке, серьезный, видать, человек; кто его знает, куда он направился и по какому делу! Поговорить даже не останавливается и с дороги не сворачивает – прет себе вперед, точно паровоз».
А я вовсе никуда и не направился, просто к себе в деревню возвращаюсь, но бурка мне внушительности прибавляет… Вот так, стало быть, обзавелся я буркой. Овец прошло через мои руки без счету, но надо было появиться плевенской черноголовой, чтоб и я наконец сшил себе одежду, подобающую моему возрасту.
Осенью вся наша деревня отправляется в город на базар. Погода сырая, холодная, я, бывало, сколько лет в эту пору в своем вытертом полушубке ежился, а теперь шагаю в бурке и внимания на сырость и холод не обращаю. Снег уже выпал, мужички гонят скотину по снегу, другие перец несут на продажу, я тоже с низкой перца иду по тропке, в снегу протоптанной, но мне в моей бурке холод не страшен. Два Аистенка тоже идет со мной, весь скукожился от холода, хоть и в плаще, – гонит на продажу свинью. (Никакой он не Два Аистенка, звался он раньше Цеко, но поработал год в Германии – шоссе там какие-то прокладывали – и привез из Германии этот плащ и инструменты марки «Два аистенка». И все про них рассказывал, отсюда и прозвище пошло.) Два Аистенка подгоняет свинью, шмыгает носом и ежится в своем плаще. Плащ, хоть и германской работы, от холода коробится, твердый стал, что твоя жесть, а моей бурке хоть бы что – ни холод ее не берет, ни дождь. «Знаешь, Лазар, – говорит мне Два Аистенка, – продам я эту чертову свинью и возьму-ка я да тоже куплю себе плевенскую черноголовую. Разведу овец и сошью себе бурку. В этом плаще у меня все жилы померзли!» – «Стоящая скотинка, – говорю я ему, – шерсть дает, и молоко дает, и сглазу не боится. Прежних наших овец, сам знаешь, сглазить ничего не стоило, а эта черноголовая, хоть на русалочьем лугу пастись будет, ничего ей не станется». – «Непременно разведу, – говорит Два Аистенка и шмыгает носом, – только бы мне эту холеру продать!»
Это бы так, да только никто не хочет у Двух Аистят свинью купить. Кто на нее ни глянет, тут же спрашивает: «Небось скотина эта кур жрет, вон у нее какие клыки собачьи!» Два Аистенка бьет себя в грудь: «Как это кур жрет? Ширицу жрет, лебеду, свеклу кормовую – все, что свинье положено, то и жрет, а кур – никогда! Кровопийца она, что ли, чтоб курей жрать! Чего говоришь зря?» – «Жрет она их, жрет, – говорит человек, который к свинье приценивался, – стоит на ее собачью морду посмотреть, сразу видно, что жрет!»
И покупатель проходит дальше.
А она действительно жрет курей, как собака, на них кидается. Говорю я Двум Аистятам: «Прирежь ты ее лучше, свинью эту, и на мясо продай. Так у тебя никто ее не купит», – «Да у ней и мяса нет, – жалуется Два Аистенка. – Одни кости растут».
Коли не везет кому, так уж не везет.
Два Аистенка гонит обратно свою свинью, я несу обратно перец, но мне хоть не холодно, я не ежусь зябко, а шагаю по тропке с достоинством – только снег под ногами поскрипывает.
Так я и перезимовал эту зиму в бурке. Тот, кто носил бурку, знает, что это такое, а кто не носил, даст бог, еще обзаведется и сам почувствует, что значит бурка. В лес за дровами пойти, на мельницу сходить, на край света коли надо отправиться – всюду в бурке пройдешь, и ничего тебе не сделается. Какие только вьюги меня не настигали, но я наголовник нахлобучу поглубже, и плевать я хотел на все вьюги. В деревне все мою бурку знают, да и в соседних деревнях тоже, потому как ии к кузнецу в ней ходил, и на свадьбы, и даже в церковь ходил раз. Так что, можно сказать, все уже мою бурку перевидали, да и одалживать ее случалось. Придет сосед. «Так и так, – говорит, – Лазар, одолжи мне бурку, на маслобойню еду». Может, мне и не слишком приятно, но что делать – одалживал.
Отправился я однажды резать кукурузные листья, совсем рано еще было, до свету. Жена говорит: «Кинь бурку в телегу, утро пасмурное, может, и задождит». Кладу я бурку в телегу и еду в поле; когда приехал, чуть светать начинало. Кукурузные листья надо резать рано и тут же их в снопы вязать, пока роса не сошла, потому что, как солнце взойдет, они высыхают и делаются ломкими. Распрягаю я буйволов на опушке – моя полоска рядом с Керкезским лесом – и слышу: на соседней полосе кто-то кашляет. Два Аистенка меня опередил, тоже приехал кукурузные листья резать. Серп у него так и повизгивает – вжик, вжик. «Эй, сосед! – кричу я ему. – Ты что, в поле, что ль, ночевал?» – «А, это ты, – откликается Два Аистенка, – да я тоже только что распряг. Такой туман, что и не разберешь, рассвело или нет!»
И он снова берется за серп – вжик, вжик.
Я вешаю бурку на боковину, закатываю штаны и принимаюсь по росе резать кукурузу. Туман стелется низко, я вижу только спины своих буйволов, а на соседней полосе нет-нет да покажется шляпенка Двух Аистят. Потом туман подымается, скрывает шляпенку, и долгое время ничего не видно, и кукурузы не видно, а потом вдруг в одном месте туман разойдется, и я вижу даже лес. Еще время проходит, слышу сквозь туман, как Два Аистенка чем-то чиркает – чирк, чирк. Почиркает да и выругается.
Гляжу – идет ко мне, спрашивает: «Нет у тебя огонька, Лазар? Трут, паскуда, намок от росы». Трут у меня был, Два Аистенка закурил цигарку, подымил немного и опять пошел кукурузу резать. Довольно долго мы так резали, и то я что-нибудь соседу скажу, то он мне, потом я его спрашиваю, не хочет ли он перекусить, а он отвечает, что дома поел. А я проголодался, присел на дышло позавтракать. Еда у меня – одно название, что завтрак, но пожевал кой-чего всухомятку и только взял кувшин, чтоб напиться, из тумана вынырнул человек.
Ни одного глотка не успел я из кувшина сделать.
Человек прижал к губам палец – чтоб я молчал, значит; к поясу у него была граната прицеплена, в руке – карабин. Поверх рубашки безрукавка надета, вся рваная. Когда он подошел ближе, я разглядел, что он совсем еще молодой; парнишка, можно сказать, давно не стриженный, глаза больные, губы потрескались. Я понял, что он из тех, которые скрываются в лесах.
«Дядя, – говорит парнишка, – помалкивай!» И спрашивает, не могу ли я ему дать хлеба, воды, одежу какую. Лихорадка его бьет, дрожит весь, и мне его дрожь передалась, и я дрожу и крещусь. Крещусь я в уме, отдаю ему весь хлеб, брынзу даю, и яйца вареные у меня были, так и яйца даю, только соли не было, жена забыла соль положить. «Ничего, дядя, – говорит парнишка, – и без соли сойдет!»
«Эй, Лазар, – окликает меня Два Аистенка, – что это ты притих?» – «Да вот незадача, – говорю ему, – серпом порезался». – «Какое место?» – спрашивает, и я скорей отвечаю, что ногу окарябал. «Так и покалечиться недолго, возьмешь да и перережешь жилу какую», – слышу я голос Двух Аистят. И он снопа начинает чиркать огнивом – чирк, чирк. А вдруг у него трут опять намок?.. «Дашь мне закурить, я к тебе сейчас подойду, а то у меня весь табак вышел», – говорю я Двум Аистятам. Он отвечает, что даст, и я встаю с дышла, чтоб идти к нему, потому что боюсь, как бы он не пришел ко мне. Парнишка прижимает палец к губам, а я киваю ему головой: буду, мол, молчать!
Кукурузные листья хлещут меня по лицу, а я и не чувствую и вкуса табака не ощущаю. Два Аистенка толкует мне о чем-то, а я все смотрю в сторону моей полоски и молю господа бога, чтоб туман не разошелся и Два Аистенка не увидел бы чего не надо. Но туман лежит густой, белый, как молоко, и я, как ни вглядываюсь, не вижу ни телеги, ни буйволов, ни парнишку. Бреду вслепую назад и вроде бы старался идти по тому же ряду между стеблями кукурузы, но, видно, сбился, потому что вышел к задку телеги.
Парнишка стоял, хоронясь за боковиной, накинув на себя бурку, чтобы согреться, но, несмотря на бурку, его по-прежнему била дрожь. Карабин он держал дулом вниз. Как увидел я на нем свою бурку, мне вдвое страшнее стало. Отдать ему бурку – не годится, назад затребовать – тоже не годится. Два Аистенка кашляет в тумане, чуть не в пяти шагах от меня, и мне кажется, что вот сейчас туман рассеется и мы с парнишкой откроемся всему свету.
«Беги, парень, – говорю я тихо, – беги вон туда, к Керкезскому лесу!» Парнишка пошел как-то боком и на ходу делает мне знаки руками, и я тоже знаки ему делаю, но я не понимаю, какие он делает знаки, а он – какие я. Знаки я делаю бессмысленные, крещусь в уме и молю бога, только чтоб туман не поднялся и мы не открылись бы вдруг Двум Аистятам.








