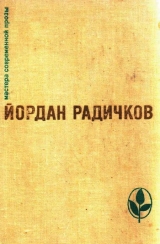
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
…Но он не соскакивает. Сжимает зубы на боковинах, глаза постепенно гаснут, обнаженная сабля меркнет, воевода впадает в задумчивость. Австрийский капитан берет под козырек и таращит глаза, турок прячется за пароходной трубой и, верно, думает: «Черт возьми, эти и нас переплюнули!»
Фью-фью! – грустно свистят кувшины в телеге.
Иногда в дороге мне попадаются и другие телеги с отрядами на боковинах. На Йончовом постоялом дворе я встретил одного, на его телеге весь отряд был нарисован на коленях, на козлодуйском берегу, готовится поцеловать родную землю. Парохода у него не было. Да и сама телега была другого устройства, без звончаток. Этот человек мне пожаловался, что ему велели замазать отряд черной краской, той краской, которой красят дерево, чтобы не гнило. Человека, значит, вызвали в участок и приказали ему перекрасить телегу, потому как власти не желают, чтоб по всем дорогам шастали отряды. «Чтоб их черти взяли, – думаю, – меня-то еще не вызывали, и дай-то бог, чтоб не вызвали!» Ездил я и в монастырь посмотреть, какие там телеги. На боковинах у них ничего не нарисовано, а на задних щитках – Софроний Врачанский в окружении грешников. Бунтарского в монастыре ничего не оказалось. На обратном пути меня поджидал в лесу мой племяш, сказал мне, чтоб я поехал на паровую мельницу, там меня вечером разыщет один человек и передаст мне кое-что, а я это должен оставить под мостом. Человек скажет мне пароль. Это что такое – пароль? «Слово, – говорит племяш, – он тебе одно слово скажет, ты ему другое, это и будет ваш пароль». Говорит он мне пароль и ныряет в чащу – бравый паренек, боевой, как те ребята из ботевского отряда. Ему б еще папаху меховую да галуны, совсем как они был бы.
«Н-но!» – говорю я лошадкам и еду на паровую мельницу.
А на мельнице как на мельнице – толпа! Народ, скотина, телеги, костры – все смешалось, я ищу, где бы распрячь лошадей, и все повторяю про себя слово, которое тот человек мне скажет, и слово, которое я ему должен сказать. Нашел место, распрягаю, задаю лошадкам сена, но от телеги не отхожу, потому как человек тот, может, уже здесь и ищет меня. Стою у телеги и все поглядываю, не подойдет ли кто ко мне и не скажет ли слово.
Гляжу – появляется один, еще невзрачней, чем я, ну, думаю, из нашенских – наверное, он! Но на поверку вышло – не он. Про что только не наговорил мне, а того слова не сказал. И я тоже про что только не говорил с ним, но слово – ни-ни. Побалакали мы, он отошел к другой телеге и принялся языком чесать, а моего человека нет как нет.
Под вечер на дороге появилась телега, лошади крупные – чистые драконы, упряжь с бубенчиками – звенят-заливаются. И телега тоже большая, с высокими боковинами, все железом обковано и разрисовано. Сразу видно, что хозяин телеги знает толк в конях и в упряжи. Едет в мою сторону, заворачивает и – тпру-у! – еле удержал лошадей. Гляжу – он и сам богатырь, соскакивает с телеги, хлопает лошадей по холкам, распрягает, растирает им брюхо клочком сена, подвязывает им торбу и идет в гущу телег и народа. Тут остановится, там остановится, на голову выше всех, и все у него крепкое, ладное. И к моей телеге подходит, только с другой стороны, остановился, поглядел на отряд на боковине, потом на меня поглядел. Глаза веселые, кепка на затылок сбита, видать, славный человек. «На совесть сделано», – говорит он мне про телегу и спрашивает, чья работа. Я объясняю ему, чья работа. «Неплохо, неплохо!» – кивает он одобрительно и идет мимо моих лошадок, слегка похлопывает их рукой и, похлопывая, говорит мне слово. Столько времени я ждал, когда мне это слово скажут, а как сказали, я так и обомлел, дыханье сперло, и немало времени прошло, пока и я сказал ему свое слово.
Он спросил у меня, привез ли я на мельницу зерно, я сказал, что привез один мешок, около пуда, но народу вон сколько, когда еще до меня очередь дойдет! «Сейчас дойдет», – говорит он и берет из телеги мой мешок. Я за ним, проходим сквозь толпу помольщиков на мельницу. Мой знакомый кричит: «Йосо, Йосо!» Ремни свистят, колеса вертятся, повсюду лотки. Среди ремней показался механик, на один глаз чуть косит, в руке – разводной ключ. «А, это ты, здорово!» – «Есть у тебя мука готовая? – спрашивает мой знакомец. – Отсыпь ему пуд, что ж ему ждать из-за одного пуда!» Йосо положил разводной ключ и насыпал мне пуд муки, а мое зерно забрал. Знакомец мой взял мешок и – назад, к телеге. «Как стемнеет, – говорит он мне, – запряжешь и подъедешь к моей телеге, кое-что к тебе переложим, и потом ты – своей дорогой, а я – своей. Понял?» – «Понял, – говорю, – пока светло, этого не сделаешь, будем темноты дожидаться».
Когда ждешь, темнеет медленно, но все-таки темнеет. Мой человек нашел знакомых, подсел к их костру, а я стою у телеги и смотрю, когда он встанет и пойдет к своей телеге. Наконец он встал, но на меня не смотрит, стоит ко мне спиной. Я начал запрягать, кашляю через силу, чтоб он меня понял, он, видно, понял, повернулся и пошел к своим лошадям. Ладно, но я гляжу: к его телеге еще какой-то человек идет, с керосиновым фонарем. Человек с фонарем подошел первый, обошел телегу со всех сторон, покачал головой. Незнакомый, видно, – стал расспрашивать моего, где ему делали телегу, сколько с него взяли и т. д. Тот ему объясняет. Я гляжу на телегу, она тоже расписана, как и моя, только на свой манер. Другой, видно, мастер руку приложил. Фонарь освещает высокую боковину, и я вижу на боковине Летучий отряд Бенковского [10]10
Бенковский, Георгий (1841–1876) – один из руководителей Апрельского (1876 г.) восстания болгар против османского ига.
[Закрыть]. Красиво нарисовано, с чувством, и хорошо это придумал мастер – посадить на боковину Летучий отряд. Человек с фонарем порасспрашивал, порасспрашивал и ушел. Мой знакомец вздохнул, снял со своей телеги какую-то длинную штуковину, я засунул ее промеж сена и мисок, сверху уложил кувшины, потом опять слой сена, потом он дал мне узел в промасленной бумаге. Узел был тяжелый, но что там – не спросишь, в таких делах спрашивать не полагается. Снова сверху сено, несколько горшков, и я тоже забираюсь на телегу.
«В добрый путь!» – говорит мне человек. «В добрый путь!» – говорю я ему, и мы оба трогаем. Он впереди, я за ним, и так выезжаем на шоссе. На шоссе человек повернул в одну сторону, я – в другую. Он вытянул лошадей, они обратились в драконов и помчали галопом Летучий отряд. Я хлестнул своих лошадок, бедняги затрусили, тележонка запела. Были б у меня такие драконы, как у того человека, запряг бы я их в мою телегу, да как встал бы в ней во весь рост, да взмахнул бы кнутом, да как полетел бы вместе с отрядом и пароходом – все бы так и шарахались с дороги… Да, но тогда от моих горшков и мисок одни черепки бы остались!
Нет уж, так, как есть, для меня и лучше.
Еду я и перебираю в уме всякую всячину, но, как стал подъезжать к мосту, ни о чем другом уже думать не могу. Не впервой мне оставлять что-нибудь под мостом, но на этот раз не выходит он у меня из головы. Со стороны реки потянуло ветерком, стало прохладно, я закутался и хлестнул лошадок, чтоб бежали веселей. Кто-то свистнул сзади, оборачиваюсь – никого. Кувшин свистнул. Снова свистнули, я знаю, что это кувшин, но все же снова обернулся. На дороге никого – ни позади, ни спереди.
Только мост передо мной.
Останавливаюсь я перед мостом, здесь ветер сильнее дует. «Ну, Флоро», – говорю я себе, вытаскиваю ту штуковину, длинную, завернутую, и узел тоже вытаскиваю. Кувшины рассвистелись на ветру – который басом, который тонким голоском, – но мне сейчас не до кувшинов. Спускаюсь с обрыва, споткнулся два раза, ныряю под мост, чтобы спрятать свертки, а кувшины наверху свистят, проклятые, надрываются. Лезу вверх по обрыву, кувшины свистят изо всех сил. «Н-но!» – кричу я лошадям, на ходу прыгаю в телегу, потому что увидел, что на другом конце моста впереди – люди.
«Стой!» – заорали люди, а я хлестнул лошадей и прямо на них. Кувшины улюлюкают на все голоса, те палят из винтовок, на глаза мне упала пелена, темно стало – ничего не видно. Ничего я не вижу, но слышу и чувствую. Слышу, как кувшины еще свистят подо мной, я упал назад на кувшины, они свистят и бьются один за другим. Все побились, один только кувшин остался, то замолкает, то посвистывает, точно удивляется чему-то.
«Видать, это засада была, Флоро, – говорю я себе, – из засады палили гады, хуже тех черкесов, что стреляли когда-то по отряду, а потом шли свои дома навозом мазать! А ты, Флоро, не бойся темноты, в своей ведь телеге лежишь, и кувшины не жалей, другие кувшины понаделаешь! Один кувшин-то ведь у тебя остался, свистит в темноте, напоминает, что не один ты на свете. Да и как же ты можешь быть один, Флоро! Ты только посмотри: с одной стороны весь ботевский отряд выстроился, и лев в строю вместе с отрядом, с другой стороны пароход дымит, точно паровоз, дым у него никогда не иссякает. Черкесы и башибузуки щурятся от дыма и смотрят через боковину, как величественно лежит Флоро в своей телеге. Ведь кабы не было величественно, Флоро, разве стал бы австрийский капитан вытягиваться в струнку и брать под козырек!»
Два Аистенка
Не знаю, кто наградил меня этим прозвищем, пожалуй, что я сам себя наградил. Один год я ездил работать в Германию, шоссе там, значит, прокладывали, и навез оттуда всякого инструмента – пилы, бритву, топор, два тесла (одно себе, другое для свояка – очень был доволен свояк. «Знаешь, – говорит, – свояк, такого тесла мне еще не попадалось, ну прямо-таки идеал!»), рулетку полутораметровую, хотел еще шлямбур купить, да деньжат не хватило. Германцы не то что мы, особенный народ: как сделают инструмент, тут же на него марку сажают – «Два аистенка»; даже лопаты, которыми мы шоссе копали, простецкие лопаты, а и на них «Два аистенка» посажены! Мы паровоз построим и то не догадаемся «Двух аистят» на него посадить, а германец догадывается. Самую разобыкновенную пилу сделает, а все равно найдет, где марку тиснуть. Ясное дело, для этого и сталь нужна, золинген, и все такое прочее. Я раз носил мой топор к кузнецу поточить, так топор весь брусок съел и так и не наточился. Куда уж простому бруску, сделанному в каменоломне, наточить «Двух аистят»! Как я посмотрю, для этого дела по крайности наждачный круг нужен! Да где уж нам! У нас и бруски самые простые, и железо простое, никакой тебе выделки; нашим инструментом поработаешь – все руки себе отмахаешь. Я ведь вижу, когда мы со свояком в лес по дрова ходим: я уже три дерева срублю, он – одно, я – три, он – одно. И вроде бы точил он свой топор, вроде бы отбивал, а все равно дерево не берет. Как же ему взять, когда железо все стертое и заношенное, ровно солдатское белье. «Слышь, свояк, – говорит мне свояк, – мой топор марки „Один аистенок“, где ему с твоим равняться!»
Вот от этого инструмента и вышло мне прозвище.
Я и еще кой-чего оттуда привез, барахлишка разного, только его я и сам не одобряю. Дождевик привез, тоже германской работы, но, как ударят холода, он все равно что жестяной становится. Куда немецкому дождевику против нашей бурки! Сосед у меня есть, Лазар, пошли мы с ним как-то зимой на базар, гляжу – он себе новую бурку сшил. Наголовник надвинул пониже, тепло ему, а я в своем дождевике ежусь, и чем больше ежусь, тем холодней мне делается. Один паренек к нам прибился, Чукле по прозвищу, несет в корзине два десятка яиц – продавать на базар. Так вот Чукле и говорит: «Как по моему рассуждению, дождевик лучше – от ветра защищает и дождь по ему скользит!» – «Ты мне только дай бурку, – говорю я ему, – я тебе тут же этот дождевик подарю! Вот эту свинью как продам на базаре, так куплю в чесальне шерсти и тоже себе бурку справлю. Германец инструмент может сделать, но дождевик этот – дрянцо. И вся одежда у них дрянная – древесина одна, по древесине разные финтифлюшки пущены и сзади разрез. Германец себе пинжак каждый год перелицовывает!» Чукле и говорит: «Так он его лицует, чтоб пофигуристей быть! Как перелицует, так пинжак все равно что новый и фигуристей становится! А у нас кто ж тебе фигурять будет! Как по моему рассуждению, у нас никто пинжаков и не лицует!» Лазар тут говорит: «И перелицуешь даже – он и получится подкладкой вверх. А коли портному дать, чтоб распорол, так зачем же пинжак пороть, когда он и сам рано или поздно порвется». – «Еще б не порвется, – говорю я Лазару, – я вон свой дождевик в двух местах уж порвал».
Коли дальше так дело пойдет, пусть он и в трех местах порвется, все равно в нем ходить буду, потому что никто не хочет у меня свинью купить. Она, паскуда, приспособилась курей жрать, всех моих курей сожрала да еще трех уток. Кто на нее ни посмотрит, тут же и говорит: «Э, дядя, твоя свинья, видать, курей жрет!» – и никто ее у меня не берет, напрасно только по холоду с ней таскаюсь и в снегу по колено вязну. Правда, как я погляжу, Лазар свой перец тоже не продал, хоть его перец кур и не жрет. Только этот, Чукле, всю корзину распродал. Не успел на базар прийти, продал яйца и тут же куда-то смылся. Может, купить что надумал – кто его знает… На обратном пути Чукле снова нас догнал, купить ничего не купил, а все деньги от яиц парикмахеру отдал за прическу, завил волосы мелкими кудряшками, как девушка, и такая голова у него стала – впору наседку на яйца сажать. «Ишь ты какой фигуристый стал!» – говорю я ему. «Подумаешь, дело большое, – мотает головой Чукле. – Как по моему рассуждению, лучше двадцать яиц на голову свою употребить, чем на жратву! Не одним женщинам фигурять, мы тоже не желаем как звери ходить».
Я объясняю Лазару и Чукле, как, значит, германка фигуряет. Там, брат, все сплошная канбинация, и на резинках всё, женщины, как ужи, блестящие да скользкие, пальцем боязно дотронуться. У нас разве увидишь канбинацию да резинки! Одна пенька да веревки, подвязывают чем ни попадя, а юбки ровно из фанеры сделаны. А у германки канбинация, резинки да еще сверху что-нибудь тонкое наденет – как ветер дунет, так ей все до ляжек и задерет. Это, я понимаю, фигурять! Наши разве в фигурянье что понимают? А те понимают, мать их за ногу, порядок на все установили; куда ни поглядишь, всюду порядок. Уж чего проще – налог заплатить, так германец тут же идет и платит, а мы волыним, волыним, пока сборщики не придут и не начнут секвестировать. А германец на все порядок навел. Там и по шоссе, к примеру, идешь, посмотришь – все по правой стороне шагают. А мы вот идем по тропке втроем, и никто правой стороны не держится. Германец, пусть хоть на дороге живой души не будет, ни за что тебе посередке, по чужой тропке, не пойдет. Все равно он будет держаться правой стороны и новую тропку по снегу протаптывать, потому как порядок такой.
«У нас такому в жизни не бывать! – говорит Лазар. – У меня мысли, может, занеслись неведомо куда, только мне и делов что думать, справа мне идти или не справа. А насчет налогов, так это, я тебе скажу, надо, чтоб деньги были. Порядок сколько хошь можешь наводить, а коли денег нету, налог все равно не заплатишь. Вот вкатят тебе сейчас наряд – два бидона сала с этой свиньи, попробуй натопи с нее два бидона!» – «Ишь ты, два бидона! Да у ей только кости растут, не видишь, что ль, какая она, паскуда, тощая. С нее и полбидона не натопишь!»
А, где наша не пропадала!
Прирезал я эту свинью, полбидона сала натопил, остальное на шкварки пошло, мясо – когда с капустой, когда с рисом – тоже все подъели, даже до весны не хватило, так что всю весну и все лето на одном постном сидели. Германец как зарежет свинью, все на колбасу пускает, два года, значит, может свинью лопать, а мы за два месяца целую свинью умнем и потом пробавляемся травкой. Хотя, если поглядеть, нам еще не так туго приходится; грекам, к примеру, или сербам куда хуже. Тем летом привезли в нашу деревню грека одного, в ссылку, значит. Вроде он табаком торговал и одет вроде по-богатому, а германец на греков лапу наложил, и этого – в ссылку. Так он и живет в нашей деревне. А свояк мой в Сербию ездил, вернулся и говорит: «Слышь, свояк, насчет того, что ты про германца рассказываешь, никак я поверить не могу! Германец – похуже животное, чем мы!» И узнал я у него, что германец в Сербии тьму народа и скотины перебил. Куда ни придет, поливает овец бензином, поджигает и пускает их в разные стороны. Овцы горят, на землю кидаются или подпрыгивают на три метра, в кошары и сараи забиваются, кошары и сараи вспыхивают, села, точно порох, горят.
«Ну и ну! – говорю я свояку. – Если война или там оккупация, человека убить – куда ни шло, но чтоб скотину палить, это уж ни в какие ворота не лезет! Я германца совсем другого видел». Раз работали мы на шоссе, лошади уперлись и не хотят телегу везти. Германцы кричат: «Но! Но!» – а лошади только прядут ушами и ни с места. Тут мы как взяли наши лопаты, как саданули лошадей лопатами, ты б видел, как они рванули и полетели – прямо ветер, телега еле земли касается. Ух, как тут эти германцы взъярились, залопотали: «Цвайциг! Цвайциг!» – убить нас готовы были за то, что мы ихних лошадей разок лопатой двинули… Потому как в Германии – порядок, скотину бить нельзя. Скотине объяснять можно, уговаривать ее, коли она тянуть не хочет, сам впряжешься и потащишь, но чтоб ударить ее – никогда! И чтоб германец скотину поджигал – ну, никак на него не похоже! Может, они когда в другом государстве окажутся, тогда и лошадей бьют, и овец поджигают. Хотя скотина – она всюду скотина, при чем здесь государства!
Поди их разбери!.. Народ! С одной стороны подойти, всякий тебе инструмент мастерят, на каждый инструмент «Двух аистят» посадят, а с другой стороны – такой дождевик сделают, что его только надень, сразу начнешь от холода зубами лязгать! Поди их разбери!.. Говорю я свояку: «Слышь, свояк, ты, значит, коли на чужой земле окажешься, глазей только да крестись. А коли на что позаришься, пусть у тебя лучше рука отсохнет. У нас если на что позаришься – оно и ничего, бревно можешь украсть, коли тебе требуется, и телегу целую можешь украсть; лес – государственный, государства не убудет оттого, что ты малость дровишек нарубил. Однако на человека или на скотину руку подымать негоже. Государство пусть подымает, а ты – не смей!» Государство и вправду то здесь, то там руку на людей подымает, в нашей деревне еще нет, но по другим деревням одного в тюрьму посадили, другого в лагерь отправили, а в Железне, слыхал я, даже застрелили одного.
Наша деревня мирная, только вот грека того привезли, ссыльного, но он тихий человек, миролюбивый, улыбается во весь рот и по-болгарски ни хрена не смыслит. Чукле учил его говорить «шестьдесят шесть козьих кож», но он и этого не может сказать, потому как ни «ш» выговорить не может, ни «ж»!.. Так вот, деревня у нас мирная. Бедность, конечно, но, когда все тихо и мирно, терпеть еще можно.
Я и Лазару про это толкую. Как-то режем мы с ним кукурузные листья в поле у Керкезского леса, трут у меня намок от росы, пошел я к Лазару за трутом, он растирает зеленые листья табачные в порошок и сворачивает цигарку. «Паскуда табак – никак не раскуришь, – жалуется Лазар, – а закуришь, цыганом воняет. Грек наш, ссыльный, даром что ссыльный, а все сигареты курит. Видно, денег у него куры не клюют!» – «Знаешь, Лазар, – говорю я ему, – все одно нам лучше: бедность, конечно, и табак дрянной, и сажаем его нелегально, но по крайности мы не ссыльные. Пока ты дома и никто тебя не трогает, на хлебе и воде перебиться можно». – «Верно», – соглашается Лазар и дает мне свой трут и объясняет, как его завернуть, чтоб не намок. Я-то сам промок аж до пупа, потому как ночью роса густая выпала и туман густой. «Туман сегодня так и не подымется, – говорит Лазар. – Если только ветер разгонит, но, как я погляжу, сегодня ветра не будет».
Пусть себе держится туман, кукурузные листья так лучше резать и в снопы вязать удобнее. А то, если туман подымется, солнце подсушит кукурузу и листья начнут сыпаться, как порох. Кукурузные листья сподручней всего в туман резать. Я люблю наш туман, в нем все становится невидимым. Сам он чистый, белый – все равно что в вате двигаешься, и в двух метрах ничего не видно. Слышать слышишь, а видеть ничего не видишь, хоть и светло!
В Германии туман совсем другой. Даром что Европа и не знаю что еще, а туман чернее дегтя. Я-то знаю – когда мы работали на шоссе, спустился как-то раз туман, и ничего не стало видно, и дышать нечем. Мы завязали носы платками, да толку никакого. Туман едкий, кислый, черный, промозглый, мы все в трубочистов превратились. Сплюнуть захочешь, так и плевок тоже черный. Куда ихнему туману до нашего! Наш туман чистый, все в нем светлое, так что и на душе светлеет, и потихоньку-полегоньку становишься невидимкой. Говорю я Лазару: «Лазар, так и так, в тумане нас не видно, отчего бы нам не пойти в Керкезский лес, не срубить пердь-другую». Он говорит: «Видеть-то нас не видно, но, как застучишь топором, тебя знаешь где услышат. В туман далеко слышно». – «Слышно не слышно, я пойду. Важней, что нас не видно!»
И пошел я с топором, тем, что с «Двумя аистятами», к лесу, а позади меня Лазар режет серпом кукурузные листья: вжик, вжик. Режет, а сам прислушивается, не застучит ли мой топор. Лес вдруг обступил меня. Зашел я в чащу, там деревья покрепче, присмотрел одно и стал рубить. Рядом еще кто-то до меня рубил, но высоко брал, с полметра над землей. Я так не люблю. Коли рубишь, руби низко, тогда весной крепкие побеги полезут, а если высоко срубить, побеги будут хилые. Срублю еще две-три жерди и вернусь сюда подправить этот пень, не люблю я такую рубку; хоть ты и крадешь, рубить надо, как на своей лесосеке.
Свалил я несколько стволиков и вернулся срубить пониже тот пенек, а рядом с ним куст шиповника. Занес я топор, но промахнулся, потому что рукавом зацепился за шиповник. «Чтоб тебя!» – сказал я шиповнику и обернулся, чтоб наступить на него и тяпнуть по нему «Двумя аистятами», но не наступил и не тяпнул, а так на месте и обмер.
Рядом с шиповником лежал кувшин, на траве была разбросана яичная скорлупа и обрывки газеты. Трава была примята – видно, лежали на ней люди, хоронились за кустом. Известно, какие люди ходят нынче по лесам; слыхал я, что в других деревнях их уже видели, но кто ж мог подумать, что они явятся в Керкезский лес! Поглядел я – похоже, что здесь стоянка у этих людей, здесь они, значит, спят, едят и пьют воду из кувшина, а потом отправляются либо по сыроварням, либо архив у какой сельской общины спалить, либо жандарма какого пристукнуть. И как покончат с этим, пробираются обратно в наш лес, рядом с самым моим полем. Никому и в голову не придет, что они в Керкезском лесу, потому что у нас все мирно, деревушка тихая, никто из нас еще на государство не замахивался, да и государство ни на кого еще руку не подымало. Разве только тот грек, ссыльный, но как уж он там может руку поднять! Он даже «шестьдесят шесть козьих кож» выговорить не может, куда ему руку подымать… Я дергаю рукав, чтоб от шиповника отцепиться, шиповник тоже меня дергает, того и гляди рукав оторвет. Выбрался я наконец с другой стороны, но к кувшину подойти не смею. Откашлялся для храбрости, оглянулся – ничего не видно, повсюду туман. А вдруг они стоят в тумане за деревьями и выскочат оттуда все разом и увидят, что я стою рядом с их кувшином с топором в руке, что они подумают? «Что это ты здесь делаешь, дядя?» – скажут они и упрут винтовки мне в живот.
Меня прохватила дрожь, и я стал потихоньку пятиться. Сучок треснет под ногой – я подпрыгиваю, как заяц. И даже мне показалось, будто за кустами человек мелькнул, вроде я и лицо какое-то увидел. Вернулся я к моим жердям, обрубил наскоро ветки, а одним глазом все поглядываю, не появится ли откуда человек. Взвалил жерди на плечо, тащу их лесом, а они волочатся за мной и шуршат. Выбраться бы только из леса, и больше я за жердями не ходок. Струсил я, потому как они-то меня видят, а я их нет.
Вот тебе и туман, белый да приятный! Радуйся теперь туману! Еле выбрался я из лесу.
«Больно быстро ты нарубил!» – говорит мне Лазар. «Конечно, – говорю, – ты б на моем месте был, и ты бы нарубил быстро». Но как все было, ему не объясняю. Отнес жерди к своей телеге, положил на днище и сел на дышло выкурить цигарку. Лазар режет серпом, но то и дело останавливается. А вдруг он тоже видел человека и теперь затаился на своей полоске? Или кувшин видел? Нет, не может быть, Лазар не ходил в лес. Сижу я на дышле, курю и ничего не вижу, и меня никто не видит – слышу только, как Лазар серпом работает. Те, что в лесу, тоже небось слушали, как мы с Лазаром разговариваем. И вдруг я весь похолодел – а вдруг я сболтнул что лишнее про германца, похвалил его за что-нибудь, а те там слушали да решили под конец: «Больно он германца нахваливает, отчего бы нам его не шлепнуть в тумане!» Перебираю я все в уме – про грека мы говорили, про туман и про германский туман – мерзость, чернота одна, все себе носы завязывают. Если те слышали, что мы про туман говорили, верно, подумали: «Наш человек!» А может, они еще стоят в лесу с винтовками и гранатами и ждут, о чем мы дальше с Лазаром разговаривать будем, и тогда уж будут нам приговор подписывать. Лазар-то не больно разговорчивый, пришибленный он мужик, ничего он такого никогда и не скажет, чтоб приговор ему подписать. Я – другое дело, я шоссе в Германии прокладывал, среди всякого народа терся, газетку почитать могу, порасспросить о том о сем, а Лазар что – где ему шоссе в Германии прокладывать! Да Лазар и поезда-то сроду не видал!
«Вот паскуды!» – говорю я громко, а сам все сижу на дышле. «Кто?» – спрашивает меня Лазар с соседней полосы и перестает резать кукурузу. «Как кто, германцы! Подсунут тебе, паскуды, дождевик, сверху глянец наведут, а наденешь его, он тут же в лапшу превратится. Трещит весь и лопается, оглянуться не успеешь, а на тебе лохмотья одни висят! Паскуда этот германец, у себя не дает до скотины пальцем дотронуться, а в Сербии поджигает овец и гонит их в деревню, чтоб и деревни поджечь. Коли он в Сербии овец поджигает, в России, значит, он бог весть что жгет. И думает, что коли жгет, так он порядок наводит. Огнем разве порядок наведешь?! Должно, туман ихний его гонит, в ихнем тумане дышать нельзя, вот он и подался к нам, наш туман ему почище показался».
Рассуждаю я так, сидя на дышле, Лазар слушает, а потом зашуршал чем-то. «Ты кончил резать?» – спрашиваю. «Кончил, нагружаю уже». – «Так и я тогда грузить буду, вместе поедем, в такой туман лучше вместе ехать». И я тоже начинаю грузить телегу, нагрузил и веду буйволов к Лазаровой телеге. Лазар запрягает, сейчас тронемся. Гляжу я на него и думаю: «Эх, Лазар, знал бы ты, что в лесу делается, так бы и упал на месте и язык бы у тебя от страха отнялся. Стоянка лесовиков в одном метре от нас, они стоят с винтовками, слушают, о чем мы говорим, и приговор нам подписывают. Ты, как ты есть несуразный мужичонка, лучше ничего и не говори, кашляй только, чтоб они знали, что нас двое, а разговор я на себя возьму».
Думаю я так и гляжу – у Лазара руки трясутся, не может притыку вставить. Ну до чего ж несуразный мужик! «Дай, – говорю ему, – запрягу!» Вставил притыку, и зашагали мы с ним в тумане. Я иду, а сам нет-нет да обернусь, стараюсь только, чтоб Лазар не заметил, что я оборачиваюсь, а он хоть и несуразный, да замечает. И все мне кажется, что сейчас то ли сзади нас, то ли спереди выйдет кто из кукурузы, скажет: «Стой!» – и прочитает нам приговор. Меня прихлопнут, а Лазара отпустят. Меня потому прихлопнут, что я видел, где их стоянка, кувшин ихний видел. Царь Траян с козьими ушами потому ведь отрубил юношам головы, что юноши видели его уши. Попробуй, коли увидишь, что у царя Траяна козьи уши, не сказать про эти уши. Вот и со мной примерно такая история приключилась. Начну хиреть, один меня спросит, другой меня спросит: «Эй, Два Аистенка, что это ты приуныл – или скрываешь что, или тебя что точит?» Тут я и скажу: «Так и так, пошел я в Керкезский лес и увидел в том лесу козьи уши…»
Ну да, скажу! Пусть хоть с живого шкуру сдирают, все равно не скажу.
«Эта паскуда германец, – начинаю я снова вслух, – только и знает, что одежу перелицовывать. И разрез сзади посадит, схватить бы его за этот разрез и швырнуть не знаю уж куда. Он думает, что коли он такой разрез посадил и пинжак перелицовывает, так он может на какое хошь государство руку поднять…» Лазар молчит, сопит – кто его знает, где сейчас его мысли бродят!
Кое-как добрались мы по туману до деревни. Лазар к своему дому свернул, я – к своему. Велел я жене разгружать телегу, а сам пошел по деревне пройтись, потому как не сидится мне на одном месте. Туман редеет, дома проступают один за другим, и то за одним домом мелькнет человек, то за другим, то за сараем каким. То это мужчина, то женщина, и, как всмотрюсь попристальней, вижу, что у всех у них козьи уши. И у женщины козьи уши, хотя какие уж там козьи, они с ослиные величиной! Поджидают за домами, чтоб я их увидел, и, как только я их увижу, тут же прячутся. «Плохо твое дело, – думаю, – раз тебе царь Траян с козьими ушами стал мерещиться!» Думаю я эдак, иду по улице, те все мелькают, потом исчезли, как сквозь землю провалились, а вместо них вдруг слышу крики и вопли, будто кого-то режут.
Побежал я по улице в ту сторону, где режут, и вижу в тумане хозяина дома, где ссыльный грек живет, – бегает взад-вперед, как оглашенный. На втором этаже дома что-то вроде балкона, на балконе стоит грек, ломает руки и повторяет испуганно: «Сестьдесят сесть козьих коз! Сестьдесят сесть козьих коз!» Снизу к нему рвется отец нашего Чукле, посинел аж от ярости, размахивает над головой топором и орет во все горло: «Зарублю! Разнесу башку его вдребезги, узнает тогда эта паскуда греческая, как на чужого парня зариться!..» Несколько мужиков держат его и не дают подняться по лестнице к ссыльному. Тот все твердит испуганно с балкона: «Сестьдесят сесть козьих коз!» Под балконом стоит Чукле, завитой еще с зимы, сжимает под мышкой календари с царской фамилией и объясняет, хоть никто его не слушает: «Как по моему рассуждению, отец напился. Чем же грек виноват – я предложил ему купить календарь с царским семейством, он два купил. Как по моему рассуждению, чем же он виноват?»
Отец снова стал рваться наверх, на этот раз больше с помощью мата. Я схватил хозяина за воротник и поволок его во двор. «Будет тебе топтаться без толку, пойдем наведем порядок! А ты, – говорю я Чукле, – катись отсюда со своими календарями!» Оттаскиваем мы его отца назад, а он, как увидел календари, подскочил да как обрушится на них с топором – клочья полетели. Это бы ничего, но тут входит полевой сторож с винтовкой. «Ты что царскую семью рубишь?» – спрашивает сторож и готовится снять винтовку с плеча. Тогда Чуклев отец как врезал ему кулаком по шее, сторож не то что винтовку не успел с плеча снять, а отлетел шагов на пять, а фуражка его – на десять или даже на все одиннадцать метров. Государственная фуражка, форменная, с кокардой, а отлетела! «Вот как заарестую я тебя и составлю акт, будешь тогда знать, как кулаками размахивать!» А Чуклев отец только пыхтит, глаза кровью налились, но молчит – видать, как ударил сторожа кулаком, успокоился малость. Вывели мы его на улицу, отпустили, он пошел и снова начал ругаться.








