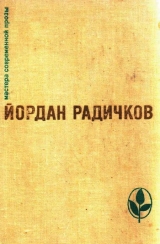
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
Некоторое время они молчали.
Я мял в руках бинт и смотрел в окно, как ровно и монотонно стелется снег, как он засыпает опрокинувшуюся подводу с каменным углем, людей, столпившихся у подводы, того человека с портфелем, присевшего на корточки рядом с лошадью. Я увидел, как он порылся в портфеле и вытащил оттуда большой шприц. Меня обдало горячим потом, разум независимо от всего случившегося холодно сопоставляет факты, сначала извлекает дежурную из ее квартиры, заставляя ее спешить по снегу, потом извлекает из квартиры ветеринара, чтобы он помог упавшей лошади, и, наконец, разум, хладнокровный, как лягушка, обрабатывает, сравнивает, разделяет и сопоставляет два случая – с мальчиком и с лошадью. Глаза у мальчика стали алые; я вижу, не оборачиваясь, как он сидит, скорчившись, точно занятая, впереди я вижу сквозь снег, как лошадь поднимает голову, неловко повернув ее, и вдруг роняет. Люди один за другим расходятся, рядом с опрокинувшейся подводой и неподвижной лошадью остается только возчик. Я знаю, что сломанная кость у лошади не срастается и пострадавшее животное в таких случаях убивают.
Лошадь лежит и постепенно остывает, снег на ней становится все белее, он почти уже не тает…
Он уже совсем не тает.
«Мы готовы! – говорит дежурная. – Можете дать бинт».
Я обернулся и увидел на стуле ту же запятую с белой повязкой на глазах и странным выражением лица – спокойным, смягченным, притихшим, мечтательным и скорбным.
Я взял сына на руки, чтоб унести его из кабинета, он спросил: «Папа, это ты?»…
И потом он всегда сразу же узнавал меня среди других людей, мы с женой дежурили в больнице и днем и ночью, в сущности, не было ни дня, ни ночи, а унылая и монотонная смена света и темноты.
Однажды утром я повел мальчика за руку по длинному коридору в рентгеновский кабинет, там надо было подождать, мальчик сел в коридоре на корточки, привалившись спиной к стене. Кроме нас, никого там не было, и я тоже сел на корточки рядом с ним, продолжая держать его за руку. Сестра прошла по коридору, стуча каблучками, мальчик прислушивался, наклонив голову в ту сторону, куда удалялись гулкие шаги сестры. И тогда он спросил меня, что стало с лошадью. Лошадь убили и убрали с мостовой, приехали другие лошади с пустой подводой, перегрузили на нее уголь, подводу увезли, и снег засыпал все следы происшествия. Лошадь убили, но мальчику я сказал, что ее выпрягли, поставили на ноги, что возчика очень ругали, а он, бедняга, никак не мог оправдаться, и что потом то, кто его ругал, стали толкать подводу и выкатили ее на самую горку, а лошадь шла сзади и беззаботно помахивала хвостом.
Мальчик улыбался под белой повязкой.
Я принес ему помидоры в бумажном пакетике, спросил, хочет ли он, он сказал: «Давай!» – и протянул руку. Пакет шуршал у меня в руках, пока я доставал помидор, рука мальчика протянулась к шуршащей бумаге. «Красный?» – спросил он меня. «Красный, – сказал я, – этот самый красный». Мальчик съел его, голову он держал, все так же склонив ее набок, лицо было все такое же притихшее и успокоенное. Но чем спокойнее было его лицо, тем сильнее что-то сжимало мне горло. В рентгеновском кабинете мальчик спросил меня, красный ли рентген, и я ответил, что красный.
Врач снял повязку, чтобы сделать снимок, и тогда я увидел, что глаза у мальчика черные, как остывший уголь, – они почернели от запекшейся крови. Черные глаза смотрели на меня рассеянно, едва замечая. Врач снова наложил повязку, мы с мальчиком вышли в коридор, и на этот раз он спросил меня, красный ли коридор. «Почти, – сказал я ему, – но краснее всего рентген, там даже лампочка красная. Там все-все красное…»
«Да, – сказал мальчик, – рентген красный…»
Он постоянно спрашивал, ночь сейчас или день. И идет ли дождь, или снег, или вот это – красное? Видно, все окружающее он считал красным. Снег шел по-прежнему, невыразительный, равнодушный, бессмысленный. Мальчик лежал в постели, и не только лицо, но и руки его казались умиротворенными. Когда я смотрел на него во время ночных бдений, я вспоминал свое немое детство и пытался решить, что страшнее – немота или слепота. Думая о сыне, я пожалел тогда и немой кусок своего детства – мне давно уже представляется, что в те годы меня недостаточно жалели. И еще я простил собаку Балкана, и ребят, заставлявших меня произносить «ракитник», и всю нашу деревеньку простил, всех ее жителей, потому что все они, не сознавая этого, кто меньше, кто больше, обижали меня.
Так мы, сами этого не сознавая, обижаем горбуна, потому что смотрим не на лицо его, а на горб.
День ото дня я проникался все большим равнодушием ко всем окружающим, я не возненавидел людей, но и не полюбил их, просто они все больше отдалялись от меня, словно какие-то водовороты унесли все понтонные мосты, соединявшие меня с людьми.
Однажды я застал у себя дома милицию, милиция нашла во дворе в снегу еще одну невзорвавшуюся бомбу, специалисты взорвали ее в камере, чтобы выяснить, какова сила взрыва и какая при этом развивается температура. Оказалось, что температура достигает четырех тысяч градусов, от этой температуры и лопнула роговица у моего мальчика, но теперь он, слава богу, вне опасности, и зрение к нему вернется. А милиция пришла для того, чтоб провести расследование и найти виновников. Не знаю почему, но приход милиции меня как-то не тронул – может, лучше им порасспросить жильцов из квартиры напротив, в конце концов мы живем в одном доме и они знают столько же, сколько я. Да, но речь идет о виновниках, они должны понести наказание, что ж это такое – взрослые, совершеннолетние люди развлекаются так, что их развлечения представляют собой угрозу для детей и для всего подрастающего поколения! Да, конечно, соглашаюсь я с милицией, несчастье просто дремало всю ночь во дворе, в сугробе, чтобы встретить детей, выбежавших во двор с пестрыми сурвачками, а больше я ничего не могу сказать, потому что не знаю, ни кто развлекался во дворе, ни какова сила взрыва, ни какова сила наказания. Из всего сказанного милицией наибольшее впечатление произвело на меня то, что невзорвавшийся охладитель был взорван в камере.
Милиция покидает мою квартиру и идет к соседям.
А соседи только того и ждут, чтоб к ним пришла милиция и чтоб они могли рассказать со всеми подробностями, как все произошло. Первым начал сосед, он еще в дверях стал объяснять, как он спустился в подвал, чтоб наколоть щепы для растопки, как он уже замахнулся топором, и т. д. и т. д.
Понести наказание?!
Спустя неделю мы привезли мальчика домой, он уже видел нас, видел белый снег на улице, видел опрокинутых или покалеченных взрывом снеговиков во дворе, видел, как лошадь тащит по улице тяжело груженную углем подводу, и спрашивал меня: «А как же, ведь лошадь обещали больше не запрягать?..» Он не знает, что та лошадь пала на подъеме, и верит, что она жива, он не знает еще, что на место павших лошадей впрягают новых, потому что в этой жизни поводья всегда должны быть натянуты, если мы хотим, чтобы груз катился вперед. Запекшаяся кровь не хотела быстро рассасываться, она держалась под веками, как сажа, и эта сажа еще много дней напоминала нам о той ужасной нелепице.
Но человека очень скоро затягивает водоворот его повседневных дел, один за другим восстанавливаются понтоны, связывающие его с окружающим миром, дети возвращаются к своим детским играм, вот мой мальчик уже на велосипеде, за велосипедом приходит черед роликовых коньков, потом у него начинают расти баки, под носом пробивается густой пушок, и вот в один прекрасный день я неожиданно встречаю в Союзе писателей полузнакомую женщину. «Ну как, бережете мальчика?» – спрашивает меня женщина, и тогда я вдруг останавливаюсь на лестнице, ее голос возвращает меня во врачебный кабинет ИСУЛа, пальцы чувствуют мягкую ткань перекрученного бинта. «Доктор Баналиева, это вы, извините, что вас сюда при вело, не могу ли я вам чем нибудь помочь?» – «Спасибо, – говорит женщина, – я все уже сделала».
Она объяснила мне, что пришла в Союз писателей договариваться о снятии посмертной маски писателя Чудомира.
Это вот я и хотел рассказать читателю, забежав вперед, а теперь я поспешу вернуться назад, на церковное поле, потому что надвигается дождь и надо успеть от него укрыться: младенцам – под «лулила» из домотканого сукна, взрослым – под деревья, скоту – под открытое небо.
* * *
Дождь прошелестел над котловиной тихо, шепотом, побормотал в листве деревьев, в кукурузе, на огородах и отшумел, словно кто-то босиком пробежал мимо нас на цыпочках; он умыл потное лицо летнего дня, пытаясь уничтожить следы гибели мальчика; человеческие и небесные слезы смешались, выглянуло солнце, вся котловина, отягощенная теплой росой, заискрилась золотом и серебром, в небе выгнулась яркая, многоцветная радуга – она начиналась от большого бука в Керкезском лесу, поднималась над лесом, над деревней с турецким и православным кладбищами, над сизым виноградником, потом плавно опускалась и нащупывала, где бы ей ступить на землю – на винограднике, у молельного камня или на пасеке. Мир под радугой съежился, стал таким маленьким, что уместился бы в горсти.
И когда радуга запульсировала особенно ярко, точно живая, над Керкезским лесом громыхнул выстрел и послышались крики лесника. Радуга, раненная выстрелом, дрогнула, и мы все увидели, как над лесом поднялся человек и стал карабкаться по радуге. В руке у него был топор. Он выронил топор, топор блеснул в небе как знамение и упал в Керкезский лес. Что тут человеку делать – за топором не вернешься, потому что из леса слышны крики лесника, – вот и пришлось ему карабкаться дальше по радуге. Добрался он до самого высокого ее места в середине неба и побежал вниз, как человек из Старопатицы с цыганскими глазами бежал по мосту, добежал донизу и соскользнул прямо на пасеку. С ноги у него свалилась галоша, она скользила чуть медленнее хозяина, но тоже упала на пасеку, правда, в сторонке, в заросли крапивы. Человек топтался по пасеке в поисках галоши, а из Керкезского леса показался лесник в форменной зеленой фуражке, с ружьем и топором, свалившимся с радуги.
«Гляди-ка, голь на выдумки хитра! – заговорили наши. – Как прищучило его в лесу, да лесник стрелять начал, да деваться некуда, он тебе и на радугу взобрался, а от властей все-таки утек! Топора только жалко!»
Лесник, посвистывая, шагал по мокрой траве и, когда проходил мимо работавших мужиков, крикнул: «А вот посмотрю я на этих браконьеров, кто теперь на царский лес руку поднимет!» Дядя Гаврил спросил его, кто это был в лесу, что он там делал, успел ли удрать и не был ли это какой чужак, потому что из наших едва ли кто поднимет руку на государственное дерево.
«Навряд ли чужак, – качал головой лесник, – ваш он был, я все ваши топоры знаю, они у вас у всех до единого цыганские, фабричный топор у вас в деревне еще и не видели». – «Поди ж ты, – качают головой наши мужики, – это ты верно заметил, а на того человека ты, видать, здорово страху нагнал, раз он топор уронил, может, ты, случаем, и выстрелил в него, из-за одного дерева и убить был готов беднягу!» – «Без страху никак нельзя!» – подает голос Брайно-огородник. «Нет, я в него не стрелял, – говорит лесник, – но как пуля в ушах свистит, он у меня надолго запомнит». Дядя Гаврил подмазывается к леснику: «Слышь, лесник, ты такие силки по лесу расставил, что от тебя никак не убежишь, разве что на небо вознесешься!»
Лесник проходит по всей котловине, чтобы все, кто работает в поле, увидели конфискованный топор. Там остановится, здесь остановится, все его о чем-нибудь да порасспросят, но никто ни словечком не обмолвится о том, что видел, как тот человек карабкался, а потом бежал по радуге, как он перевалил таким манером через всю котловину и свалился на пасеку, и теперь еще топчется там в крапиве, разыскивая галошу. У деревни всегда есть свои маленькие тайны, до которых властям никогда не добраться.
Радуга над нолем постепенно рассеивается, становится все бледнее, прозрачнее, цвета ее один за одним исчезают, и под конец остается одно лишь синее небо. Можно подумать, что она для того только и появлялась, чтобы тот человек мог убежать от лесника.
Солнце клонится к западу, нависает над Берковскими горами и словно поворачивается к нам спиной, обратившись лицом к тем землям, что раскинулись за венцом синих гор.
Мы не можем подняться так высоко, чтоб заглянуть за горы. Но и здесь есть на что посмотреть – со стороны деревни три упряжки буйволов тащат к нам дребезжащий черный локомобиль со сложенной вдвое железной трубой. К локомобилю с разных сторон сбегается ребятня, мы с глухонемой в сопровождении собаки тоже переходим речку, чтобы встретить черное громыхающее чудовище. Буйволы поглядывают на нас, скашивая глаза, они тоже черные, как локомобиль, и как-то естественно объединяются с ним в одну общую машину.
Перед мостом буйволов останавливают, чтоб они отдохнули, перед тем как втаскивать тяжелый локомобиль в гору, половина ребят бежит на мост, половина – под мост: посмотреть, выдержат ли машину деревянные опоры моста. Мы с глухонемой тоже заходим в воду и ждем, когда буйволы втянут чудище на мост.
И вот буйволы напруживают спины, машина приходит в движение, въезжает на мост, дробя колесами щебенку, и мост вдруг весь сотрясается, начинает скулить, скрипеть и трещать, в реку сыплется труха, мелкий песок, глухие стоны. Деревянные ребра моста прогибаются, собака, услышав, как мост скулит, отбегает, поджав хвост, подальше. Перила вместе с забравшимися на них мальчишками ходят ходуном, буйволы тяжело ступают, лениво покачивается сложенная вдвое железная труба, медленно вращаются светлые ободья колес, но мост не падает, а только глухо пыхтит и трещит, сотрясаясь до самых своих основ. Буйволы и локомобиль сходят на берег, чтобы продолжать свой путь по котловине, а ребята еще долго слоняются по мосту и под мостом.
Собака ведет нас к церковному полю, мы с глухонемой идем за ней, глухонемая поймала божью коровку и зажала ее в кулачке. Локомобиль отъезжает все дальше, колеса его исчезают в кукурузе, буйволы и возчики в вязаных безрукавках тоже скрываются почти наполовину.
И все это движется тяжело и неуклюже, медленно и торжественно, почти эпично, словно само время тяжело прокатилось над деревней, деревня содрогнулась, все кости ее отозвались глухим стоном, и снова стоит она, молча засмотревшись на колышущуюся меж берегов реку.
День уже на исходе, холмы словно чуть отодвинулись друг от друга, Берковские горы на горизонте тоже отступают вдаль.
Серая цапля долго разбегается в воде, подпрыгивая и взмахивая крыльями, наконец набирает скорость, отрывается от воды и плавно летит над заросшими лесом речными берегами.
* * *
Под вечер возле Святого духа снова появилось церковное попечительство, и снова босиком – ботинки связаны шнурками и перекинуты через плечо, чтобы сберечь подметки. Попечительство вело с собой лошадь с обрезанными ушами – из-за того, что уши у нее были обрезаны, голова ее выглядела почти как змеиная. Лошадь, запрокинув голову, дико поводила глазом, а увидев лошадей Цино, заржала. Лошади Цино подняли головы и, глянув на нее, тоже заржали. Цино с женой сгребали скошенную люцерну и накладывали ее на телегу, бурка с «лулила» была уже снята, и Исайко укачивал ревущего в зыбке младенца. Лошадь вел в поводу лучший наездник деревни, перекупщик всякой скотины, тот самый попечитель, которого власти заподозрили в том, что он связан с цыганами-конокрадами. Лошадь была буйная, дикая, необъезженная, и дядя Гаврил, мой отец и все попечительство утверждали, что объездить ее нельзя, но ее хозяин, Павле, ручался головой, что объездит, и предлагал биться об заклад – он закладывает голову, а попечительство пусть заложит залеченные овечьи головы, купленные в городе: каждый из членов попечительства тащил с собой по овечьей голове. «Ты хочешь, чтоб мы против одной головы целый мешок голов выставили!» – «Тоже, сравнили – мою голову с вашими овечьими головами!» – обиделся Павле.
В спор вмешались и огородник Брайно, и Младенчо – Младенчо как раз спустился со своего виноградника с пустым опрыскивателем. В конце концов столковались на том, что если Павле сумеет сесть на лошадь, то будут съедены овечьи головы, а если не сумеет, то зарежет ярку и съедена будет ярка.
Только ударили по рукам, как из-за деревьев показался лесник и тут же предложил – кто больше даст за конфискованный в Керкезском лесу топор. Попечительство предложило леснику пожертвовать топор церкви, а взамен угоститься вечером вместе со всеми, потому что угощение в этот вечер должно было состояться в любом случае, независимо от того, удалось ли бы Павле объездить лошадь или не удалось. Угощение они называли «овечьей свадьбой», так как есть предстояло баранину. Такие свадьбы нередко играют в деревне, это маленькие праздники, не отмеченные в календаре.
«Ты колеблешься и проявляешь нерешительность, – сказал ему дядя Гаврил, – а тут и решать нечего, и колебаться не из-за чего». – «И верно, – согласился лесник, – да так уж мы привыкли – если не колеблемся, так нерешительность проявляем, или, бывает, что как раз наоборот. А ведь если вдуматься, так что особенного?»
И он согласился уступить топор попечительству, а попечительство со своей стороны решило продать его с торгов, так как оно собирало деньги на строительство церкви. В это время мимо поля промчалось рысью свиное стадо нашей деревни, а посреди стада, тоже рысью, бежал, покрикивая, высокий стриженый цыган; пастушата один за другим тоже погнали скотину к деревне. С полей исчезли домотканые «лулила», женщины, зайдя по колено в речку, стали умываться, в воздухе закружилась мошкара, над рекой замелькали быстрые ласточки. На востоке пропыхтел поезд, оставив за собой густую полосу дыма. Мужики уселись на траву. Павле стоял рядом, придерживая лошадь за тонкий поводок. Дядя Гаврил поинтересовался, удалось ли попечительству выполнить свою миссию.
Попечительство, да еще сопровождаемое протосингелом, не только не выпросило у епархиального совета средств на окончание строительства церкви, а, наоборот, епархиальный совет самым категорическим образом заявил попечительству, что не может выделить на это дело ни гроша, он сам испытывает материальные затруднения и должен выпрашивать средства у святейшего синода, но святейший синод тоже не дает средств, и даже наоборот, и не только наоборот, но еще и забирает часть доходов от свечной мастерской и от продажи теса для гробов и передает все другим епархиям, потому как у их монастырей, мол, меньше земли, леса и скота, чем у нашей, Врачанской епархии, а еще у нашей, мол, есть пасеки, и рыбные пруды, и сушильни для слив, и оно, конечно, так, но в этом-то году пчелы не дали меду, сливы поразила какая-то хворь, скотина болела ящуром – и вообще бог не был милостив; когда же бог бывает милостив, проку не больше, ибо, как сказано в Библии: если семь тощих коров съедят семь тучных, они все равно останутся тощими.
Если же попечительство хочет, оно может пойти на поклон в Видинскую епархию, хотя само собой разумеется, что и Видинская епархия, исходя из сказанного в Библии о тощих и тучных коровах, едва ли сможет что-нибудь отпустить попечительству, и потому не остается ничего другого, сказали попечительству в епархиальном совете, как помочь самим себе, что и делают все соседние села: надо осваивать новые земли, увеличить поступления от аренды, и саму арендную плату следует увеличить, чтоб она была не символической, а как раз наоборот, и еще желательно нанимать испольщиков, но этого в епархиальном совете не сказали, а только намекнул протосингел, хотя где уж нам давать землю исполу и откуда взять испольщиков, когда мы только-только и в аренду-то научились сдавать, да и то себе в убыток – за три года, что сдавалось в аренду церковное поле Святого духа, еле наскребли денег на крест у Святого духа.
Вот и получается: все, что может дать поле Святого духа, съедает крест Святого духа, в то время как другие епархии понастроили себе часовен, поэтому-то протосингел и намекнул, что следовало бы подать прошение в общинную управу – пусть она безвозмездно уступит церкви пустующие общинные пастбища и выморочный участок за топографическим знаком.
Покойный собственник этого участка не оставил наследников, участок, таким образом, отходил общине, но общинная управа ведь не выше церкви, и вследствие по причине того, что денег не хватает, можно было бы освятить участок за топографическим знаком и поставить там молельный камень или крест, что было бы очень кстати, ибо окрестности там градобитные, а освящение да сила господня, глядишь, градобой и отведут – не то что в других селах нашего царства, где норовят поставить молельные камни в таких местах, которые повыше и повиднее, а не в таких, которые градобитные или, скажем, засушливые. Что молельный камень надо ставить где повыше, чтоб его отовсюду видно было, это тоже верно, но еще это место непременно должно пользоваться дурной славой – языческой или колдовской – с тем, чтоб после того, как это место освятят, люди увидели бы, в чем смысл крещения.
А другой никакой надежды не остается, говорит церковное попечительство, и ему это совершенно ясно, даже не было нужды выслушивать намеки протосингела или епархиального совета, потому что, получив отказ, попечительство предалось размышлениям и после соответствующих размышлений поняло, что на нет суда нет, однако протосингел посоветовал попечительству обеспечить церкви пожертвования, в чем бы они ни заключались – в землях ли, в деньгах или в каком имуществе.
На церковь жертвуют обычно люди согрешившие – те, кто совершил убийство, кражу, изнасилование, кто присвоил имущество сирот и прочее в том же духе.
Это бы ладно, но после усиленных размышлений попечительство призналось протосингелу, что в нашей деревне никто не убивал, никто не крал, никто не присваивал имущества сирот и никто не насильничал, а наоборот – деревню обкрадывали, убивали, насиловали и присваивали имущество ее сирот.
«Плохо ваше дело, – сказал тогда протосингел, – плохо ваше дело, коли нету в вас злого семени!» – а церковное попечительство после известных колебаний очертя голову заявило протосингелу, что коли дело упирается в злое семя, то злое семя у нас есть, только оно еще не дало всходов.
После чего наши мужики вышли за городскую черту, сняли старые, покоробленные башмаки и зашагали босиком обратно в деревню, погрузившись в размышления относительно злого семени.
«Аминь!» – сказал дядя Гаврил по поводу злого семени и принялся объяснять, что наше семя тоже даст всходы, как дало всходы волчье яблоко, и что мы готовы забросать его собачьими или волчьими изгребками, но пропасть ему не дадим – не позволим, чтоб оно высохло или чтоб его расклевали птицы. «А насчет того, что они предлагают касательно аренды, так не на таковских напали, – сказал дядя Гаврил. – Да вы, – возмутился он, – в параллелепипед это дело превратить хотите!»
Услышав про параллелепипед, попечительство зашмыгало носами, а Павле взлетел на необъезженного коня и помчался прямо по нашему полю, по львиной траве и по сухим пластам Циновой люцерны. Застигнутое врасплох животное кидалось из стороны в сторону, пытаясь сбросить всадника, но всадник впился в него как клещ, и не успели мы оглянуться, как лошадь и всадник подняли фонтан брызг в реке и исчезли за деревьями. Собака с веселым лаем кинулась за ними. «Ненормальный!» – сказали женщины. Жена Цино отплевывалась и дергала себя за мочки ушей, отводя страх, а Брайно хлопнул себя по бокам и закричал: «Эй, он мне все овощи потопчет!»
«Надо было объяснить протосингелу и епархиальному совету, что мы хотим достроить церковь не потому, что мы грешники, и не потому, что мы праведники, – мы не грешники и не праведники, а потому, что мы болгары, а не турки, и мы еще с римских времен деревня, а не табор цыган-конокрадов, деревне же негоже быть без церкви, без кладбища, без молельных камней и родников, и если на церковь нет денег, откуда ж эти деньги взять – последнюю рубаху с плеч у народа снять или из этой тощей земли выжать? Мы-то небось, – сказал дядя Гаврил, – свечей не льем! Чтоб им пусто было – и аренде, и протосингелу, и всем его присным!»
Надо признаться, что из всего этого отчета попечительства со всеми дополнениями и объяснениями то одного, то другого его члена, предпринимавших отчаянные и самые добронамеренные попытки внести как можно больше ясности в рассказ о своей миссии, что приводило уже к полной бессмыслице, читатель понял сейчас не больше, чем я понял тогда, когда сидел, шмыгая носом, вместе с глухонемой, рядом с рассевшимися в траве мужиками.
Однако во всей этой бессмыслице, которую выложило попечительство, сидя на поле Святого духа, было и полезное зернышко, и зоркий глаз дяди Гаврила его не упустил. Я имею в виду небрежный намек, оброненный будто нечаянно или по ошибке и утонувший потом в пустых словопрениях, а именно вопрос об аренде. Епархиальный совет хотел увеличить арендную плату и получить с церковных участков, разбросанных, как лишаи, по всей территории епархии, дополнительные средства, или, другими словами, хотел залезть в карманы бедняков, и без того пустые…
Я уже не помню точно, но мне кажется, что еще года два или три попечительство не смело повысить арендную плату. После рассуждений об этих делах разговор перешел на мальчика, упавшего с большого бука, на радугу, на бежавшего по радуге человека (надо надеяться, что человек нашел на пасеке свою галошу, хотя крапива, бузина и всякие колючки разрослись там так буйно, что вол забредет в заросли, и то найти будет трудно, а уж о галоше и говорить нечего!); потолковали еще о собаке, упавшей в колодец, о локомобиле, который провезли мужики из другого села, и о человеке из Старопатицы, который завинчивался и развинчивался по дороге в деревню.
«Что ж вы мне раньше не сказали, – подскочил, как ужаленный, хромой железнодорожник, – это же Мустафа! Гляди-ка, Мустафа объявился! А говорил: я со станции – никуда!» – «Он что – цыган?» – спросил дядя Гаврил, но хромой железнодорожник объяснил, что нет, не цыган, звать его Славейко Георгиев, а Мустафой прозвали потому, что он такой черный.
Когда хромой железнодорожник подскочил, как ужаленный, лесник тоже встал, закинул за спину карабин и, описав широкую дугу, снова поднялся на гребень холма, чтоб последить, не появится ли к вечеру в лесу какой браконьер. Солнце закатывалось за горы, шло освещать другие царства, на поля ложились длинные тени, скотина и люди группами тянулись к деревне, аисты тоже стали собираться домой, поля постепенно пустели. Брайно закатал штаны и принялся поливать свои овощи. И только Павле еще мелькал по котловине, зигзагами прошивая поля и огороды, и весело гикал, прильнув к безухой лошади, неизвестно откуда, как и какими путями попавшей к нему в руки.
«Похоже на то, – сказал главный повар на свадьбе сербского короля, – что эта коняга сожрет наши овечьи головы!»
Так, с закатом солнца, померк этот летний день, а когда и мы двинулись в деревню вместе с церковным попечительством, предводительствуемые слепой «летучей мышью», за нами следом, выныривая из теней прибрежных деревьев, из-за кустов и примолкшего Керкезского леса, появились стоногие летние сумерки и бесшумно завладели котловиной. Резкий запах лугов и целебных трав смешался с запахом остывшей дорожной пыли, дыма из труб, навоза, заблагоухало домом. За деревней поднялось дрожащее багровое зарево – там на карьерах пережигали известняк.
Это зарево будет трепетать до утра, неусыпно и спокойно, бдительно вглядываясь в окружающую ночную тьму. Увидев, что стемнело, лягушки покинули свои лежбища и заголосили во всю мочь.
* * *
Вслед за лягушками со своих лежбищ повылезали духи, водяные, вампиры, русалки – плод суеверия всех четырехсот семидесяти трех жителей, и среди них были и мы с глухонемой – тайные знаки, точечки, небесные капельки или черт его знает что. Звездное небо прикрывает нас сверху, оно тоже усеяно тайными знаками, мерцающими точками, небесными капельками или черт знает чем. Вот одна капелька сорвалась, прочертив в небе светлую черточку. «Черточка, черточка!?.» – зову я ее про себя.
Глухонемая ведет меня, крепко держа за руку, за нами шлепают по пыли босые ноги наших матерей, за ними – босые ноги наших отцов и церковного попечительства, мужской кашель слышен за нашей спиной, приглушенные гортанные голоса, деревня все ближе, она раскрывает свои улочки, калитки и ворота, светлые проемы дверей, в открытые двери видно пляшущее в очагах пламя, пахнет домом и сном. Глухонемая отпускает мою руку, что-то говорит мне знаками, но половины знаков я не понимаю, потому что не вижу их в темноте. Может, она желает мне спокойной ночи?
Спокойной ночи!..
Как ни долог летний день, но жителям деревни его не хватило, чтоб переделать все свои дела. Поэтому деревня врезается в темноту, чтоб урвать у нее еще немного времени, исчерпать летний день до дна и потом устало рухнуть на самое дно сна, охраняемого лишь собаками да кукареканьем деревенских петухов – своих верных ночных трубачей. Я позволю себе, читатель, лишь бегло обрисовать эти черные глыбы, выломанные из ночи, и сваливаю их в одно место, ибо и сами события налезали друг на друга и валились в одну кучу, в полном беспорядке.
Начался беспорядок с хромого железнодорожника.
Он не застал у себя в доме ни Мустафы с цыганскими глазами, ни своей жены-повторки. Дверь дома была открыта, огонь в очаге догорел, у очага стоял круглый низкий столик с закусками и питьем. На столике сидела кошка и, как ведьма, смотрела на него желтыми глазами. Хромой выскочил, растревоженный, из дому и пошел к церковному попечительству – попечительство же, расположившись в доме постоянного опекуна малолетних сирот, преломило запеченные овечьи головы и запивало их вином, как это и было оговорено, когда бились с Павле об заклад насчет того, сумеет ли он объездить лошадь. Вместе со всеми пил вино и Младенчо, готовясь к грустным воспоминаниям и к слезе, которой предстояло скатиться по его щеке. Незадолго до хромого пришел лесник, его усадили на почетное место, а ружье положили в сторонку, чтоб он не пальнул ненароком и кого-нибудь не убил; пьющих мужиков освещал висевший на гвозде керосиновый фонарь.
Вместе с лесником в комнату проникло множество ночных бабочек, которые теперь кружили у фонаря и бились о стекло.
Когда мужики обглодали кости и поднапились, Младенчо стал вспоминать умершую родню и пустил слезу, а хромой железнодорожник пошел домой, надеясь застать наконец Мустафу из Старопатицы. Пробираясь ощупью по своему саду, он услышал, что из ямы, приготовленной для гашения извести, подает голос буйволенок. Он подошел к яме и на дне ее, кроме буйволенка, увидел еще и свою жену, и Мустафу. Он принес из дому фонарь, осветил дно ямы, сел на ее край, неторопливо закурил и, попыхивая цигаркой, одним ухом слушал, как поет песни попечительство, а другим – рассказ жены о том, что случилось.








