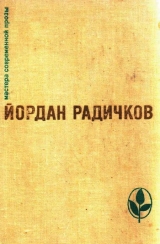
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Йордан Радичков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
«Почему же враждебно?» – спросил он себя. Повторил вопрос еще раз, поднял опрокинутое ведерко и вышел из хлева, придерживая одной рукой полы подрясника, чтоб не мести им сухой козий навоз. Он решил ополоснуть лицо водой у источника, полагая, что, если он ополоснется холодной водой, вода его освежит и он догадается, кто же высосал козье вымя до такой степени, что оно обмякло и съежилось, точно старая кожаная рукавица. Сам он тоже чувствовал себя обмякшим и помятым, вроде выпотрошенного гриба-дождевика, словно это его деревенский дурачок долго мял и тискал под мышкой, пока он не перестал выпускать из себя дым, а потом выбросил.
И он, засучив рукава, стал умываться, уповая на то, что умывание принесет ему разгадку тайны. Он умылся, ото лба пошел легкий пар, но догадаться ни о чем не догадался и пошел к церквушке посмотреть, там ли еще незнакомый человек ниоткуда. По дороге он увидел ежа, зверек выглядывал из дверей хлева, его вишневые глаза, казалось, совсем вылезли из орбит.
Хотите знать, откуда взялся этот альбинос?.. Года за два или три до этого в монастыре появилась змея, и монах несколько раз рассказывал о ней Йоне и Тодору Аныме. Отыскать и убить змею в зарослях бурьяна нелегко, потому что змея ловко прячется, но, если найти ежа и пустить его в обитель, еж благодаря своему обонянию найдет змею и уничтожит ее. А если змея – самка и успела отложить в земле яйца, то еж и яйца змеиные выроет из земли и уничтожит. Так говорили и Йона, и Тодор Аныма, но попробуй-ка поймай ежа…
Как-то раз, когда Йона и Тодор Аныма в долу Усое заглянули за одну щербатую скалу, они увидели, как среди бурьяна и цветов еж преследует змею. Змея пыталась оторваться от преследователя и уже наполовину вползла на скалу, но еж догнал ее и вцепился ей в хвост. Змея стремительно выгнулась, попыталась вывернуться, но хватка у ежа была мертвая, и он, шумно свистя носом, прикончил змею у них на глазах. Пресмыкающееся вытягивалось, подрагивая, а еж, не переставая сопеть, проворно хлопотал вокруг него. В это время Тодор Аныма топтался возле своих собак, которые перескочили через скалу и теперь, ощетинившись, на кого-то рычали. Подойдя к ним поближе, Йона увидел нескольких ежат, прижавшихся к скале. Тодор Аныма нагнулся и поднял одного ежонка с вишневыми глазами и почти белыми иголками; глаза его очень напоминали глаза бекаса. Дремавший в темном углу хлева альбинос и был тем ежонком.
Ежи-альбиносы очень редко попадаются в наших краях, куда чаще они встречаются в Испании, Франции, Алжире, а также в Греции. Сильное впечатление производят не столько их белые иголки, сколько выпуклые удивленные красные глаза. Тодор Аныма тут же решил, что принесет ежа в дар монастырю. «Раз я не могу принести в дар ерусалимку, как это сделал мой дед, – сказал он Йоне, – подарю хоть этого белого ежонка, которого ты называешь альбиносом!» Доситей с признательностью принял альбиноса и выразил надежду, что тот подрастет и будет охранять монастырь от гадов. «И кроме того, – сказал он, – монастырю будет очень к лицу растить белого ежа». Альбинос вызвал разговор о всякого рода дарениях, и Тодор Аныма спросил Доситея, почему его дед, посетив гроб господень, привез именно такую ерусалимку, а не, скажем, ерусалимку с распятием, с Вифлеемской звездой или с Богородицей? «И нет ли здесь какой путаницы, – спросил он еще, – потому как мы знаем, что обрезают, к примеру, турок, а вовсе не христиан?»
Доситей в ответ на это объяснил, что апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при писании и обрезании? Вот что говорит и спрашивает апостол Павел, и потом он дает ответ римлянам. Но поскольку этот вопрос продолжал обсуждаться, то апостол Павел направил послание и к коринфянам, чтобы дать и им пояснение в том смысле, что обрезание – ничто и необрезание – ничто.
Все это монах объяснил Тодору Аныме и, поблагодарил его за дарение, посоветовал ему не закутывать так голову, лоб и подбородок, а широко открывать лицо, ибо лицо человека – это лицо бога.
На Тодора Аныму эти слова монаха произвели сильное впечатление, он размотал свои шарфы, но, когда Йона взглянул на его глаза, ему все равно показалось, что тот закутан, как турчанка, потому что таинственность исходила из его затуманенных глаз. Доситей тоже уловил эту таинственность во взгляде Тодора Анымы, перекрестился и перевел взгляд на ежонка. Ежонок шариком свернулся в траве. «Милая скотинка божья!» – с умилением сказал Доситей и наклонился, чтобы погладить ежонка, но тот только вздрогнул от этой ласки и еще крепче сжался в комок.
Так альбинос поселился в маленькой монастырской обители, со временем подрос, окреп и часто бегал по двору, особенно когда монах поднимался на звонницу и бил в колокол. Для божьей скотинки это бывало истинной радостью, а сама она весьма украсила обитель, гораздо лучше, чем это сделали бы, например, цесарки или японские петушки.
Ласковый зверек привязался к козе, постоянно вертелся около нее, а когда бывал не с ней, можно было увидеть, как он бродит по рассаднику, к чему-то прислушивается, принюхивается или рыщет туда-сюда, занятый своими, ежиными делами. Среди нежных виноградных листьев глаза его казались темно-розовыми.
4
Так и не догадавшись, кто же выдоил монастырскую козу, монах шел по двору, бренча пустой медной посудиной. Мимо его ушей проносились с пасеки пчелы, те, что только вылетали, издавали высокий и резкий звук: жин-н… жин-н… жин-н, а те, что возвращались с полей, обремененные тяжелой ношей, гудели басовито: жы-ын… жы-ын… жы-ын… Он вошел в открытую церковь. Там он предполагал увидеть незнакомца в форменной фуражке и здоровенных красных башмаках, но храм был пуст. На ерусалимку, пожертвованную Анымами, падал солнечный луч, высветляя одного из раввинов – того, который поправлял свой кожаный чулок.
Монах кашлянул, эхо ответило ему кашлем, брякнул ведерком, эхо ответило ему бренчаньем, но того человека в красных башмаках и белесых галифе и след простыл, зато монах уловил звук шагов по траве. Кто-то шел по траве за монастырской стеной, слышалось чье-то тяжелое дыхание. Он поставил медное ведерко вместе с воткнутым в его ухо базиликом на лестнице, ведущей на звонницу, и услышал, как женский голос говорит ему: «Мир вам!»
Он обернулся и в проеме дверей увидел монашек из скального гнезда Разбойна. Беспамятная, раскрасневшись и широко, приветливо улыбаясь, несла на спине свою увечную сестру; через плечо у нее была перекинута пестрая сума. Беспамятная спустила увечную на траву, потом скинула с плеча суму, раскрыла и заглянула в нее. И Доситею тоже сделала знак, чтоб он подошел и заглянул в суму. Он вышел из церкви, приглаживая бороду, которая еще хранила запах базилика.
Увечная монахиня сидела в траве – человеческий обрубок, окутанный печалью. Ему показалось, что она погружена в глубокую задумчивость, и выражение лица у нее было странное – две морщины пролегли на лбу словно знак недоумения. Обычно она бывала живей и улыбалась – хоть и грустно, но все-таки улыбалась, в отличие от своей беспамятной сестры, которая всегда смеялась во весь рот, всегда бывала румяна, шумна и чужда монастырскому покою. Старшая сестра была необыкновенно умна, младшая же часто забывала даже обратную дорогу и потому таскала на себе сестру почти повсюду – та напоминала ей, что пришло время возвращаться домой, и показывала дорогу. Их часто видели из деревни – увечная сидит кулем на берегу среди ив и ракит, а беспамятная идет по берегу с сеткой и ловит раков; она очень ловко ловила раков. Старшая кричала ей, когда пора было кончать, и та кончала. Другой раз видели, как они дергают чечевицу на монастырском поле, беспамятная дергает и сваливает чечевицу в кучу, а увечная сидит посреди чечевицы и время от времени тоже протянет руку и сорвет стручок. Если б беспамятную оставили одну, она, вероятно, дергала бы чечевицу всю ночь, пока не обобрала бы все поле. Человек обычно в любую работу впрягает мускулы, ум и сердце. У монахинь распределение было такое, что одна делала работу мускулов (то есть рук), а другая делала работу ума. Что касается работы сердца, то сердца сестер работали каждое за себя. Трудно сказать, оборачивалось ли это для них страданием или благом. С точки зрения Доситея, это было благо, потому что, как ни навязывала увечная монахиня свою волю беспамятной, когда-то наступал момент, когда беспамятная освобождалась от своего диктатора, отбрасывала ее ум и всецело отдавалась ритму своего сердца.
Беспамятная сообщила монаху, что перед обителью они встретили блудного сына в белесой фуражке и красных башмаках, но что сестра запретила ей разговаривать с ним; да и блудный сын, похоже, не собирался с ними разговаривать, он даже не поздоровался с ними, а свернул с дороги и сделал крюк, пройдя лугом, – видать, боялся встретиться с ними вблизи, чтоб они его не усыновили.
Беспамятная была не совсем беспамятной, в ее сознании, вероятно, было несколько постоянно видимых островков или залитых светом участков, однако они никак не были связаны между собой. Так, например, в ее сознании жил образ блудного сына, она надеялась, что когда-нибудь непременно встретит его и усыновит. Доситей понял, что сестры встретили незнакомца, стоявшего утром в храме, и что беспамятная приняла его за блудного сына.
«Бог милостив!» – неопределенно промолвила увечная, а беспамятная воскликнула: «Пшенка!» – и показала монаху, что у нее в суме.
Сестры принесли монаху молочную кукурузу. Увечная рассказала Доситею, что ее сестра нашла осенью на дороге у монастыря кукурузный початок, усыновила его, всю зиму хранила то в келье, то на алтаре, но большую часть времени держала в келье, потому что в церкви развелись бедные церковные мыши и она боялась, как бы они не добрались до початка. Весной они старательно вылущили початок и посадили зерна на огороде. Усыновленная кукуруза вымахала высоко и буйно, темная, как арап, и чубатая. На каждом стебле было по два-три початка, очень сочных и сладких. Доситей поблагодарил и сказал, что недостоин такого подарка. Беспамятная чистила початок, чтоб показать ему, какие у него молочные зерна. Когда она надавливала зерно ногтем, зерно лопалось и брызгало белым кукурузным молоком ей на пальцы. «Вот как я его усыновила!» – повторяла она и чистила початок. Монах тоже держал в руке початок и рассеянно обрывал с него золотистые волоски. Увечная сидела на траве, поэтому монаху и беспамятной тоже пришлось сесть напротив нее, чтоб удобней было разговаривать. Так они и сидели втроем, а посередине лежал очищенный молочный початок с наполовину оборванными шелковистыми волосками.
Они были точно живая картина, представляющая раввинов, собравшихся обрезать молочного – то бишь новорожденного младенца. Беспамятная даже сказала что-то насчет зеленой крайней плоти (она имела в виду зеленые листья, в которые был запеленат младенец), но увечная ее отругала, и не только отругала, но еще и пнула в ногу.
Разговор пошел о кукурузе. Доситей образно и со знанием дела рассказал все о кукурузе и о початках, и монахини, прерывавшие его время от времени вопросами или восклицаниями, остались довольны его познаниями. Монах объяснил им, что кукуруза – растение однодомное в отличие от человека, который есть двудомное, – тут, правда, он приостановился и не назвал человека двудомным растением. В каком это смысле? А в таком смысле, что у кукурузы на одном стебле растет и мужское, и женское соцветие. Мужское соцветие – это метелка, которую народ называет чубом, показывая, что считает ее мужским началом, а женская половина выбивается из-под зеленых пеленок початка в виде шелковистых волокон или волос. По божьему повелению чуб стряхивает свою мужскую пыльцу на нежные женские волосы, выбивающиеся из-под зеленой косынки початка, и таким образом происходит божье чудо. Кукурузе не нужно посредничества пчелы – достаточно легкого ветерка, чтобы чуб стряхнул свою пыльцу на шелковые волосы. А потом зародыш растет в зеленых пеленках, наливается, делается сначала молочным, а затем твердым, зрелым и хлебным.
Все это можно прочитать в каком-нибудь старом «Травнике» или в любом сочинении по ботанике. Беспамятная заметила, что она правильно сделала, когда усыновила валявшийся на дороге початок и долго держала за пазухой, потом и на алтаре держала его зимой, но недолго, пришлось его оттуда забрать, потому что в церкви появились бедные церковные мыши, перебравшиеся в Разбойну в поисках пропитания. «Повезло кукурузе, она однодомная, не то что мы, двудомные! – сказала она. – Давайте оторвем у этих початков крайнюю плоть и сделаем из них ерусалимки!» – предложила затем беспамятная и стала снимать с початков их зеленые пеленки.
Увечная меланхолически улыбнулась, Доситей тоже улыбнулся и, кроме запаха молочной кукурузы и зеленых листьев, уловил слабый запах базилика. Шутка с молочной кукурузой была грубовата для такого места, как монастырь, однако монах и увечная не осудили беспамятную, а отнеслись к ее усердной работе снисходительно.
В это время из хлева подала голос коза, и ее верещанье придало разговору совершенно другое направление, а именно: монахини спросили, как поживает коза. Доситею пришлось признаться, что скотинка чувствует себя прекрасно, но что нынче она его озадачила, потому что, когда он пришел ее доить, он увидел вместо вымени, набухшего молоком, совершенно пустое и съежившееся вымя. Беспамятная пошла взглянуть на козу и дать ей нежные кукурузные листья. Доситей проводил ее взглядом – широкий шаг, крупное тело под рясой; сильным, здоровым было еще это тело, лишенное идей и предрассудков; его идеи и предрассудки сидели напротив монаха – увечные, с меланхолическим выражением лица. «Бог милостив!» – неопределенно промолвила увечная и вздохнула. Коза, почуяв, что к хлеву приближается человек, заверещала сильнее.
5
Эта коза, еще маленькой яркой, была подарена монастырю монахинями из Разбойны в престольный праздник Старопатицы. Нрав у нее был живой и дикий, но она быстро привыкла к Старопатице и к монаху, даже вместе с ним карабкалась на звонницу. Порой она проявляла строптивость, забиралась на крышу хлева и крушила копытами старую, прогнившую черепицу, иногда даже оставалась там ночевать, но когда она подросла, то перестала забираться на крышу, иногда только поднималась с Доситеем на звонницу и, пока он звонил в колокол, просовывала голову в узкое окно и сверху наблюдала зеленый корм, разросшийся вокруг монастыря. Зеленого корма было много. Доситею не приходилось далеко за ним ходить, достаточно было пройтись между монастырем и собачьей могилой, чтоб наломать самых нежных веточек либо клена, либо орешника, а тем паче боярышника, потому что коза больше всего на свете любит молодые листочки боярышника и только потом уж все остальное.
До самой собачьей могилы монах не доходил, потому что не хотел слышать вблизи доносящийся словно из-под земли собачий вой. Выли угодившие в собачью могилу бездомные собаки. Могила эта предназначалась не для собак, а для всякой падали, для дохлой скотины. Выкопана была глубокая яма с крышкой, с тем чтобы, сбросив падаль, крышку можно было захлопывать. Но вот кому-то пришло в голову оставить крышку открытой и спустить сверху пологую доску до самого дна могилы. По этой доске ночью туда забирались бродячие собаки и набрасывались на падаль, а наевшись, уже не могли вылезти обратно. День и ночь из могилы доносился зловещий вой, словно это выли недра самой земли, и монах, прислушиваясь к вою, чувствовал, как по спине пробегает озноб. Множество собак нашло в этой яме свою погибель, он заглядывал в нее и видел, как зверски блестят в темноте их глаза – собаки готовы были разорвать любую живую тварь, попавшую им в лапы. До семи пар глаз насчитывал он в яме, и все они горели зеленым и синим огнем. Он знал, что синий огонь в собачьих глазах – это огонь ненависти.
Вот по какой причине не любил монах скотскую могилу, прозванную из-за погибающих в ней собак собачьей могилой, и вот почему, ломая ветки для козы, он старался обходить ее стороной. Но хоть он и не приближался к ней, при западном ветре собачий вой все равно был слышен. Западные ветры дуют тут часто, и монах часто слушал по ночам собачий вой и проклятья.
Когда пришло время случки, монах попросил Шушуева привести в монастырь своего козла, чтобы покрыть козу, потому что ему (монаху) не хотелось водить свою козу к козлу Шушуева, он полагал, что духовному лицу не подобает водить свою козу в деревню для такого дела. У Шушуева был великолепный козел, доставленный из-под Кулы, большой разбойник – впрочем, таковы и жители тех мест. Доситей слышал, что в тех местах, к примеру, нет кладбищ, потому что там все разбойники и никто не умирает у себя дома, а умирают в других местах – там, где разбойничают, к примеру. Козел тоже был сущий разбойник, Шушуев привел его в монастырь, чтоб он покрыл козу, коза принесла двух козлят, одного монах подарил монашкам из скального гнезда Разбойна, а другого Тодор Аныма прирезал в престольный праздник и приготовил из него «молитву», которую в некоторых краях называют «курбан».
Что такое молитва?
Молитва – это похлебка, в которой варится целиком животное, обычно молодое, вместе с его вычищенными потрохами. Заправляют эту похлебку разными лесными травами, перьями зеленого лука, и стручки красного перца непременно надо в нее запустить, и черный перец, и лавровый лист, и молотый красный перец; и, когда ее сварят подобным образом на тихом огоньке, на вольном воздухе, возле молельного камня, часовенки или у монастырских ворот, похлебка эта приобретает совершенно особенный вкус, и стоит вдохнуть ее аромат, как почувствуешь, что над котлом поднимается не пар, а чистейшая молитва, обращенная к богу. Нежный рай молодого мяса вмешивается с адски острыми приправами, и от этого-то сочетания и получается неповторимый аромат и неповторимый вкус похлебки, которую народ ласково назвал молитвой. Вряд ли есть на свете другое кушанье с таким образным названием, как молитва, и вряд ли есть на свете другое кушанье с таким ароматом. Если бог на самом деле существует, он никогда не останется равнодушен к подобной молитве, как равнодушен он к молитве словесной. Тодор Аныма очень искусно готовил молитвы, окутывая их чем-то таким же мистическим, каким было выражение его лица. Если выпадало такое время, когда Тодору Аныме приходилось часто резать молодых животных и готовить молитвы, то от постоянной возни у котлов и костров он впитывал в себя ее ароматы, и потом от него еще много дней пахло молитвой.
Но я, пожалуй, очень уж увлекся подробным рассказом о приготовлении молитвы. Минус это или плюс? Минус, потому что мы отвлекаемся от нашего повествования. И плюс, потому что человек не может жить без еды. Вкус и запах того или иного блюда надолго врезаются в память. Даже нечто безупречно красивое не оставляет в памяти такого глубокого следа, как мастерски приготовленное кушанье. Древние, к примеру, называли вино напитком богов и некоторые кушанья тоже считали божественными. И о человеке можно сказать, что он божествен, но при этом имеются в виду только его телесные формы. А мы знаем, что формами человека (например, формами женского тела) мы никогда не можем обладать, и это служит источником нашей постоянной неудовлетворенности, то есть голода. С кушаньями дело обстоит совсем по-другому – если взять хотя бы простую капусту, мы увидим, что еще в древности (Катон, к примеру) считали, что она соединяет в себе все семь земных благ – горячее, холодное, сухое, мокрое, сладкое, горькое, острое, и что содержит она их в пропорциях, укрепляющих здоровье человека. О капусте говорится как об овоще с мощной природой. Сам Пифагор размышлял о ней, и есть даже пифагорова капуста. Чревоугодничать, конечно, негоже, но настоящее кушанье, такое, как молитва, – это не чревоугодничество, а высшее благо, ибо оно способствует наилучшему расположению духа у человека, и он чувствует, что насыщаются и тело его, и дух. Что другое может дать человеку подобное насыщение?
Ничто!..
Беспамятная зашла в хлев и вышла оттуда, неся в подоле ежа-альбиноса. Полы ее юбки вздернулись, и Доситей увидел, что на ногах у нее шерстяные носки, выкрашенные в бурый цвет. Наверху у них было по синей каемке, и перехвачены они были резинками. Беспамятная хотела усыновить альбиноса, но монах сказал ей, что его уже усыновил монастырь. Монашка пустила его в траву, зверек тут же свернулся в клубок, чтобы защитить свое голое брюшко, и лишь красные глаза его торчали, показывая своим вишневым блеском, что он следит за движением людей вокруг себя.
«Боже, я забыла про ерусалимки!» – воскликнула беспамятная и принялась раздевать остававшиеся в ее суме молочные початки. Она обнажала их и разбрасывала вокруг в приступе внезапного воодушевления. «Ненормальная!» – подумал Доситей и пошел к звоннице, чтобы ударить в колокол. Коза, оставшаяся в хлеву одна, позвала его, проверещав несколько раз, но монах не откликнулся на ее зов.
Он поднялся на звонницу и посмотрел вниз. Беспамятная очистила все початки и разбросала их вокруг себя. В этот миг она засучивала рукава, но верещанье козы заставило ее повернуться к хлеву, и после краткого размышления она зашагала в ту сторону. Монах обернулся и хотел было взяться за веревку, но тут с удивлением обнаружил, что в углу звонницы прислонены к стене железные вилы. Он не сразу сообразил, откуда здесь эти железные вилы, но потом вспомнил, что сам оставил их накануне, а вилы понадобились ему, чтобы сшибить с черепицы осиные гнезда. Звонницу облюбовал осиный рой, осы слепили под черепицей серые круглые лепехи, крепко державшиеся на одной ножке. Монах вилами сбил их и выбросил в окно звонницы. Осы прилетели, поискали свои гнезда, сердито пожужжали и улетели.
«Надо будет снести вилы вниз», – подумал монах и увидел, что беспамятная выводит козу из хлева. Дальше он увидел зеленый дол Усое, кое-где укутанный мягкой листвой, в дальнем его конце темнела открытая собачья могила, и слух его уловил доносящийся оттуда вой. Он ударил в колокол, чтобы заглушить этот вой, но продолжал, не выпуская веревки, вглядываться в собачью могилу. Из-за собачьей могилы появились два человека, они несли на жерди что-то косматое, серое, в белую полоску.
Позади них и выше, на склоне оврага, монах заметил и незнакомца в кителе, красных башмаках и белесых галифе. Красных башмаков он не видел, но догадывался, что у белесого силуэта должны быть красные башмаки.
Два человека с косматым животным в белую полоску остановились, сели по обе стороны животного, и над их головами поднялся синий дымок. «Курят!» – подумал монах о людях с косматым животным в белую полоску. Он продолжал бить в колокол, но с большими интервалами. «Крепко курят! – сказал он себе, глядя на то, какой густой дым стелется над головами двух мужчин. – Как трубы дымят!»
Два человека, сидевшие недалеко от собачьей могилы, действительно курили. Ветра не было, и дым лениво стлался над их головами. Это были Йона, прозванный Мокрым Валахом, и Тодор Аныма, а несли они убитого барсука. Йона и его родственник, ходивший в темно-розовом шарфе, давно уже подстерегали барсука около кукурузных посадок. В заброшенных горных районах для личного пользования выделялись полоски земли, в этих полудиких местах сажали кукурузу, и барсуки, жившие в Усое и в Моисеевом заказнике, находили себе там пропитание. Родственник Йоны сломал руку и отправился в город лечиться, поэтому Йона вместо него позвал на барсука Тодора Аныму, и тот охотно согласился. Бить барсуков было одним из увлечений Тодора Анымы.
Обследовав все барсучьи тропки и те места, где барсуки поломали кукурузы больше всего, охотники решили на другой день быть на месте с восходом солнца, чтобы застать барсуков в кукурузе врасплох.
6
Когда на другой день Йона и Тодор Аныма чуть свет вышли из деревни, они обратили внимание на то, что монах в монастыре необычайно рано звонит к заутрене. Звон был медленный и задумчивый, он никого не звал и не выказывал тревоги. Вдруг Тодор Аныма остановился, и Йона заметил, что лицо его стало напряженным и острым, словно битое стекло. Он смотрел на монастырскую звонницу. Посмотрел на звонницу и Йона и очень удивился, когда вместо монаха увидел в проеме беспамятную монахиню из Разбойны. Она приветственно махала им рукой – звала их. Тодор Аныма тоже заметил беспамятную. Лицо его обмякло и постепенно стало заволакиваться, глаза потухли.
«Что-то случилось!» – сказал он и свернул по тропинке к монастырю. Йона пошел за ним, тайком оборачиваясь, чтобы убедиться, что за ними никто не идет. Кто может идти за ними, он не взялся бы объяснить.
В маленькой обители, кроме беспамятной и ее увечной сестры, сидевшей на веранде, они застали еще и Шушуева. Шушуев был из близких монаху людей, он не только позаботился в том, чтоб его кулский разбойник покрыл монастырскую козу, он, кроме того, регулярно покупал монаху билеты Государственной болгарской лотереи и оказывал ему другие мелкие услуги. Шушуев стоял недалеко от веранды, сняв шайку, на веранде сидела увечная монахиня, а беспамятная, уже успевшая спуститься со звонницы, привязывала козу. Что еще привлекло их внимание? Их внимание привлекло то, что козье вымя набухло молоком и что коза верещит сатанинским голосом; кроме того, они заметили, что Шушуев очень печален и что увечная монахиня, закрыв глаза, вслух читает молитву. Особенно же они удивились, когда увидели перед церковкой разорванную ерусалимку Анымовых, валявшуюся на земле, точно ненужная тряпка, а рядом валялся убитый альбинос. На его белых иголках запеклась кровь, такая светлая, что воздух над ней приобретал розовый оттенок. Тодор Аныма поднял ерусалимку и увидел, что раввин, надевающий кожаный чулок, проткнут насквозь и младенец тоже проткнут насквозь.
«Что здесь случилось?» – спросил Тодор Аныма, и Йона увидел, что лицо его снова стало словно битое стекло.
Монаха во дворе не было видно. Окно его кельи было прикрыто со стороны веранды и подперто железными вилами. Услышав человеческую речь, увечная открыла глаза и перестала молиться, а Шушуев подошел к ним и сказал, что монаха нынче утром нашли мертвым в его келье и что неизвестно, умер он естественной смертью или насильственной, потому что вид у него такой, будто он с кем-то боролся. Они поднялись на веранду, Тодор Аныма открыл дверь, и глазам их предстало ужасное зрелище.
Монах лежал, скорчившись, в постели, волосы и борода его были всклокочены, он окоченел в ужасе, словно и в самом деле боролся с кем-то, или по крайней мере с самим собой, или, быть может, с сатаной. На полу лежало упавшее одеяло, отчасти прикрывая и жаровню с остывшим углем. Из кельи веяло затхлостью и чем-то кислым, и еще чувствовался слабый дух горелого рога или шерсти. Видимо, одеяло, опрокинув жаровню, успело обгореть, прежде чем погасило собой уголь.
Тодор Аныма прикрыл, дверь, Йона взглянул на его лицо и увидел не лицо, а туман. Из тумана доносился голос, он говорил., что монаха погубил непрогоревший уголь в жаровне. Шушуев тоже так думал и привел еще примеры подобных отравлений. Медицинская экспертиза позже установила, что монах действительно задохся от непрогоревшего древесного угля; ему бы надо было разжечь жаровню во дворе и, только когда угли прогорят, внести ее в келью, а он, видно, насыпав углей, тут же ее и внес.
Вот так завершился жизненный путь этого монаха, и с его кончиной в маленькой обители Старопатицы воцарилось запустение. Тодор Аныма забрал ерусалимку, привезенную его дедом, к себе домой, не сообщив об этом властям, а козу отдали двум монашкам из скального гнезда Разбойны. Мертвый альбинос остался во дворе. В этот же день на него налетели сердитые мухи с собачьей могилы. Ничто так сильно не привлекает мух, как мертвый еж!
7
Обычно считается, что, когда человек умирает, его история на этом заканчивается. Но Йона так не считал, и потому он решил сам расспросить либо Шушуева, либо монахинь, а если в обители случайно появится незнакомец в кителе, то и его спросить, что именно привело его тогда в монастырь. Незнакомец в красных туристских башмаках возбуждал его суеверное воображение, он даже помянул Тодору Аныме что-то насчет вампиров и водяных, но Тодор Аныма сказал, что все это глупости.
От Шушуева Йона узнал очень мало, можно сказать, почти ничего, больше рассказали ему монахини. Увечная видела не все, что происходило в монастыре, потому что то она молилась в церкви, то беспамятная вносила ее в келью, а беспамятная не в состоянии была рассказать Йоне все по порядку, воспоминания у нее были отрывочные. Она помнила, что молочную кукурузу сварили и съели, что монах несколько раз поднимался на колоколенку и смотрел сверху на лес, что потом его зазнобило, и он надел поверх подрясника фуфайку. Потом он дал козе кукурузных листьев, потом куда-то исчез и к вечеру появился снова, при этом его трясло еще сильнее. Позже беспамятная увидела блудного сына в белесых галифе и здоровенных красных башмаках. Он стоял у монастырских ворот и, сняв фуражку, вытирал платком лоб. Беспамятная ждала, когда он переступит порог и войдет в обитель, надеялась, что его можно будет усыновить, чтоб он не скитался больше, одинокий и блудный, однако блудный сын постоял у ворот, вытер пот со лба и, нахлобучив фуражку, пошел своей дорогой.
«Этого человека я вижу словно бы вдали!» – будто бы сказал монах и пошел доить козу, беспамятная услышала доносившиеся из хлева крики, побежала к хлеву и увидела, что монах стегает козу веревкой. Его, похоже, затрясло еще сильнее, когда он увидел, что еж-альбинос сосет козье вымя, а коза стоит себе смирно. Коза, вереща, выскочила из хлева, кинулась в церковь, альбинос – за ней. Доситей по дороге подхватил железные вилы и тоже бросился в церковь. Когда он снова появился во дворе, беспамятная и увечная (она уже смотрела из окна) увидели, что на железные рога вил насажена ерусалимка – наверное, он нечаянно сорвал ее вилами, когда гонялся за козой. Коза все так же убегала от монаха, за козой бежал альбинос, но монах настиг его и проткнул вилами. «Ах ты, тварь, – сказал он, – я надеялся, что ты у меня гадов будешь истреблять, а ты мою козу сосешь! Вот тебе, вот тебе!»








