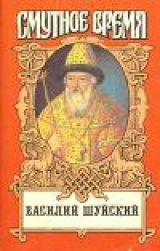
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
XXII
В руках злой судьбы
Минуло недели две со смерти царика, а Калуга все волновалась, все бушевала. Бояре, приближенные и приверженцы царика не могли еще опомниться, не могли прийти в себя и окончательно освоиться со своим новым положением…
Это положение еще значительно осложнилось тем обстоятельством, что через неделю по смерти царика Марина родила сына, которого назвала Иваном, и заявила, что будет для него добиваться московского престола.
Калужские бояре, воеводы и начальные люди собирались каждый день на совещания, спорили, шумели, ругались, чуть не дрались, а дело не двигалось вперед, и никто не знал, чего держаться, на чью сторону гнуть, куда преклонить голову… А все это время, как назло, стояли такие морозы и вьюги, что всюду от Калуги пути запали и ниоткуда до калужских бояр не доходили вести – ни из-под Смоленска, ни из-под Москвы, ни с Поволжья. Так прошло время до самого Рождества. В канун сочельника дошли вести из ближайших к Калуге окрестных мест, что подступает к городу Ян Сапега со своим польско-литовским войском и будет требовать сдачи Калуги на имя короля Жигмонта. Слух этот всех взбаламутил: не только бояре и воеводы бывшего царика, но и простые ратники и казаки, и все горожане калужские взволновались, поднялись и зашумели:
– Не хотим сдаваться Яну Сапеге! Не сдадимся! Мы королю Жигмонту не слуги и его воеводе не подначальные!
В этом желании все сошлись воедино и тотчас же, по общему решению, начали готовить город к отпору и обороне против Сапеги…
В то же время бояре калужские сошлись на окончательное совещание о том, как им быть, – кому прямить и служить? Все – бояре, воеводы и казацкие атаманы – собрались в Приказной избе и положили из избы не выходить, пока не принято будет такое решение, к которому все охотно и добровольно приложат руку.
– Оспода бояре! – заговорил прежде других бывший благоприятель царика, Михайло Бутурлин. – Всем вам ведомо, что Бог послал царице нашей, Марине Юрьевне, сына, нареченного в память деда-царя Иваном. Царица только что с постели поднялась, от хворобы оправилась, стала всех нас, бояр, молить, чтобы мы немедля присягнули на верность царевичу Ивану…
– Какому царевичу? Где ты царевича выискал? Чего ты нас с толку сбиваешь! – закричали разом несколько голосов.
– Как же не царевичу? Коли царя Дмитрия сын? – с некоторою нерешительностью возразил Бутурлин.
– Глаза отвести нам хочешь! Нешто мы не знаем, каков был он царь? – загремели новые крики с разных концов.
– Царь ли, не царь ли, – мы того не ведаем… а как царю присягали ему – значит, и сын у него царевич! – попробовал было вступить Игнатий Михеев.
– Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала! – громко крикнул один из калужских бояр. – Аль не знаем мы, каким обманом и изменным делом вы с Бутурлиным, да с Михаилом Салтыковым, да с Юрьем Мнишком тушинского вора за царя Дмитрия признали да всем пример показывали на обман да на смуту!
– Молчать! Кто смеет так говорить? – зашумели приверженцы бывшего царика. – При жизни его небось пикнуть не смели, а как умер – все ободрились!
– Молчите вы, собаки! Пикнуть не смейте! – крикнуло огромное большинство собрания. – Спрячешь язык, как за всякое слово в Оке топят да тайной отравой поят!
– И кто у него, вора, заплечным мастером был: ты же, Мишка Бутурлин, да ты же, Игнашка Михеев.
Приверженцы царика попробовали было возражать и отругиваться; но в избе поднялся такой шум и гам, на них посыпались такие угрозы, что они должны были смолкнуть и не перечить большинству.
Когда шум поулегся, с лавки поднялся старый и почтенный боярин, Алексей Солнцев-Засекин, и сказав добродушно:
– Отцы родные! Криком да перекорами мы дела не решим… Ругайся хоть до третьих петухов, что толку? А коли по-Божьему-то судить, так вот что мне сдается: обманом весь свет пройдешь, да назад не оборотишься!..
– Верно! Верно! – послышалось со всех сторон. – Молчите… Не мешайте слушать!
– Вот так-то и с покойным царем тушинским… или какой он там был… не тем он будь помянут!.. Обманом и кровью начал – в зле живот свой положил… Не нам судить, его, и не о нем судить мы собрались, а о том: кому служить? Кому прямить? Кому крест целовать, душою не играючи, креста не ломаючи? Так ли, братцы?
– Так, так! – послышалось отовсюду.
– Ну, коли так, так я скажу, что на душе давно уж накипело! Пора нам всем за ум взяться – пора о Руси подумать! Пора от обману отстать и откреститься и грехи наши замолить… Не за грехи ли наши лютые вороги Русь православную, врозь несут? Не за грехи ли мы теперь, в канун великого праздника Рождества Христова, не в церкви Божией на молитву собрались, а в Приказной избе сидим; не благовеста в церковь ждем, а пушек Сапегиных… Где уж тут свой лоб перекрестить, как ворота бердышом окрестить собираешься…
– Верно!.. Где уж! Вестимо дело! – послышались голоса.
– Так вот что, братцы, – все ободряясь и возвышая голос, продолжал опять Солнцев-Засекин, – вот что я думаю: не можем мы, калужане, ни сыну Марины Юрьевны, ни иному кому крест целовать… Не великие-мы люди: побольше нас люди всей земли Русской! Пождем, что земля скажет. На чем старшие города положат – на том и мы станем. Кому Москва присягнет – тому и мы свою присягу понесем.
– Верно! Верно! На том и положить надо! Верно боярин сказал! – послышались отовсюду громкие голоса большинства.
– А как же быть с царицей? С Мариной Юрьевной?.. Как быть с царевичем? – раздались отдельные, несмелые голоса приверженцев бывшего царика.
– Какой он царевич? – крикнул кто-то из калужских бояр. – Он прижит в блудном житии Мариной Юрьевной со Степуриным Алешкой! Так станем ли мы присягать степуринскому щенку?
Опять поднялся гвалт и крик, в котором никто и ничего не мог уж разобрать. И снова Солнцев-Засекин, выждав удобное мгновение затишья, возвысил свой голос:
– Братцы! – сказал он спокойно и твердо. – Не будем препираться! Положим на том, чтобы выждать московских вестей… Сапеге не поддадимся – он нам не указ!.. Марине Юрьевне мы тоже зла не хотим: пускай живет и радуется на свое дитя. Но дабы смуты какой из-за ее ребенка не приключилось, дабы и она сама нам не могла вредить своим упорством женским, – мы ее возьмем за приставы и с сыном! Так и ей зла не учинится никакого, и себя обе режем. Недаром говорится: опаслив – не напраслив!
Все согласились с мнением старого и умного боярина и стали составлять общий приговор, под которым грамотные подписывались за себя, а неграмотные прикладывали печати и ставили свои знаки с письменными оговорками… Все положили быть заодно и присягнуть тому, кому присягнет Москва; а от Марины и ее козней беречься, и самое ее оберегать от всякого вреда и зла, на всякий случай…
* * *
В то время, когда в Приказной избе происходили эти шумные совещания и споры, Марина, с утра ожидавшая решительного ответа от боярской Думы, сидела у себя в хоромах над колыбелью своего младенца-сына. Только что оправившаяся от болезни, исхудалая, бледная, истощенная душевными страданиями последнего времени, Марина была неузнаваема… Большие глаза ее были окружены темною тенью и казались впалыми и злобными; длинные пряди темных волос, неприбранных и неприглаженных, падали ей на лоб и щеки, по которым змеились заметные морщинки. Брови были сурово сдвинуты; бледные губы сжаты и сухи. Тяжкое раздумье клонило ее голову на грудь… Думы, одна мрачнее другой, что черные вороны, носились над ее измученною, озлобленною душою. Грядущее пугало ее, страшило не только за себя, но и за ребенка.
– Все прошло, все минуло, и нет возврата ни мне, ни судьбе моей. В прошлом – позор и обман! В будущем – терзанья…
Ребенок закопошился в это время в люльке, поворачивая из стороны в сторону свое красное маленькое личико и чмокая сморщенными губками… Марина обернулась к нему, и вдруг лицо ее прояснилось. Нежный отблеск смягчил суровое и озлобленное выражение ее лица; что-то похожее на улыбку скользнуло по ее устам. Она тотчас сообразила тонким чутьем матери, что ребенок ищет груди, поспешно расстегнула пуговицы ферязи и, опустившись около люльки на колени, стала кормить сына, ласково поглаживая рукою его спинку и плечики.
– А может быть?.. Кто знает: может быть, он будет счастлив? Вырастет в холе и в неге царской… Он – сын моего милого, моего ненаглядного!..
И мечты далеко унесли ее в будущее. Ребенок, насытившись, выпустил грудь и заснул спокойно, ровно дыша. И долго-долго мать любовалась этим бесценным покоем, которого она уже давным-давно не знала.
Шаги в соседней комнате заставили Марину очнуться из полузабытья. Панна Гербуртова приотворила дверь и сказала шепотом:
– Пришел боярин, посланный от Думы. Прикажешь ли принять его, наияснейшая панна?
– Зови, зови его скорее в комнату! – тревожно проговорила Марина, поспешно оправляя одежду и приглаживая волосы, и, накинув на плечи соболье ожерелье, вышла к ожидавшему ее боярину. Боярин Солнцев-Засекин (это был он) поклонился Марине вполпоклона и сказал:
– Пришел я к тебе, государыня Марина Юрьевна, с нашим думским приговором. Изволишь выслушать его?
Марина, страшно бледная и взволнованная, опустилась на лавку и кивнула боярину в знак согласия.
– Дьяк! Читай! – сказал боярин, обращаясь к Демьянушке, почтительно стоявшему за его спиной.
Дьяк выступил вперед и весьма отчетливо, ясно и внушительно прочел уже известный нам приговор Думы о том, чтобы ни Марине, ни сыну ее Ивану – не присягать, а выждать, на чем положат старшие города с Москвою вместе.
Марина выслушала все, потом поднялась и, прямо глядя в очи боярину, сказала:
– Не признаете меня царицей и сына моего царевичем, так отпустите меня отсюда… Найдутся люди, которые пойдут за мною и останутся верными и мне и сыну моему!
– Дума положила, – спокойно ответил старый боярин, – до времени тебя и сына твоего отсюда не выпускать; а чтобы зла никто вам никакого не учинил – взять тебя и сына за приставы.
– Изменники! Злодеи! Предатели! – воскликнула Марина, подступая к боярину и сверкая злобными очами. – Как смеете вы мной распоряжаться? Я не хочу здесь быть! Я сейчас…
– Не выпустим! – спокойно сказал боярин. – Не круши себя напрасно.
И без поклона повернувшись к дверям, он вышел из комнаты. А Марина, вдруг утратив всякое самообладание, бросилась на скамью и, ломая руки, залилась слезами злобы и отчаяния.
– Игрушка злой судьбы! Несчастная, покинутая всеми, всеми забытая, всеми презренная!.. Что осталось мне еще в жизни?.. Неужели я дам собою помыкать этим неучам, этим… Неужели дождусь того, что они станут за меня торговаться и предадут меня и сына тому, кто больше даст за меня и за него?.. Нет! Клянусь – нет! Я не дам им над собою тешиться… Я сумею задушить мое дитя и заколоть себя!..
И она поднялась с лавки трепещущая, бледная, страшная, как тигрица, у которой хотят из логовища похитить ее тигренка… Поднялась, обвела кругом сверкающими очами, как бы отыскивая чего-то, – и вдруг в глаза ей бросился крошечный, тщательно свернутый в трубочку лоскуток бумаги, лежавший на полу у порога входной двери. Марина подняла его и прочла следующие строки, написанные по-польски:
«Дума решила одно, а я – другое. Сегодня, в полночь, приду к тебе через тайник твоей опочивальни. Тебе нет выбора: или со мною, или в могилу! Значит, сговоримся.
Доброжелатель».
– О! Кто бы ты ни был, – прошептала в страшном волнении Марина, – ты все же мой спаситель – спаситель моего сына! Еще мгновенье, и я бы наложила руки. О ужас! Нет, пусть он живет на месть врагам, пусть я живу на месть и на мученье всем жестоким, бездушным людям! Да, да, мы сговоримся с тобою, мой спаситель! Кто бы ты ни был, хоть бы воплощенный дьявол, я тебе протяну руку и пойду с тобою рядом!..
И снова совладав с собою, она стала терпеливо ожидать полуночи, то ободряя своих приближенных женщин, то сидя у колыбели сына…
Когда же время стало близиться к полуночи, она вынула из ларца два пистолета, богато украшенных золотою насечкою, осмотрела их опытным взглядом, подвинтила кремни, подсыпала свежего пороха на полку и положила их под одеяло, около подушки. Затем она сняла со стены и надела на пояс небольшой венецианский ножик, с которым в последнее время никогда не расставалась. Она скрыла его в складках платья и спокойно, решительно стала ожидать своего полуночного гостя.
И точно: чуть прокричали где-то первые петухи, Марина услышала осторожные шаги за стеною на потайной лесенке, потом дверка чуть-чуть скрипнула, ковер, которым она была прикрыта, заколебался, приподнялся, и из-под него как из-под земли выросла стройная и крепкая фигура атамана Заруцкого. Покручивая длинный ус и снимая с головы малиновую бархатную казацкую шапку, он смело и нагло глянул в очи Марине и сказал по-польски:
– Не чаяла меня видеть, наияснейшая панна?
Марина содрогнулась от звука его голоса и невольно отступила на шаг назад: слава разбойничьих подвигов и жестокости Заруцкого всегда внушала ей отвращение к нему.
– Что тебе нужно от меня, Иван Мартынович? – сказала она, стараясь придать своему голосу как можно больше твердости.
– От тебя мне ничего не нужно. Да я-то тебе нужен!.. Один я у тебя остался защитник и покровитель; так хоть и не мил тебе, а все меня не миновать…
– Что за загадки? Говори яснее! – строго сказала Марина.
– Изволь. Сапега подступает к городу: он к Жигмонту перешел и требует, чтобы ему бояре сдали город и выдали тебя и сына твоего…
Марина вздрогнула и гордо выпрямилась:
– Никогда живой не дамся! – произнесла она горячо.
– Постой; не все еще! Бояре не Сапеге тебя хотят отдать, а тому, кто будет избран царем на Москве. Здесь, посидишь за приставами, там тебя сгноят в тюрьме и с сыном.
– Молчи, проклятый! Говори, чего ты хочешь? Говори!
– Чего хочу? Мне смута люба! Привык я к ней! Мне неохота ворочаться в наши станицы. Гуляй душа на воле! Вот я каков! Либо волюшка – либо с плеч головушка! Возьми меня – не выдам ни сына, ни тебя! Будешь Русь мутить его именем – именем государя Ивана Дмитрича, Дмитриева сына!
Марина схватилась за голову обеими руками, как бы стараясь подавить в себе что-то страшное.
– Согласна, что ли? Чай, лучше умереть на воле, чем с сыном жить в тюрьме.
– Согласна! – прошептала Марина, протягивая руку Заруцкому, который крепко, чуть не до боли, сжал ее в своей грубой, железной лапище. – Согласна, и будь что будет!
– Ну, коли так, то жди меня завтра, – завтра в полночь будет все готово к побегу. Беру тебя с ребенком – и бежим в Коломну. Мои казаки завтра город стерегут, – они нас и пропустят. Прощай, до завтра!
И, нахлобучив шапку, он тотчас вышел тем же тайником, оставив Марину в оцепенении ужаса перед тем грядущим, которое открывала ей запятнанная кровью рука разбойника Заруцкого.
Эпилог
IВъезд царицы московской
Еще с лишком два года длилась страшная смута и продолжала терзать Русскую землю; и она все не находила внутри себя достаточно твердой опоры, чтобы подняться и выйти из той невероятной лжи и путаницы, в которую ее завлекла своекорыстная борьба людей, забывших о Боге, о душе, о ближнем и помнивших только свои выгоды и расчеты. Но наконец нашлась твердая опора в русской церкви, показавшей пример мужества в борьбе с врагами внешними и громко возвысившей свой голос; она пробудила в русских людях сознание своей греховности, малодушия и ничтожества; она собрала сильных и твердых мужей и поставила их вождями народного ополчения, которое освободило Москву от поляков и заставило их со срамом удалиться за рубеж Русской земли. Здесь-то, в освобожденной Москве, русские люди решились приступить к избранию царя «всею землей». На Земский собор сошлись лучшие люди из всех городов и от всех сословий, сошлись не с гордынею, не с желанием шуметь, спорить и величаться друг перед другом… Сошлись с сознанием ничтожества своего, если не будет меж ними неразрывной внутренней связи, и потому, прежде чем приступить к совещаниям, три дня молились и постились, прося у Бога духа кротости, смиренномудрия и любви…
На этом соборе, 21 февраля 1613 года, был избран в цари юный Михаил Федорович Романов, который и венчался на царство в начале июня и тотчас должен был приступить к решению труднейших государственных задач: одновременно он должен был готовиться к войне с хищными соседями, захватившими русские города и области, и вести неустанную, беспощадную борьбу с врагами внутренними. Разбойничьи шайки черкас (малороссийских казаков), летучие отряды «лисовчиков» и буйные ватаги всякой сбродной вольницы еще опустошали Русь на западе и юго-западе; а Заруцкий с воровскими казаками, с Мариною и ее сыном Иваном ушел на юго-восточную окраину, захватил там Астрахань и мутил все низовья Волги, силою вынуждая всех присягать сыну Марины, как государю.
Но время смуты уже минуло… Она уже не могла возникнуть вновь. Все ее усилия разбивались о твердость и самоотвержение русских людей, окружавших юного царя… Они напрягли все силы к спасению русского народа от грозивших ему бедствий. Земля откликнулась на их призыв: помощь и деньгами и ратными людьми явилась отовсюду, и вскоре тишина и порядок всюду восторжествовали над смутой и своевольною неурядицей.
* * *
В один из августовских дней 1614 года московские горожане были обрадованы слухами о победах и одолении князя Одоевского над Заруцким; затем прошел слух о новых удачах: Заруцкий оказался не только побежден, но и пойман; а неделю спустя по всем крестцам и базарным площадям Москвы уже разъезжали биричи [22]22
Глашатаи.
[Закрыть]и, вздев шапку на палку, громко выкрикивали:
– Православные люди русские, горожане московские! Собирайтеся! Соходитеся! Извольте боярской грамоты прислушати… А прочтет вам ту грамоту государский дьяк Демьян Иванов Заяц!
И собирались московские люди толпами, спинами сплотясь около голосистого бирича на приземистой и косматой саврасенькой лошадке и около сухопарого дьяка на гнедом коне, окруженного полудюжиной стрельцов с бердышами и копьями.
Вот дьяк снимает колпак, крестится большим, широким крестом на крест ближайшей церкви, и все шапки разом летят с голов, и вся толпа спешно и размашисто крестится вслед за дьяком, готовясь слушать то, что он будет читать… И когда он с достодолжным почтением вынимает грамоту из-за пазухи, развертывает ее и начинает, читать, вся толпа, как один человек, обращается в слух и внимание.
Но при всем желании большинство в толпе слышит только отдельные места и отдельные фразы грамоты.
…«В нашем великом государстве, Божиею милостью и великого государя хотением… во всем строится доброе, все люди во всех городах Московского государства меж себя в любви и соединении, а великого государя и самодержца жалованьем и милостивым призрением благоденствуют…»
– Слава Тебе, Господи! – шепчут, слыша это, набожные люди.
– Тсс! Молчать! Не мешай слушать!
…«И польских и литовских людей, – раздался вновь над толпою голос дьяка, – из Московского государства выгнали, и города все, которые были за ними, очистили…»
– Очистили!.. Давай-то Бог!.. Здравие великому государю! – шумно и бестолково галдит толпа.
– Стойте! Стойте! Дослушайте! Эки черти, олухи окаянные!
Толпа опять смолкает на мгновение и успокаивается, и опять до слуха большинства долетает чтение грамоты.
…«Одна только смута осталась во всем Московском государстве – в Астрахани, а ныне, Божиею милостью, Пречистой Богородицы и всех святых молитвами, и государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси счастием, и город Астрахань от воров очистили и ведомых воров – Маринку люторку-безбожницу, ее сына и Ивашку Заруцкого поймали и в оковах к Москве везут…»
– Везут?! У-у-у! А!! О-о-о-го! Пымали!.. То-то!.. Чтоб неповадно им, ворам, было! – завопила толпа, и в этих радостных воплях и криках толпы потонули, как в море, последние слова грамоты, как ни старался их выкрикнуть дьяк Демьян Иванович. Толпа покатилась, крича и судя, шумною волной по улице вслед за двинувшимся далее поездом биричей и дьяка, и в толпе слышались только поспешно передаваемые из уст в уста сведения:
– Через неделю, вишь… в будущий в авторник привезут их сюда…
– В заутрене и привезут – и прямо на Варварку, в острог…
* * *
Настал наконец и этот желанный день въезда в Москву «бывшей царицы московской». Утро было свежее, чуть-чуть туманное, но яркое, солнечное, обещавшее жаркий, душный день. Тысячные толпы московского населения чуть не с рассвета хлынули к въезду в Москву со стороны Владимира и широкою темною лентой заняли обе прилегающие к дороге полосы полей и лугов. Живописные, пестрые группы горожан толпились, сидели, лежали на траве в ожидании зрелища. Дети со звонким смехом шумно резвились и бегали между взрослыми, кувыркаясь в дорожной пыли, играя в чехарду и в свайку. Разносчики с сайками и с квасом бродили среди толпы, выхваляя свой товар и бойко оборачиваясь на зов покупателей. Издали, от ближайших московских церквей долетал звон утренних колоколов и плавно гудел, разносясь в прозрачном утреннем воздухе. Около самой дороги, опираясь на клюки и на посохи, собралась нищая братия, калеки перехожие и заунывным, гнусливым, однообразным напевом пели свои духовные стихи, протягивая прохожим деревянные чашки за подаянием. Не пел только один: это был громадный мужчина, атлетически сложенный; грязные и рваные лохмотья едва прикрывали его могучее тело, густая борода с сильною проседью опускалась почти до пояса, а беспорядочно всклокоченные волосы длинными прядями падали ему на лицо и на плечи. Он был страшно искалечен: правая нога была у него отрублена до половины, у правой руки не было кисти; широкий шрам от сабельного удара багрово-красной полосой пересекал ему наискось лицо. Опираясь широкими плечами на два толстых самодельных костыля, он пристально смотрел вдаль, еще подернутую легкою дымкой утреннего тумана.
– Ермилушка! – обратился к этому калеке ближайший нищий-старец. – Что ты воззрился в даль?.. Смотри, какого жирного купца прозевал: всех нас оделил.
– Бог с ним! – пробасил Ермилушка. – Не лезть же мне за милостыней в его мошну!.. А их-то погубителей-то моих, куда как хочется еще раз на веку увидать… Да вон – никак, едут.
– Едут! Едут! – уже загудела толпа кругом и вся заколыхалась, как ржаное поле от налетевшего ветра.
Вдали действительно замелькали цветные кафтаны и пестрые шапки сильного отряда конных стрельцов, который сопровождал «ведомых воров» от Казани в Москву.
Вот поезд ближе, ближе… Вот проехала мимо Ермилушки сотня стрельцов, бренча оружием и обдавая толпу облаком пыли, поднимаемой копытами коней; вот, постукивая колесами, прокатилась колымага, одетая цветным сукном, в которой сидели сопровождавшие поезд стрелецкие головы. За ними между двух рядов пешей вооруженной стражи плелись две телеги. В передней, спиною к коням, сидел прикованный к поперечине Заруцкий, в ободранном красном казацком кафтане. Он смело и нахально смотрел по сторонам на толпу; презрительная улыбка кривила иногда его уста, и глаза вдруг вспыхивали холодным огнем бессильной злобы. За этою переднею телегою ехала другая: в ней на куче соломы сидела женщина в ручных оковах. Какая-то яркая, затасканная и рваная верхняя одежда была наброшена ей на плечи; грязный платок прикрывал ей голову, а длинные космы темных волос, выбиваясь из-под платка, падали на страшно исхудалое, истощенное, почерневшее лицо… В этой женщине трудно было узнать Марину, бывшую царицу московскую.
На коленях у Марины, обвив ее шею маленькими ручонками и плотно прижавшись к ее груди, сидел мальчик, лет четырех, в синем кафтанчике, обшитом галунами. Изредка он приподнимал свою курчавую головку, пугливо озирался на галдевшую кругом толпу и опять спешил укрыться от любопытных взоров на груди матери…
Этот ребенок тяжело подействовал на толпу, собравшуюся на дороге, чтобы полюбоваться на проезд «ведомых воров» – злодея Заруцкого и «Маринки люторки-безбожницы»… Он даже самых озлобленных в этой любопытствующей толпе примирил с Мариною, и вместо злобных криков и возгласов толпа смолкала при проезде этой несчастной матери, и по ней, словно шелест ветерка по листьям, пролетал чуть слышный говор:
– Бедненький!.. Чем он виновен?.. За грехи родительские в воры попал… Господи! Хоть и сын вора, а жаль, жаль его… бедного… курчавенького…
– А вот и господа дьяки едут! – загудели кругом голоса в толпе. – Федор Лихачев да Демьян Иванов!
Ермила быстро обернулся и узнал Демьянушку, который преважно ехал в одноколке позади поезда. Из-за шитого картуза жалованного кафтана выставлялся только высокий бархатный зеленый колпак, надвинутый на самые брови, а из-под колпака виднелся только острый кончик носа и клок жиденькой бороденки.
– Демьянушка! Демьян Иваныч! Приехал старый! Аль не узнал меня? Не по один мы год с тобой в товарищах бывали! – забасил весело и шутливо Ермила, выступая на дорогу и протягивая дьяку руку.
Но Демьянушка грозно воззрился на него, мигнул стрельцам, и они, сразу приняв Ермилу в две плети, согнали прочь с дороги:
– Ништо тебе! Не лезь с посконным рылом в калашный ряд!
Толпа захохотала.
Ермила оглянулся кругом и проговорил печально:
– Ништо мне! Поделом мне! Мало покарал меня Господь… Минуло смутное, темное царство… Иное время наступило: всем нам на покой пора, в могилушку… Землею-матерью свой позор прикрыть и язвы гнойные…
И он заковылял на своих костылях в сторону от дороги.






