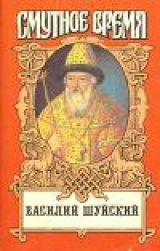
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
II
Убылая царица московская
На другое утро, чуть свет, один из площадных подьячих чуть не бегом бежал в Шумихин тупик, на Варварку. Завернув в тупик, он миновал две полуразвалившиеся лачуги и рысью подбежал к высокому забору с парадными воротами под широким навесом. Чуть только брякнул он в воротнее кольцо, как за воротами раздался свирепый лай дюжих дворовых псов.
Из-за громкого лая псов послышался за воротами чей-то кашель, и старческий голос окликнул подьячего из-за калитки:
– Кто стучит там? Эй! Отзовись!
– Свои люди, Евтихьич!
– А! Демьянушка! Милости просим! Добро пожаловать, господин подьячий! – ласково произнес он, впуская Демьянушку и указывая ему перед собою дорогу на крылечко, прирубленное к воротнему навесу. – Да ты это с чем же пожаловал-то?
– С тем пожаловал, что ты и не чаешь! Перво-наперво-то к господину твоему, к царскому стольнику Алексею Степановичу Степурину – с приказом! А там и к тебе, старому приятелю, с вестями…
– С приказом? Да от кого же бы это? – с любопытством допрашивал старый слуга.
– Ступай, буди его! Скажи, что, мол, от государева дьяка Томилы-Луговского прислан. Зовет, мол, Алексея-то Степановича, не замешкав, без всякого мотчаяния [2]2
Без промедления.
[Закрыть]: по государеву делу!
Минут десять спустя Евтихьевич вернулся и, едва переступив порог избы, прямо подошел к Демьянушке.
– Ну, что ж? Какие вести? – спросил он его тревожно.
– Вести, брат, мудреные… Не знаешь, как и верить… Царь-то Дмитрий… жив ведь!..
Евтихьевич отступил на два шага от подьячего и молча стал креститься под кафтаном.
– С нами крестная сила! – произнес он наконец. – Сам ведь видел… Как он на столе… и Басманов-то в ногах.
– Вот то-то и оно! – таинственно ответил подьячий. – Говорят, кудесником был… И раньше все проведал, что избыть его хотят, – и тягу дал! А тут будто подручного убили. Вот у нас-то и пошел переполох! – сказал подьячий, не обращая внимания на рассуждения старого слуги. – Пошел да пошел, и порешили: царицу-то былую да всех поляков выслать наспех из Москвы а в приставы к ним твоего-то дать…
– Эй, Евтихьевич! – раздался чей-то голос из-за сеней.
Оба старика повскакали с лавки и засуетились.
– Милый человек! – сказал подьячий. – А уж ты, будь друг, ни словом не обмолвись о том, что слышал от меня… То есть своим-то ты скажи, обиняком, чтобы были настороже, да меня не впутай! И то сказать: ну, не ровен час, царь Дмитрий вернется да Шуйского «побоку». Прощай, дружище! Беги к нему… А мне еще хлопот-то пока довольно, я ведь и позабыл тебе сказать: сегодня, накануне венчанья царского, царицу Марину Юрьевну из Годуновских палат в Кремле вывозят, в дом Афанасия Власьева, что в Белом городе.
Около дома Бориса Годунова в Кремле, все еще смотревшего унылою и мрачною развалиной, в тот день с утра стала скопляться порядочная толпа народа. К ней, в четвертом часу дня, подошли и наши знакомцы: старый Евтихьевич и подьячий Демьянушка. За ними следом, не отставая от них ни на шаг, выступал высокий и красивый юноша, одетый в щегольской терлик [3]3
Долгий кафтан с короткими рукавами.
[Закрыть]из яркой синей объяри [4]4
Муаровой ткани.
[Закрыть]с золочеными разводами, туго подтянутый ремнем с серебряным набором. Шапка-мурманка с жемчужною запоной лихо была у него сбита на ухо и чуть-чуть прикрывала шелковые кольца его русых кудрей… Он, человек в Москве новый и раньше в ней не бывавший, шел, озираясь во все стороны, видимо смущенный многолюдством и шумом стольного древнего города. Наши знакомцы остановились в толпе перед самыми воротами.
– О-ох, святители небесные! – говорил Евтихьевич, с грустью поглядывая на Борисов дом и обращаясь к своим спутникам, а в особенности к молодому Вязмитину: – Вот ты, батюшка, человек молодой, да в Москве-то новый, так ничего и не знаешь, а как мы-то здесь век изжили, да каждый-то камешек нам ведом, так на ино место как глянешь, в тебе все нутро-то во как поворотится…
Красавец юноша с некоторым удивлением посмотрел на старого слугу:
– Да вот хоть бы этот дом – царя Бориса палаты! Тут он и конюшим боярином жил; тут он потом застенок тайный про своих недругов держал… Говорят, бывало, ночью кто идет мимо – слышит вопли, крики, стоны глухие… Это там Семен-то Годунов свою душеньку тешит! А умер царь Борис – в этот же дом его вдову с детьми привезли да заперли; да вот мы тут точно так, как теперь, стояли – вдруг видим, туда боярин Рубец-Мосальский с злодеями прошел… Ждем, что будет? Все замерли, не дохнем…
– Вона, вона, выводят! Выводят! – зашумела толпа так неожиданно, что юноша, внимательно слушавший Евтихьевича, невольно вздрогнул и обернулся к воротам.
– Сколько их там! Смотри-ка! Вон их из дому ведут к воротам! – перебил Вязмитин, указывая на пеструю толпу пленников и пленниц, которая сходила с крыльца и медленно двигалась к воротам.
– Столько ли их было, как сюда-то ехали, – сказал вполголоса старый подьячий. – При невесте да при тесте царском две тысячи их прибыло в Москву… А многим ли родину-то вновь увидеть придется?
Впереди всей толпы шел высокий и полный старик в темном плаще, накинутом поверх расшитого золотом бархатного синего кунтуша. Куколь плаща, надетый на голову, прикрывал его лицо. Наклонив голову и совсем перегнувшись набок, старик вел под руку небольшого роста очень стройную женщину в темном шелковом платье и верхней бархатной накидке, обшитой золотым шнуром.
– Вон, впереди-то всех сама царица! Марина Юрьевна! – пронеслось по толпе, которая смотрела на выход пленников в молчании и вела себя очень сдержанно. – А это сам царский тесть ее за руку ведет…
Все взоры разом обратились на Марину, но ее голова была окутана тонким кисейным убрусом [5]5
Платком.
[Закрыть], так что лица ее невозможно было рассмотреть. Из-под накидки видны были только две грациозные, крошечные, белые как снег, ручки, которые судорожно обхватывали руку старика отца. Около Марины шла целая группа женщин и девушек из ее свиты, и пожилых, и очень молодых. Все шли, почтительно отступая от царицы, печально понурив головы; многие плакали – иные из приличия закрывали себе лица платками. Все были в оборванных платьях; многие почти в лохмотьях… За этой группой женщин выступали в несколько рядов чубатые и усатые паны, жолнеры [6]6
Солдаты.
[Закрыть], гайдуки и пахолки [7]7
Парни.
[Закрыть], и целая орава слуг – псарей, поваров и конюхов.
– Иван Михайлович! А Иван Михайлович! Куда ты, голубчик? – закричал Евтихьевич Вязмитину, который впереди всей толпы зевак последовал за поездом царицыной свиты, пристально вглядываясь в одну из телег, ближайших к царицыной колымаге.
Но юноша, не оглядываясь, только махнул рукой старику, а сам глаз отвести не мог от телеги, с которой шел почти рядом. Ему было не до старика: он в первый раз в жизни увидел перед собою такой женский образ, какой и во сне ему не снился.
Среди той группы женщин, которую приставы рассаживали по телегам, он отметил одну белокурую, стройную, среднего роста, с целой копной вьющихся волос; из-под лоскута материи, едва прикрывавшего ее, видны были красивые, полные руки. Все женщины вокруг нее были печальны или старались изобразить печаль на своих сердитых и гордых лицах; а она спокойно смотрела на толпу своими серыми, большими, лучистыми глазами и весело улыбалась, перешептываясь со своей соседкой и показывая свои белые, как жемчуг, зубки. Вязмитину отродясь не случалось видеть так близко такую красавицу. И как видеть? Едва прикрытую плохой рваной одеждой, с открытым лицом; и так близко к ней идти, и смотреть ей в глаза, и видеть, как она на него смотрит и плутовато улыбается, указывая на него глазами своей подруге.
«О! Какая красотка! Вот красотка-то!» – думал он, позабыв и о спутниках своих, и обо всем окружающем и не спуская глаз с очаровательной улыбающейся польки, которая медленно двигалась перед ним в своей телеге, обвеянная золотистыми кудрями, как лучезарным сиянием.
– Куда же ты, Иван Михайлович! – вдруг крикнул над самым ухом Вязмитина знакомый голос, и Степурин крепко ухватил юношу за руку, почти вынуждая его остановиться.
– Пусти, пусти, Алексей Степаныч, посмотри, какую красотку везут, – прошептал Вязмитин, указывая на телегу и порываясь вперед.
– Да погоди же! Дело есть! – сказал Степурин и легонько отвел его в сторону от наступавшей на них толпы зевак, которая бежала за поездом.
– Я назначен в приставы при Мнишках и при царице с тайным порученьем, и мне дозволено с собою взять на выбор, кого я хочу, кто понадежней!.. Хочешь ты со мной туда – их стеречь?..
– Туда? – машинально переспросил Вязмитин, еще не успев освободиться от впечатления, произведенного очаровательной полькой.
– Ну да, да! Вон к этим самым красоткам, которых повезли! – смеясь, повторил Вязмитину Степурин. – Все будут под ключом и под присмотром твоим.
– Голубчик! – спохватился вдруг юноша. – Да а готов какую хочешь службу нести, лишь бы мне только хоть разок еще одним глазком взглянуть… Ну да! Один разок!.. Ведь вот бывают же такие!..
И он остановился, в смущении поглядывая на Степурина, который, улыбаясь, смотрел на юношу.
– Когда же нам идти туда? – спросил он через минуту. – Сегодня или завтра?
– Сегодня!.. Мы в обед уж там должны быть, в доме Афанасья Власьева, – сменить тех приставов, что при царице были до сегодня. Я за тобою потому и шел к Борисовым палатам… Пойдем скорее домой, надо приготовиться…
Вязмитин не заставил повторять себе этих слов и вместе со Степуриным опрометью пустился на Варварское подворье.
III
В приставах у Мнишков
В полдень того же дня Степурин вместе со своим старым слугой переехал со своего подворья во власьевский дом, в который Мнишки перевезены были из дома Годунова. В то время, когда его слуга развязывал при помощи холопов возы с сундуками и всякой домашней рухлядью, перевезенной с подворья, Степурин вошел в широкие сени власьевского дома, некогда одного из самых красивых и богатых в Москве. В сенях, битком набитых стрельцами, которые сидели на лавках около стен и стояли отдельными группами у окон, выходивших на двор, Степурин был почтительно встречен стрелецким головою, крепким и благообразным мужчиной лет сорока. По знаку головы и все стрельцы поднялись с лавок и отвесили Степурину поясной поклон.
– Здравствуем господину стольнику [8]8
Придворный чин – смотритель за царским столом.
[Закрыть]! – крикнули они все разом.
– А расставлены ли у тебя сторожа для береженья полонянников, господин голова? – спросил Степурин.
– Расставлены, батюшка Алексей Степанович! – отвечал голова. – Все входы и выходы заняты, и по двору около тына дозор ходит; а этих ребят на смену в сенях держать будем… Птица – и та не пролетит и не вылетит!
– Ну ладно! А в верхнем жилье, во внутренних палатах и в теплых сенях нигде стрельцов не поставлено?
– Пока приказу нам не было. От тебя приказу ждем. Вот тут кстати, в тех покойчиках, что тебе под жилье отведены, и наказ тебе от государева дьяка Томилы-Луговского прислан, и платье стрелецкое полковничье положено.
И голова услужливо проводил Алексея Степановича до дверей его покойчика.
– Сказан ты в приставы при Марине Юрьевне, да при ее отце Юрии Мнишке, и повелено тебе быть при них безотлучно, не выходя из тех горниц, где Юрий Мнишек с дочкой да со служнею пребывать будет. А как ты по-польски говорить горазд, то повелено тебе их речи слушать, с ними в беседу не вступаючи, и обо всем, что услышишь, доносить через меня великому государю. А со стороны к Мнишкам никого без моего пропуска не допускать, ни писем, ни обсылок никаких не дозволять и сторожить Мнишков накрепко – до приказу. И во весь их обиход тебе входить самому и тому, кого ты себе, на свой страх, примешь в товарищи…
– А вот и я! – раздался у него за спиной голос Ивана Михайловича. – Глянь-ка на меня, чем я не стрелец? Стану в строй, так от других пятидесятников и не отличишь меня. Право.
«Хорошо тому на свете жить, у кого нет на душе думы с заботою!..» – подумал Степурин.
– Да ну, хорош, хорош! – полно еще охорашиваться-то! – прибавил он вслух. – Нам с тобою и то уже давно пора наверху быть.
– Наверху! – встрепенулся Иван Михайлович. – Около Мнишков – около этой…
Степурин поспешил перебить юношу.
– Где укажу тебе, там и будешь – потому мне в наказе указано быть при Мнишках безотлучно… Ну, господин голова, веди нас к ним, указывай дорогу!
– Пожалуйте за мною, – сказал голова и повел Степурина и его товарища через нижние сени, мимо стрельцов, внутреннею лестницей в верхнее жилье.
– Вот тут из сеней направо – три больших покоя, – указывал на ходу голова, – отведены под самого воеводу и его служню, да под царицу… то бишь под Марину Юрьевну с ее бабами и девками… а те покои, что на переходы выходят, тоже бабами заняты, которые познатнее да породовитее… а те две избы битком набиты воеводскою и панскою челядью… их там что пчел в улье!
Затем он подвел Степурина и Ивана Михайловича к средней из трех дверей, выходивших в сени, и, взявшись за скобку ее, проговорил:
– Коли воеводу самого видеть желаешь, господин стольник, так он вот здесь… да и дочка-то не с ним ли?
И он с поклоном отворил дверь Степурину.
И точно: голова не ошибся. В средней комнате, окнами выходившей в сад и служившей Мнишкам приемной и столовой палатой, Степурин нашел и Юрия Мнишка и Марину. С ними были еще две женщины – пани Гербуртова, охмистрина [9]9
Экономка ( искаж. польск.).
[Закрыть]царицы, пожилая и важная дама, и Зося Осмольская, ее фрейлина и подруга, – и Ян Корсак-Цудзельский, слуга и домашний секретарь воеводы Сендомирского. Все стояли на коленях перед складным алтариком, который пан воевода повесил в углу на место иконы, и шепотом молились по своим молитвенникам. Когда дверь скрипнула, и в комнату вошел Степурин и остановился на пороге, выжидая окончания молитвы, никто не обернулся в его сторону и не удостоил его взглядом. Все по-прежнему продолжали стоять на коленях, лишь изредка поднимая головы, и то испуская глубокие вздохи, то восклицая:
– «Jesus Maria… О, Jesus!»
Наконец, Марина первая поднялась с колен и обвела присутствующих взглядом…
Степурин взглянул на нее и невольно был поражен строгим и спокойным выражением ее красивого лица с тонкими и правильными чертами. Марина владела им превосходно. Сильная, твердая воля сказывалась и в выражении черных глаз Марины, и в ее темных, прямых бровях, и в тесно сжатых тонких губах, и этой воле, видимо, были подчинены все присутствующие.
Поднялась Марина, за нею ее дамы; за ними, кряхтя и вздыхая, стал подниматься и сам воевода, почтительно поддерживаемый под мышки паном Цудзельским.
Степурин отделился от дверей и, поклонившись Марине и ее отцу, стал перед ними, опираясь на трость, и приготовился вести речь.
Марина вопросительно посмотрела на отца, который хмуро насупил брови, а потом обратилась к Степурину, видимо желая услышать, что он скажет.
– Господин воевода! – обратился к Мнишку Степурин, смущенный смелым, почти вызывающим взглядом Марины. – Я с товарищем к тебе и к дочери твоей Марине Юрьевне по государеву указу в приставы прислан, и приказано мне быть при вас для береженья безотлучно и никого к вам не допускать без приказа государева дьяка Томилы-Луговского… А если вам в чем нужда будет – приказано мне от вас челобитья брать и к тому же дьяку отсылать…
– Не разумем, князь, не разумем! – раздражительно и желчно процедил сквозь зубы Мнишек и, отвернувшись от Степурина, опустился на кресло около стола, приставленного к окну.
– Разумеешь или не разумеешь – было бы тебе ведомо, пан воевода! – вежливо и степенно ответил Степурин и, отойдя к дверям, расположился на лавке около печки.
– Что же это будет? – злобно крикнул Мнишек по-польски. – Этот новый цербер наш, кажется, и уходить отсюда не собирается, – черт бы его побрал!
– Отец! Ты только что молился! – заметила Марина как бы мимоходом.
– Ах, полно, пожалуйста! Сил не хватает больше терпеть… Да и ты не беспокойся: эти хамы ни бельмеса не понимают по-польски.
– Зося! – обратилась Марина к своей фрейлине. – Пойди, принеси мне твою Библию – прочти мне главу из нее, с того места, где мы кончили вчера.
Сказала и величаво опустилась на кресло около стола, как раз напротив отца – спокойная, строгая и невозмутимая.
Зося, та самая красотка с копною белокурых вьющихся волос, которой залюбовался Иван Михайлович в поезде царицы, вскочила с места, легкая, как серна, принесла из другой комнаты толстую Библию, переплетенную в бархат, присела на скамеечку у ног Марины и звучно, громко, ясно стала читать XI главу из пророчества Иезекииля:
– «Много убитых ваших вы положили в сем городе и улицы его наполнили трупами…»
– Да! Истинно так!.. Много убитых.
– Jesus, Maria! – прошептал пан воевода, набожно складывая жирные руки и возведя вверх свои заплывшие жиром карие глазки.
– «Но я вас выведу из него, – продолжала Зося, – и отдам вас в руки чужих и произведу над вами суд…»
– О, Jesus, Maria! Смилуйся над нами! – стал опять нашептывать пан воевода, окончательно зажмуривая глазки и покачивая головой.
– «И узнаете, что Я Господь; ибо по заповедям Моим вы не ходили и уставов Моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас».
– Так! Истинно так! – шептал воевода, всхлипывая и собираясь пролить слезы, причем его красное, обрюзглое лицо с отвислою нижнею губой и двойным подбородком приняло чрезвычайно кислое и противное выражение.
Марина бросила строгий взгляд в его сторону и сделала знак Зосе, чтобы она закрыла Библию.
– В вашем высоком положении, – проговорила она сквозь зубы и слегка оборачиваясь к отцу, – неприлично плакать! Вы должны были бы всем нам подавать пример твердости и мужества.
– О! О! Легко сказать: твердости! мужества! – с досадою проговорил пан воевода, моргая своими недобрыми карими глазками и злобно теребя седой ус. – Легко сказать!.. Но после всех несчастий, после стольких смертей, после стольких потерь, убытков… Когда мы ограблены до нитки, – у нас все отнято, расхищено – наша казна пуста, карманы тоже пусты!.. И говорить о какой-то твердости! Взгляните на себя, на меня, на ваших дам, – мы все в лохмотьях! Где наши кареты и коляски, наши чудные, фарбованные [10]10
Украшенные ( польск.).
[Закрыть]кони, наши аксамитные [11]11
Бархатные ( польск.).
[Закрыть]одежды, дорогое оружие, наши драгоценные уборы, – все это пожрали ненасытные московские псы!.. И после всего этого толковать о мужестве! Знаете ли, что при всем моем почтении к вам, дочь моя, как к царице московской, я все же…
– Да разве же вы не слышали, что говорит пророк: «Вас выведу отсюда»? Или вы думаете, что мы вечно будем здесь сидеть в четырех стенах, под замком? – с достоинством и спокойно проговорила Марина.
– Але так… Верю, верю и пророку и в пана Бога верю… Але ж… Кто знает, когда все это сбудется? Да, притом же, если нам суждено отсюда вернуться к себе домой, в Самбор, в таком виде, как мы теперь, я уж лучше желал бы погибнуть с моим покойным зятем…
– Униженной и несчастной я не вернусь в Самбор, – решительно и твердо произнесла Марина.
– Как же так? А что же ты здесь думаешь делать? – нетерпеливо и желчно заговорил Мнишек, возвышая голос.
– Лучше здесь умру в темнице пленницей незаконного царя московского, – с достоинством произнесла Марина, – нежели вернусь на посмеяние в вашу Польшу…
– Ну, нет уж! Не согласен! – крикнул Мнишек. – По-моему, если нам покроют наши убытки, вернут наш скарб, клейноды [12]12
Войсковые регалии и символы власти (булава и др.) (от нем. Kleinod – драгоценности).
[Закрыть], деньги, коней, то нам все же лучше…
Марина не дала отцу докончить речь. Она поднялась со своего места и строго сказала отцу:
– Вы забываете, кто я!.. Но, впрочем, я сегодня не расположена об этом говорить. Зося! Пойдем в мою спальню, ты там дочитаешь мне эту главу из Библии…
И она вышла из комнаты со своими двумя дамами.
А почтенный родитель растерянно посмотрел ей вслед и в недоумении развел руками. Потом, обратившись к своему секретарю, почтительно стоявшему за креслом у стены, он сказал с досадой:
– Вот она и всегда так! Извольте с ней поладить, пане Яне! Столько убытков, такие потери, такие несчастья и разорение… А ей это все – как с гуся вода!.. Вот она какова! Настоящая царица! Тши тысенци дьяблов! Не юбку ей надо бы носить… а шишак да панцирь! О, Jesus, Maria! О, Jesus!..
IV
На крыльях любви
В то время как Степурин присматривался к внутренней жизни своих полонянников, внимательно наблюдая вблизи ту самую царицу московскую, на которую два месяца тому назад он не смел бы поднять и взоров, Иван Михайлович сидел на лавке верхних сеней около самой двери в приемную Мнишек и, зевая от скуки, посматривал по сторонам… Он все ждал, когда сбудется обещание Степурина и он еще раз воочию увидит свою красотку, – увидит хоть на единый миг.
Сверх всякого чаяния ждать пришлось недолго. Не прошло и часа с тех пор, как Степурин переступил порог приемной палаты Мнишков, как дверь рядом с ней тихо скрипнула и кто-то осторожно выглянул в сени.
Иван Михайлович насторожился, вытянул вперед голову и внимательно посмотрел в сторону приотворенной двери. Лицо, выглядывавшее из-за двери, вероятно, не вполне удовлетворилось своими наблюдениями, потому что, хотя дверь и приотворилась, но не плотно, и пара каких-то живых и блестящих очей зорко продолжала смотреть в сени сквозь скважину. Иван Михайлович не вытерпел, поднялся с лавки и, молодцевато избоченясь, два-три раза прошел мимо заманчивой двери, слегка побрякивая на ходу привешенной сбоку саблей и разбирая пальцами свои густые русые кудри.
В то время как он уже третий раз проходил мимо заветной двери, не смея оглянуться и заранее краснея при мысли, что кто-то за ним наблюдает, дверь вдруг скрипнула и приотворилась и курчавая головка знакомой ему белокурой красотки высунулась из-за нее по самые плечи. Красотка улыбалась, выказывая два ряда зубов, ровных и белых, как жемчуг.
– Пане ласковый! – зазвучал нежно и мягко ее голос за спиною Ивана Михайловича, который, быстро обернувшись, встал перед дверью как вкопанный.
– Пане ласковый! – продолжала красотка, вкрадчиво улыбаясь и слегка прищуривая глазки. – Как тебя зовут и кто ты таков?
Она говорила по-польски, довольно ловко вплетая в свою речь русские слова, которые произносила как-то особенно смешно и неуклюже.
– Зовут меня Иваном, по отцу Михайловичем, а прислан я сюда приставом всех вас стеречь…
– Такой молодой, и приставом!.. И меня тоже стеречь будешь? – плутовато спросила красотка.
– И тебя тоже! – краснея еще больше, ответил Иван Михайлович.
– Ну, вот забавно! Не позволим! – шутливо проговорила она, притопывая ножкой.
– А все стеречь будем, коли приказано! – нашелся ей ответить юноша, несколько ободренный веселостью своей собеседницы.
– Панна Зося, панна Зося! – крикнул кто-то строго за дверью, и красотка поспешно захлопнула ее и что-то громко сказала по-польски.
«А! Так вот ее как – Зосей зовут!» – подумал Иван Михайлович, поспешно отходя к своей лавочке у дверей приемной.
В тот же день под вечер панна Зося еще раз улучила минуточку и выглянула в сени.
– Пане Иване, – окликнула она молодого пристава вполголоса, – по-польски разумеешь?
– Понимаю немного – недаром в Смоленске на вашем рубеже жил.
– А сам не говоришь?
– Не говорю.
– А хочешь, я научу тебя?.. Только ты будь нам добрым «стружем» (сторожем), и мне, и панне царевой, и пану воеводе.
– Зачем мне ваша польская речь? Наша православная лучше вашей… Лучше ты сама, панна Зося, учись нашей речи…
– Пожалуй, и я по-вашему буду учиться… Только ты будь добрый, не строгий, и если я что-нибудь попрошу тебя, то уж непременно исполни!
И она, прячась за дверью, с кокетливой улыбкой заглядывала ему в очи.
Иван Михайлович готов был прямо брякнуть ей в ответ: «Приказывай, голубка, на все для тебя готов!» Но вместо этой безумной речи сказал только отрывисто:
– Мало ли ты чего запросишь! Я тоже – царский слуга и человек подначальный.
И он поспешно отступил от двери, заслышав сзади себя чьи-то шаги в сенях.
Но Зося, перекинувшаяся с ним немногими ласковыми речами, уже засела у него в сердце и не выходила из головы.
«Словно жемчужинка окатная, куда хошь поверни – везде хороша! – думал юноша, вглядываясь в вечерний сумрак, окутывавший углы сеней легкой мглою. – Красавица писаная! Вот так и стоит передо мной как наяву! Наважденье сущее! Как для нее не сделать?.. Что ни попроси…»
На другой день Зося уже кивнула «пану Ивану» головкой, как старая знакомая, и раза три-четыре высовывалась из двери, чтобы поболтать с молодым приставом на своем смешанном русско-польском языке.
– Я пана сразу признала! – сказала она наконец Ивану Михайловичу. – Только посмотрела в щелочку двери, кто тут по коридору ходит, – и сейчас признала, что я уж вас видела.
– Где же меня панна Зося видела? – с некоторым смущением спросил юноша.
– Там, на улице, перед нашей старой тюрьмой… Пане Иване забежал против ворот и все на меня смотрел, и когда нас посадили и повезли – все за нами шел и все на меня глядел… Я так смеялась с подругами: глаза большие, большие сделал – и все глядел…
Иван Михайлович покраснел как маков цвет и не знал, что сказать.
– А я знаю, почему так пане Иване на меня глядел? – плутовато заметила Зося.
– Ну… скажи… коли знаешь! – с некоторой досадой отозвался Иван Михайлович.
– Смотрел на меня потому, что не знал, куда глаза девать! – рассмеялась Зося в глаза молодому приставу и захлопнула дверь.
Иван Михайлович круто отвернулся от двери и прошептал про себя:
– Бес девка! От нее не скроешься, не ухоронишься! Знает сама – какова… Наваждение сущее, прости Господи! Буду просить, чтобы Алексей Степанович взял меня отсюда… А не то…
Как раз в это время Степурин вышел из приемной Мнишек и, обратясь к Ивану Михайловичу, сказал:
– Мне надо отлучиться к дьяку государеву с докладом… Ты без меня за старшого здесь остаешься… Смотри же, ухо востро держи и дозирай везде!
– Будь покоен… Присмотрю…
И ни полусловом не обмолвился о Зосе, которая постепенно овладевала всеми его желаниями и помыслами, всем существом его…
– Батюшка, Иван Михайлович! – окликнул его полушепотом стрелецкий голова, показываясь на крыльце сеней и маня его к себе рукою.
Иван Михайлович подошел к нему.
– Чего тебе?
– Неладно ребята заприметили! У полонянников, у сына воеводского да у челяди его, обсылки есть с кем-то в городе… Бродят там какие-то около тына, а полонянники под самый тын подходят, переговариваются с ними.
– Ну, чего же тут зевать? Прикажи стрельцам, Чтобы не подпускали к тыну, а тех, что за тыном бродят, поймать или бока намять, чтоб напредки неповадно было…
– Слушаем, батюшка Иван Михайлович, – ответил голова и мигом спустился вниз, чтобы отдать приказание стрельцам.
Несколько минут спустя из-за двери послышались крики и перебранка, и громкий голос головы, который кричал своей команде:
– Становись вдоль тына! К тыну никого не подпущай… А слова не послушают – силой гони!
Шум, крики и перебранка между стрельцами и воеводскою челядью еще продолжались, когда дверь скрипнула и на пороге ее показалась Зося.
На этот раз она уже не пряталась за дверь и прямо подозвала к себе «пана Ивана».
– Что там за гвалт? Пан воевода и наияснейшая панна Марина перетревожились, они уж думают, что ваши москали опять затеяли что-нибудь злое против нас, бедных.
– Пусть не тревожатся они, панна Зося! – поспешил ее успокоить Иван Михайлович. – Никому никакого зла не сделаем… Я только велел их от забора поотогнать…
– Ох, какой недобрый, какой недобрый! Ну зачем было отгонять?.. Прикажите скорее послать сюда из воеводской свиты пана Здрольского, чтобы успокоить моих господ.
– Не могу того дозволить, панна! – нерешительно ответил Иван Михайлович. – К вам наверх никого не приказано пускать!
– Как? Никого? Быть не может! Мой коханый, мой голубчик, пане Иване! Пошлите за ним… за паном Здрольским… я вас так прошу, так прошу…
И она ласково, заискивающим взором смотрела ему в глаза; она положила ему свою нежную белую руку на плечо и все упрашивала, все упрашивала…
Иван Михайлович встряхнул наконец кудрями и сказал:
– Ин быть по-твоему!
И послал стрельца за Здрольским.
Через несколько минут приземистый и дюжий, усатый и чубатый пан Здрольский преважно прошел мимо Ивана Михайловича и скрылся за дверью приемной Мнишков. Юноша хотел было последовать за ними, чтобы присутствовать при беседе пана Здрольского с паном воеводой, но очаровательная Зося показалась на пороге своей комнаты и, пугливо озираясь, вышла в сени, окутанная какой-то верхнею одеждой с длинными висячими рукавами. Само собой разумеется, что и пан Здрольский, и пан воевода, и дьячий наказ, и предостережения Степурина – все разом вылетело из головы юноши. Он прямо пошел навстречу Зосе.
– Благодарю, – сказала лукавая панна, ласково взглядывая в пламенные очи Ивана Михайловича, – ты будешь ко мне добр… и я к тебе буду добренькая, пане Иване… и я тебя не забуду.
– Мне ничего от тебя не нужно! – резко отозвался юноша. – Меня не купишь…
– Ах, что ты, пане Иване! Я не о том и говорю… И чем могла бы я тебя купить? Я такая бедная!.. Я могу отплатить тебе только лаской.
Пан Иван вдруг крепко схватил Зосю за руку; рука его дрожала… Дрожь слышалась и в голосе, когда он произнес, искоса поглядывая на Зосю:
– Ты шутить со мною изволишь, панна! Играешь, как кошка с мышкой…
– Ах, не жми так больно руку… О медведь московский! – с притворной досадой проговорила Зося, вырывая свою руку. – Беда, если увидит кто-нибудь из наших…
И она быстро очутилась на пороге своей двери и проговорила скороговоркой:
– А назавтра, когда твой пан начальник уйдет, я попрошу тебя, чтобы ты того же пана Здрольского отправил на базар (дай ему, пожалуй, в провожатые стрельца), купить для пана воеводы и для панны Марины сластей и разной живности… А то им ваша кухня так противна.
– На базар! Да что ты, панна Зося? Я о том и помыслить не смею… Сама ты посуди!
– Пане Иване! Если ты исполнишь мою просьбу, ты этим мне так угодишь, так угодишь, что я готова тебя за это расцеловать! Да! Да! Вот – слово гонору [13]13
Чести ( польск.)
[Закрыть]тебе даю…
И прежде чем он собрался ей ответить, она легко и грациозно послала ему рукою поцелуй и исчезла – за дверью.
– Не девка, а чертовка какая-то, прости Господи! – шептал между тем озадаченный Иван Михайлович, окончательно потерявший голову.






