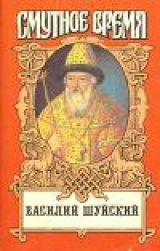
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
– Перед тобою его высочество! Кланяйся!
Болотников растерялся, и руки распахнутые девать некуда. Как-то присел, головою дернул, но Петр не сплоховал, сграбастал Ивана Исаевича, расцеловал. Оба войска и горожане возликовали, видя такую любовь своих вождей.
После молебна князь Шаховской собирался развести «царевича» с гетманом, но «царевич» зыркнул на боярина лютым взором и увел Ивана Исаевича к себе, никого боле не пригласив.
За столом жаловался:
– Надоели мне баре! С хорошим человеком хочу пить и гулять.
Болотников собирался поглядеть крепость, запасы хлеба, пороха, само войско «царевича», но уступил. Робел перед Петром: царская кровь завораживала.
Когда остались наедине, «царевич» вдруг сказал:
– Пить будем крепкое, а закусывать солеными грибами да салом с хлебом, по-казацки.
Ивану Исаевичу польстило желание их высочества, поддакнул:
– Тогда уж и лук вели подать!
– Без лука что за питье! – обрадовался Петр. – Сразу видно: свой ты человек. За брата бы тебя держал!
Пили из братины.
– Первым ты изволь, – начал рядиться гетман.
– Царей, что ли, уважаешь?
Иван Исаевич не мог понять, куда клонит «царевич», чего хочет. Сказал, глядя перед собой:
– Истинного царя не стало, и жизни не стало: кругом война. Уважаю истинного царя!
– А казаков уважаешь? Плохо ли казаку, когда война? – «Царевич» обнял гетмана, взял братину, поднес к самым его губам: – Пей! Мы с тобой столько войны понаделаем, вовек не кончится, на радость казакам.
У Болотникова дрогнули уголки губ.
– Казаки – не Россия. Да и казаку домой хочется.
– Ну и ладно! – охотно согласился «царевич». – Это я говорил, чтоб тебе угодить, казаку. Мне-то что? Я – царевич. – И, придвинувшись, шепнул Ивану Исаевичу в самое ухо: – Давай бояр перебьем! Они заводчики измены. Кабы не добрые люди, в пеленках бы меня отравили. Спасибо мамкам! Подложили матушке моей царице Ирине девчонку Федосью. Да и Федосья долго не нажила. Годунов отравил бедняжку. – И вдруг рассмеялся, расцеловал Ивана Исаевича: – Выпьем за праведную жизнь! Иной раз вранье до того опостылет! Опохмелить себя не позволяю. Лопнет башка – и черт с ней!
Пили, грибками хрустели. Друг на друга поглядывали приятельски.
– А брат-то мой двоюродный, он-то хоть истинный? – спросил мимоходом Петр, а сам даже дыхание притаил.
Болотников ответил тотчас, «спроста»:
– В царской одежде был! И печать у Дмитрия Иоанновича большая, царская.
– Так это и я в царской одежде! – «Царевич» Петр захохотал и, входя в раж, принялся скидывать кафтан. Остался в нижней рубахе. – Теперь признаешь во мне царскую стать и царскую кровь?
– Признаю. – Иван Исаевич и глазом не моргнул.
– Дурак, – сказал ему «царевич». – Все вы дураки.
Хватил вина, закусывал луковицей, макая в соль. Глаза залило слезами.
– Ух, злодей! Ух, горюч! Казацкая еда.
Наполнил братину, поднес Болотникову:
– Пей!
Иван Исаевич выпил.
Петр наполнил другую:
– Пей!
Иван Исаевич и эту выпил.
– Молодец! – похвалил Петр. – А теперь слушай пьяную правду, – Погрозил пальцем: – Пьяную! Про то не забывай. Меня в «царевичи» на Тереке избрали. Сначала хотели астраханцу Митьке поклониться, да он отбрехнулся: на Москве не бывал, обычаев царских ни на мал золотник не ведает, в грамоте не силен. Тогда все ко мне и поворотились. Я в Москве с полгода жил. У воеводы служил, у Елагина. Стать у меня подходящая. Видал, как выступаю? Ногами-то не топ-топ, не шлеп-шлеп – по-государски несу свое величество.
Иван Исаевич сидел опустив голову. «Царевич» сердито толкнул его в плечо:
– Пей! – И вытаращился по-кошачьи. – А чем они, природные цари, царее? Чем? Миром помазаны? Да я на свою башку целый горшок этого мира вылил. Казаки сыскали, я и вылил. Чем они царей хотя бы тебя, простого казака? Не ты от Шуйского, а он от тебя в осаде сидел!
– Нужно за Дмитрием Иоанновичем верного человека послать, – строго сказал Болотников.
– Зачем он тебе, Дмитрий Иоаннович? Живем не тужим.
– Истинный царь принесет России очищение от худой кривды.
– Нет их, чистых! Нет их! И никогда не было! – взъярился «царевич». – Ивашка Грозный тоже царь подставной. Уж я-то знаю! На Тереке все знают! Истинным царем был Кудеяр, старший брат Ивашки. То боярские ковы. Подмена. Потому Ивашка и резал их, предателей, и огнем жег. Все изменники! Или ты мало на них нагляделся?
Иван Исаевич печально поник отяжелевшей головой. Он и впрямь нагляделся на измену.
– Краше казаков во всем свете никого нет! – надрывая глотку, закричал «царевич». Для ушей Шаховского кричал, позлить.
Иван Исаевич, однако, не согласился:
– Есть такие, что казаков лучше.
– Кто же?
– Пахари. Народ.
– Чего себя дуришь? Эти тоже изменники, – отмахнулся «царевич». – Ты за них головы своей не щадишь, а попадись – выручать не побегут, не почешутся. Уж я-то знаю.
Иван Исаевич совершенно озадачился.
– Зачем же ты меня принял? Зачем воюешь? Чего тебе надобно?
– Потому и принял, что в «царевичах» лучше, чем в казаках. Оттого и казаковал, что не я с той поры жил, как пуганая ворона, – меня боялись. Наперед-то я надолго не заглядываю. Нынче жизнь сладкая, и слава Богу. До блевотины буду жрать и пить! До усёру!
И принялся сквернословить. Каждое мерзкое слово выкрикивал отдельно, словно эха дожидался.
– Смотри, как по-царски-то живут! Эй! Боярыни!
И явились тут юницы. И поил их «царевич» Петр допьяна. И сорвали они с себя одежды и плясали ярее, чем в аду. И растелешили «царевича», и к Ивану Исаевичу подступались, но он не дался.
– Дурак! – сказал ему Петр. – Эй, боярыни-девки! Любите меня, что мо́чи в вас есть.
Пошло дело совсем непристойное, и казак не стерпел, дал блудливой отроковице под зад и ушел.
У себя в палатах окатился холодной водой. Позвал умного атамана Заруцкого. Сказал ему с глазу на глаз:
– Возьми, Иван Мартыныч, денег из казны, сколько тебе надобно. Две сотни, пять сотен. Возьми лучших коней, казаков человек с десять. И уже завтра езжай в польскую землю. Найди, где бы он ни был, государя Дмитрия Иоанновича. Расскажи о нас, грешных, о том, что бьемся за него, истинного царя, день и ночь, не на жизнь – на смерть. И Москву бы давно взяли, если бы приехал он в войско. В ноги поклонись, плачем плачь, но привези государя. Иначе мы, и победивши Шуйского, не победим, не будет покою в русских пределах, покуда в Москве не водрузится истинный, природный царь.
Заруцкий глядел на гетмана преданно, голову кручинил, усы книзу гладил. Поверил Иван Исаевич глазам атамана, его думе на чистом челе, его упрямому загривку.
Этот привезет государя!
…В первую тульскую ночь приснилась Болотникову матушка. Она стояла на крыльце и что-то говорила ему. И он знал: в материнских словах его спасение, да не мог ни слова разобрать. Удивился. Матушка на крыльце, а он только что с крыльца сошел, почему же слова не долетают? Пригляделся, а ему, Ивашечке, что у крыльца, всего-то годков с десять. Поглядел на себя – матерый казак. Матушка руку ко рту приложила, кричит в голос, предупреждает, уговаривает. Но где же ее услышать через такую даль, через двадцать лет. Потянулся Иван Исаевич к тому парнишечке у крыльца – руки коротки. И заплакал: «Не услышал матушку, пропаду!»
– Господи, да пробудись же ты!
Над ним, толкая в плечо, стоял «царевич».
– Спит, как дитя, а на него Шуйский идет! – И такой кошачий страх метался в глазах Петра, что Иван Исаевич совсем проснулся.
– Где он, Шуйский? Сколько его?
– Где – не знаю! Небось уж близко! Под Алексином был. А войск у него сто тыщ и боле. А еще полки у него под Серпуховом. И с теми полками Скопин. А еще к нему пришел касимовский хан Ураз со многими татарами. То ведь конница.
– Погоди, умоюсь!
Помолодевший, вея родниковым холодом, гетман вернулся к Петру таким бодрым и радостным, что тот головой завертел, ища в дверях казаков: схватят и повезут на откуп Шуйскому.
– Дозволь на Терек утечь, – опустив глаза, попросился «царевич».
– Бог с тобой! – воскликнул Болотников. – Удача сама к нам в руки идет, а у тебя вон что в голове.
– Сто тысяч… удача?
– Сто тысяч! – ликовал Болотников. – Если в поле сто тысяч, то сколько их, тысяч-то, осталось в Москве? Они сюда, а мы – туда. Эх, матушкины бы слова расслышать!
«Царевич» Петр только глазами хлопал.
– Ты, видно, воистину большой воевода.
– Был бы самозваным, в первом же бою распознали бы.
Впервые надерзил их высочеству Иван Исаевич. За трусость наказал.
36
Война вернула в дом Буйносовых мужчин. Братья Марьи Петровны служили в малых неблизких городах, служили бы и служили, но государь позвал их на Болотникова, и оба они пролили кровь.
Иван Петрович сразился за царскую честь под Каширой, на реке Восме. Ему посекли правое плечо, три ребра с правого боку, но, слава Богу, нутра не повредили. Царев доктор Вазмер запретил Ивану Петровичу вставать с постели, а тот и рад был полежать, поужасать рассказами о ратном своем радении.
Каширский полк боярина Андрея Васильевича Голицына, в котором служил князь Иван, спас Москву от воровского воеводы князя Андрея Телятевского. Не устои Голицын, и царь Шуйский остался бы со своими ста тысячами в поле, а в Москве бы сели «бояре» Петрушки.
Посылая Телятевского в обход царской стотысячной громады, Болотников, чтобы не дать воеводам Шуйского поворотить, вышел из Тулы и сразился с ними на реке Вороньей. Задумано было по-казацки хитро, но на этот раз Бог не попустил погибели государя и России. Вор Андрей Телятевский уж готов был праздновать победу, но случилась измена. Четыре тысячи ратников ударили по своим, и стройное войско рассыпалось на глазах у изумленных каширцев. Современник тех событий изменником назвал тульского воеводу Телятина. Уж не сам ли это князь Телятевский, устрашась будущего, переметнулся вдруг на сторону царя? Шуйский перешедшим к нему прощал все обиды и прежние измены, да еще и награждал – чинами, поместьями.
Померкла и звезда Болотникова. Едва с половиною войска укрылся он за стенами Тулы. Но и эта битая половина была немалая – за двадцать тысяч.
Младший брат Марьи Петровны князь Юрий как раз и был на реке Вороньей. Людям он не показывался и ранами погордиться никак не мог. Свинцовая дробь из пушчонки побила ему спину. И ладно бы бежал от врагов, так нет – попятившихся товарищей своих останавливал.
Всего полсловечка и услышала Марья Петровна от брата Юрия.
– Три дня вор Ивашка на нас ломил, да сам и сломался.
Может, оттого, что помалкивал, и болел шибче. У постели же князя Ивана вся Москва, кажется, душу отвела.
– Стояли мы с первого часа дня до пятого, – сказывал Иван Петрович. – Послал Бог против казаков стоять. Боярина и без кареты, без толпы холопов разглядишь, по природной стати, а казака – по его злобе. В миру казак такой же человек, на войне же он колдун и оборотень. Сам видел: скачет, уставя на тебя пику, – и вот уж их двое.
– Ба-тюш-ки! – изумлялись слушатели.
– Двое! Один с пикою, как скакал, а другой уж с саблею. Один призрак, а другой человек. На призрака выступишь, человек-то и поразит тебя тотчас.
Слушательницы, переживавшие чужой ужас, как свой, всхлипывали.
– А который же казак?
– Угадать никак нельзя. Осенишь себя крестным знамением – и Господи помилуй!
Иван Петрович умолкал, и всем было понятно и даже видно – то лютые боли подступили к герою. Иные княгини и боярыни, расхрабрясь, лоб от испарины отирали – сначала князю, потом себе.
– Андрей Телятевский – вор, но воевода прехрабрый. Когда стали мы его теснить, послал он за реку за Восму тысячи две казаков. Сели они в буераке и палят нам в затылки из ружей. Кого пожелают, того и убьют. Вот и говорю я Прокопию Петровичу: «Что делать? У меня пятерых уж нет и скоро всех не станет». А он – гроза-человек – глянул на меня, казака не хуже: «Не хочешь быть убитым, врагов бей!»
– А кто ж он – Прокопий Петрович? – спрашивали слушатели, напрягая память.
– Рязанец Ляпунов!
– Уж не тот ли самый, что с Болотниковым и стоял под Москвой?
– Тот и есть. Пожалован государем в думные дворяне.
– Господи! – не без сомнения в голосе, не без страха восклицали слушатели и слушательницы.
– Прокопий Петрович – слову своему надежный слуга! – с верой успокаивал князь Иван. – Поднял он нас, и пошли мы за реку, на большой воровской полк!.. Вот сабля моя!
Саблю князь Иван в постели у себя держал. Вытянув из ножен здоровой левой рукой и переложа в правую, чуть приподнимал клинком вверх, ужасно морщась от боли, страдая и приводя в страдание и в слезы нежные сердца.
– Побили мы Телятевского. Так побили, что в живых остались те, кто без памяти бежал. Белая сабля моя в той сече черна стала. Хуже змеи черна.
– От крови?! – закатывали глаза княгини помоложе.
– Да ведь от крови и есть! – говорил князь Иван и целовал клинок. – Работница моя и спасительница!
Княгини и боярыни, хлопоча, вынимали из рук Ивана Петровича саблю, засовывали кое-как в ножны и садились еще слушать, о ранах.
– То уж на закате приключилось, – хмурился князь Иван. – Пошли мы стеной на воров. Только и они храбрецы! Тоже стеною стали. Я скачу, и на меня скачет. Казак!
– Ахти! – вырывалось всякий раз у слушательниц.
– Глаза у него… как у сатанинского коня. А пасть у казацкого коня – все равно что волчья. С клыками.
– С клыками?! – помирали почти боярыни и княгини. – Да ведь их двое стало?
– Нет! – говорил правду князь Иван. – Этот один был… Уж не знаю. Может… забыл раздвоиться, а может, на коня своего понадеялся. Сущий волк! Хватил моего коня за глотку и грызет. Я из седла вон. И не знаю как, одним Божиим промыслом, очутился у них за спиною. И саблей по казаку. Тот и разъехался надвое. По обеим сторонам седла пополз. Разинул рот, а меня пикою в ребра! Товарищ того казака угостил.
Князь Иван замолкал, набирая воздуха в грудь. Слушатели сидели, затая дыхание, уж совсем не живы.
– Больше не помню. – Князь Иван опасливо, чтоб раны не разошлись, переводил дыхание и вдруг взглядывал слушателям в самые их глаза. – Как голову не смахнули? По шее метили, да я плечом загородился. Вот и жив.
Марья Петровна хоть и слышала эту историю уж, может, и в семидесятый раз, но слез и жалости у нее не убывало, в три ручья плакала. И многие плакали. Редко кто хоть слезинки не проронил. Но мужчины никогда не забывали еще спросить:
– А с казаками, которые в буераке сидели, что сталось?
– Два дня с ними бились. Посылали к ним дородных и славных людей говорить им, чтоб ударили челом государю Василию Ивановичу. У них же один был ответ – из ружей. Сдались, когда свинец и порох истратили. За это их упрямство и за их злодейство – уж очень многих поубивали среди нас – посекли до смерти. Семь человек только не тронули по заступничеству дворян-нижегородцев. Петрушка-вор тех дворян на Волге поймал, хотел в воду кинуть, а те семеро не дали. – Иван Петрович откидывался на подушки и, прикрывая глаза, договаривал: – Я про то, как Телятевского тридцать верст гнали, и про казаков из буерака от слуг своих знаю. Сам-то в те поры без памяти лежал.
Слушатели благодарно вздыхали, крестили Ивана Петровича и на цыпочках шли прочь из горницы, давая покой герою.
37
Глядя на высокие стены Тулы, на ее башни, государь пожаловался брату Ивану:
– Русские города у русских же людей берем с бою. А этот возьмем ли? Не умеют воеводы городов имать.
Иван Иванович, услышав этакое, запыхтел, побагровел, и только его кругленький нос остался белым. Как отморозило.
– Прикажи, государь, и возьму!
– Пуговка! – закричал Василий Иванович на брата, уж очень, очень озлясь. – Недаром так все и говорят про тебя – Пуговка! Ступай с глаз моих!
В великой тоске пребывал государь. Вор и самозванец, присвоивший имя Дмитрия Иоанновича, сыскался-таки и уже в поход выступил. Все повторялось, как в годуновское наваждение. Крестьяне бежали от хозяев, казачьи ватаги являлись с диких рек. Города отворяли ворота и подносили «Дмитрию Иоанновичу» хлеб-соль. Не верилось, что присягают города вору по недомыслию, по святому неведенью. То была радостная ненависть к нему, к Шуйскому. И посочувствовал Годунову. Позднехонько. Нет, не страшился Василий Иванович новой польской затеи. Москва доподлинно знает, что первый вор мертв. Убит, зарыт, выкопан, сожжен, из пушки развеян…
– Ах, Пуговка, Пуговка! – твердил гневно Василий Иванович, а в голове зияла жерлом пушка, та, что прахом-то выпалила.
Ужас объял Василия Ивановича. Неужто все устроено? Кто удумал всю эту причуду – из пушки прахом палить? Престранная причуда. Зело не русская.
Силился вспомнить, кто мысль подал, кто первым додумался, не Иван же Иванович – Пуговка преглупая! Иван Иванович распоряжался. Но потом.
Был бы мертвец на погосте, все бы знали – вот она могила. Вот он где Вор лежит. Но могилы нет, гроба нет, тела нет. И было ли?.. Коли ничего нет…
На границу против отрядов Самозванца Василий Иванович послал Литвина-Мосальского. Тот встал под Козельском, который чуть не первым присягнул «Дмитрию Иоанновичу».
«Не замечать бы его вовсе!» – подумалось Василию Ивановичу.
Раздосадовало его глупое бахвальство брата, но от видения той пушечки, того жерла черного он вздрагивал в ужасе. Не замечать бы Вора лучше всего, но пришлось отбивать Лихвии, Белев, Волхов, Крапивну, Одоев, Гремячий… Пришлось Брянск сжечь: колоколами встретили вора.
Ничтожный обманщик с ничтожными силами может ободрить и Калугу, где сидят воровские войска, и Тулу. Болотников, воспрянув духом, сам нападет. Воевода хитроумный, лютый. Один Скопин ему ровня, да и тот чрез меру опаслив.
До того сделалось тошно, что оцепенел. Пропади все пропадом. В цари ему нужно было единственно ради Бориса Годунова. Ради одной ненависти. Теперь вот и сам всеми ненавидим. Черная туча зависти со всех сторон облегла. Полной мерой черпнул из той неизреченной тайны, которая есть, была и пребудет вовек сутью русского самодержавия. И тайна эта – ни с чем не сравнимая мука одиночества и стояние над пропастью. А в пропасти худо. У беды и у тюрьмы есть край. Самодержец и этой привилегией обойден. Высший смысл царствования – служение крови.
Не цари творят времена, но времена царей. Не Годунов ли был умен, не Годунов ли был щедр, не Годунов ли видел на два аршина сквозь землю и на сто лет вперед? Потому и содеял злодейства. Хотел само будущее исправить, чтобы и оно было по его уму, к пользе династии, народа и всего царства. Да у судьбы свои жернова, своя мельница. Все ухищрения Годунова, вся ложь тончайшего злого ума, все казни, убийства, ссылки, чародейство, наука, развратное доносительство и святейшие порывы отдать страдающим людям амбары и казну хоть до последнего опустошения; ласки, посулы, награды, возвышения умных и нужных, восторги из-за моря, победы без войны, войны без крови – ничто не прибавило династии не только дня, но и мгновения.
А тут и наследника нет! Жены нет! Ради братца Дмитрия расстараться, ради его жены, взятой из Малютиного гнезда, ради Катерины Григорьевны, за грехи батюшки – бездетной? Ради Ваньки Пуговки?
Не впервой посещали Шуйского такие мысли. Но мысль – не жизнь. Жизнь попроще. Вздохнулось и забылось. Так и на этот раз вздохнулось и перешло на самое насущное.
По стенам Тулы – семь башен, в кремле с надвратными – девять, шесть башен в монастыре Иоанна Предтечи. Годунов и тут оказал недобрую услугу, подновил стены в 1601 году. Все в Туле крепко и мощно. От безнадежности голова так болела, что еще немного – и трещины пойдут.
– Господи! – взмолился царь. – Человеком крепость устроена. Значит, и несовершенна, как сам человек. Надоумь, Господи!
38
Семь башен на стенах, девять в кремле, монастырь Предтечи тоже второй кремль. Во всех башнях пушки поставлены. Было бы вдоволь съестных припасов, можно хоть три года сидеть. Иван Исаевич Болотников, казачий гетман и большой воевода государя Дмитрия Иоанновича, посчитывал башни, томясь недобрым предчувствием. Все прочно, все надежно, но пороховая бочка тоже прочна и надежна, покуда фитиль не запалили.
От Заруцкого ни слуху ни духу, но царь Дмитрий объявился. Однако ж не поспешает к Туле. А ведь явись он нынче – возле Шуйского останутся одни его братья. Но завтра, может, и поздно будет.
Кликнул атамана Федора Нагибу.
– Собирай охотников. Ударим через Крапивенские ворота.
– Опять через Крапивенские? Ты сегодня два раза был на вылазках. И все через Крапивенские.
– Пусть думают, что мы имеем корысть к Крапивенской дороге. А нам и надо – замучить дворянские полки. Они терпение взаймы у царя берут. Кончится их терпение, и осаде конец. Давай хитрей сделаем. Ты выходи через Крапивенские с конницей, а я с пешими ударю из Абрамовой щели на Никольскую слободу.
Пошла потеха! Крапивенские ворота отворились. Поскакали казаки как раз на полк Ивана Никитича Романова. Дворяне, озверев от ярости – за день у них побили человек с двести, – бросились всей силой на казаков, а те обозначили нападение – и прочь, прочь в нарочитом беспорядке. Подвели преследователей под стены, под пушки. И посмеиваются со стен.
Ратные люди полка Скопина-Шуйского, стоявшие в Никольской слободе на речке Ржавец, потянулись на помощь соседям. Этого только и ждал Болотников. Бросился с полутысячей на окопы. Убили двух-трех, но многих ранили, а напугали всех. Пушку в реке утопили, унесли с собою десять ружей, угнали с дюжину овец, подожгли, отступая, бочонок пороха. Вылазка получилась легкой, удачной, но Иван Исаевич насупился еще более, чем с утра, сказал атаману Нагибе:
– Сослужи, брат, еще одну службу. Возьми побольше казаков и доставь ко мне князя Шаховского. Заупрямится – силой тащи.
Шаховского привели, но Иван Исаевич, видно, перегорел, говорил с князем с глазу на глаз, усталый, пожелтев лицом:
– Скажи мне правду, Григорий Петрович, зачем ты народ смутил? Нет его, царя Дмитрия Иоанновича. В Москве убит!
Ждал в ответ гневного княжеского рыка, но Шаховской струсил и принялся врать хуже холопа:
– Я как все. Сказали – спасся, я и рад был, что спасся.
– Но где он, спасенный? Ты же признал его!.. Где он?!
– Да в Козельске или в Брянске. Пришел, воюет.
– Но зачем ему, истинному государю, по окраинным городам мыкаться? Шел бы к Туле, в единочасье Шуйский будет гол как сокол… Твой Дмитрий Иоаннович и вправду, знать, вор!
– То слова несносные! – крикнул Шаховской, но вяло крикнул, глаза бегали, на толстых щеках бисером выступил пот.
– Свара у вас, у бояр, а Россия в крови по колено… В тюрьме твое место, князь Григорий Петрович. – Болотников отворил дверь и позвал Нагибу: – Найди князю подземелье потемней.
– Меня?! Боярина Петра Федоровича?! В подземелье?!
– Ради тебя стараюсь, – усмехнулся Болотников. – Узнают казаки про твои враки – тотчас на пики посадят.
…Воевать страшно, да не соскучишься. Скучно мира ждать, когда нигде этого мира нет. Уж осень на дворе, а государь все под Тулой стоит.
Марья Петровна много раз принималась считать деньки. Скажет себе: «Конец войне на Петра и Павла» – и считает. Петр и Павел миновали. Считает до дня равноапостольной княгини Ольги, а там до Бориса и Глеба, до Смоленской иконы Божией Матери, до Преображения, до Успения…
Под Новый год, 31 августа, сама ходила в соборный Успенский храм за огнем. Несла, ручкою прикрывая, а внутри вся трясмя тряслась. Загадка: донесет огонь до дома, до божницы, быть ей женою Василия Ивановича; не донесет, не убережет от ветра или от чего еще – пропала жизнь.
Донесла! Поставила в лампаду. И уж так плакала, что Платонида трижды ее умывала, окропляла святой водой, а потом, не зная, что и делать, напоила крепким вином. Уснула Марья Петровна с мученической улыбкой на устах, а пробудилась уж в полдень, веселая, ласковая.
Велела нищих звать, сто человек, и кормить так, как гостей кормят. Сама чары носила, сама пирогами одаривала. Один нищий за угощение-то и утешил.
– Был я в городе Стародубе. Объявился там ныне государь Дмитрий Иоаннович. Одни люди говорят – не похож на царя, на жида похож, а другие говорят – истинный государь. Атаман Иван Мартынович Заруцкой служил Дмитрию Иоанновичу и в походах, и в Москве. Он признал государя.
Ничего не сказала Марья Петровна на такие слова. Ушла в свою горницу, запустила прялку и пряла шерсть до самого темна. А темно стало – при свече пряла. Богу на ночь не молилась, спать легла с глазами сухими, сказала Платониде без вздоха:
– Не на радость родилась я на белый свет. Будто в черном облаке живу.
39
Длинные серые языки воды тянулись и тянулись к стенам Тулы. Шуйский глядел на потопление города с высокого берега Упы.
– Теперь Болотников лапки-то подымет, как заяц в половодье, – сказал воевода боярин Василий Петрович Морозов – в последнюю неделю его полку уж очень приходилось лихо от казачьих вылазок.
– А как мыслишь, сколько он еще просидит? – спросил государь.
– С неделю! – высунулся Пуговка.
Василий Иванович только глянул в его сторону.
– Дошла водица! Дошла! Конец ворам! – чуть не уронил шапку и по-ребячьи радостно закричал боярин Зюзин.
– Вот я и спрашиваю: сколько Вор просидит в потопленном городе? – Государь снова посмотрел на дородного Морозова.
– Вылазок уж не будет, но и нам под стены не подойти… Боюсь, как бы до белых мух не достоялись мы тут.
– До белых мух никак нельзя! – твердо и сердито сказал государь. – Ударят морозы, вода замерзнет, спадет… Войско устало, дворяне домой хотят.
– Все устали, государь, – сказал Морозов.
Придворные согласно промолчали, один Иван Иванович не утерпел – Пуговка.
– Честь тебе и слава, великий царь! Ни пушек не слыхать, ни ружей. Тишина. По государевой твоей воле на воров река двинулась. Сама матушка русская земля твою сторону взяла, государь.
Сказано было с хвальбою, но не так уж и глупо.
– За Ивана Сумина сына Кровкова каждый день молюсь. – Царь перекрестился. – Когда по его совету собрал я мельников, многие из вас ухмылялись.
– Тот же Михайла Васильевич Скопин! – проворно вставил Пуговка.
– Михайла – преславный воевода, да молод. Ему подавай сражение. Я рад, что крови уж боле не прольется на горькую нашу землю.
– Ты, государь, Кровкову послал бы со своего царского стола осетра да кубок, – не унимался Пуговка.
– Вот это добрый совет. Любить такого государя, как я, – добра не только себе, но и потомкам своим желать. За всякую добрую службу награда у меня скорая и справедливая.
– Истинно! – подхватил Зюзин. – Тебя, великий государь, любить прибыльно.
– Шуйские все такие. Мудрые нижегородцы давно смекнули про это. Оттого и богатеют. – Царя понесло не хуже Пуговки, но тотчас спохватился, перевел разговор на дело: – Сегодня же пошли в город лазутчиков., Пусть туляки поднесут нам Петрушку с Ивашкой, как гусей жареных подносят. А Кровкова я нынче же для наград великих царских к себе в шатер позову. Чтоб все знали, сколь прибыльно быть с Шуйским заодно.
…В назначенный час сел Василий Иванович на позлащенный стул с двуглавою птицей на спинке – бояре и воеводы на лавках по правую и левую руку, – чуть насупился, принимая вид царя-воителя, и стал ждать своего героя. Кровков был на плотине. Ратники, исполняя царский приказ, все еще возили свою дань, предложенную муромцем: по мешку земли с человека. Плотину поднимали, подкрепляли и, главное, охраняли…
Пока Кровкова привезли, пока научили, где ему стоять, что отвечать, царь чуть вздремнул.
И вот наконец, сверкая панцирями, вошли в шатер воины, а Шуйский, взволновавшись, позабыл вдруг приготовленные слова и даже саму суть, о чем надлежало говорить. В панике завертел головой – так курицы красноглазые башкой крутят ради куриной своей бестолочи. Скорей, скорей махнул хранителю царского венца. Тот изумился, ибо чин приема героя был расписан иначе, но послушно водрузил царскую шапку на царскую голову. А с шапкою на голове царь должен молчать: его устами становится думный дьяк.
В шатре пошло тотчас какое-то движение, и Василий Иванович, щуря подслеповатые глаза, силился разглядеть Кровкова. Он говорил с ним прежде. И теперь вроде узнавал, но этот Кровков совершенно переменился, стал черняв, кудряв, ростом поднялся… Грудь как щит…
– Посол от его величества Дмитрия Иоанновича! – пролепетал, кланяясь и кланяясь, дьяк Андрей Иванов.
– Я от северских городов к тебе, самозваному царю, пришел! – громовым голосом объявил тот, кого царь принял за Кровкова. – Возьми-ка вот письмо от Стародуба и прочих крепостей. А на словах я тебе так скажу: ты сам есть злобная измена. От тебя все напасти русские… Страшись! Коли не уступишь ворованный престол природному государю и великому князю всея Русии Дмитрию Иоанновичу, то мы, всею Россией ополчась, схватим тебя и казним лютой казнью. За все страдания Русской земли будем поджаривать тебя на вертеле, как быка, который в хозяйстве уж совсем не годен, а годен лишь для утробы.
Было так тихо в шатре, что каждое слово било по головам, будто таран в стену.
Взоры устремились в пол, но уши поднялись не хуже ослиных: каков ответ будет и будет ли?
Шуйский дал знак, сняли шапку. Спросил дьяка Иванова:
– Точно ли, что посол пришел от северских городов?
– От северских, великий государь.
– Какая у нас конница застоялась без дела, татарская?
– Татарская и черемисская, великий государь.
– Пусть идут и грабят, сколько есть охоты. И жгут! И в полон берут для продажи. И убивают, коли будут им противиться. Ты слышал? – спросил Шуйский северского дворянина.
– Слышал! – засмеялся тот. – Руссках-то боишься послать для расправы. Знаешь, что уйдут от тебя, изменника. Да и теперь многие уходят. И отсюда все скоро уйдут.
– Тебе о том уж не узнать! – Гнев перехлестнул лицо Шуйского страшными морщинами. – Испытай ту самую казнь, которую пожелал Божьему помазаннику.
Дворянин закатился смехом:
– Так я и знал, и все теперь узнают. Овцой притворяешься, а сам волк… Жги! Все равно ты передо мной бессилен, государюшко-воришка. Я умираю за истинного русского царя, а за тебя и братья твои голов своих не отдадут. Пожалеют. Уж больно ты на гниду похож, пузырь чесучий. – Щелкнул ногтем о ноготь.
К наглецу подбежала стража, поволокла из шатра. Дьяк Иванов приблизился к государю:
– Куда его?
– На вертел.
– По правде?
Рука Шуйского затряслась, схватился за посох. Дьяк отлетел от царского места, как воробышек от кошки.
Приторный, сладкий запах человеческого мяса сводил бояр с ума. Иные бегали блевать, иные не успевали…
Шуйский глядел на казнь до конца, покуда человек не стал пеплом.
40
На плотах, в корытах для стирки и для кормления свиней плыли к соборной площади тульчане.
Закипели с паперти страстные речи:
– Не хотим утонуть неведомо за кого. Где он, царь Дмитрий?
– Изголодались!
– Хоронить мертвых куда? В воду? Так они же всплывут!
Болотников, слушая речи, шепнул Федору Нагибе:
– Приведи скорее Шаховского. Пусть он и держит ответ.
Речи становились все опаснее. Крикунов сменили люди смелые, умные.






