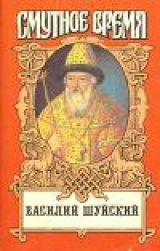
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
VIII
Луч надежды
На другой же день Степурин сдержал свое слово: он допустил к Марине ее духовника, каноника Зюлковского, который приехал в Ярославль из Москвы, где он ютился около задержанного Шуйским польского посольства.
Когда почтенный каноник в своем белом таларе, с крестом и четками в руках вошел в приемную Мнишков, он застал там Марину и ее постоянных двух спутниц – панну Гербуртову и Зосю. Они обе вскочили с мест и бросились целовать руки Зюлковскому, который, перебирая четки, читал вполголоса какую-то молитву. Марина также хотела пойти ему навстречу; она медленно поднялась со своего места, переступила два шага и уже не могла идти далее; мертвенная, прозрачная бледность покрыла ее лицо, ее колени подгибались, и она должна была опереться на стол…
Ксендз Зюлковский подбежал к ней, очень ловко подхватил ее под руки и за талию и поспешил усадить в кресло. Затем, как человек опытный во всяких женских треволнениях, он вынул из кармана какой-то флакончик, дал его Марине понюхать и поспешил ее успокоить, не ожидая ее вопроса.
– Наияснейшая панна царева, – вкрадчиво и мягко произнес он, – попросите кого-нибудь постеречь за дверьми, чтобы нас не подслушали лишние уши. Не скрою, что я должен вам наедине сообщить важные и радостные вести…
Марина обратилась к своим спутницам, указала им дверь направо и сказала Зосе:
– Ступай за двери и сторожи…
Иезуит, оставшись наедине с Мариной, придвинул стул поближе к ее креслу и, оглянувшись еще раз кругом, сказал ей тихо, чуть слышно:
– Я видел наияснейшего пана, супруга вашего, и он удостоил меня чести повелеть передать вам свой поклон и привет…
При этих шепотом произнесенных словах иезуита Марина потеряла всякое самообладание: глаза ее загорелись, брови сдвинулись, она нетерпеливо выпрямилась на своем кресле и резко перебила иезуита:
– Ах, что вы говорите мне об этих пустых поклонах и вежливостях!.. Мне не то нужно! Вы мне скажите, жив ли он? Жив ли мой муж, мой царь московский, мой повелитель? Помнит ли он свою Марину?.. Скажите, что он, очень изменился?..
Иезуит сложил набожно руки и поднял глаза к небу:
– Я готов поклясться наияснейшей панне, что видел точно царя московского Дмитрия, сохраненного Богом для ее счастья и величия и на радость всем москалям… Но должен сказать, что он очень, очень изменился… Быть может, от тревог, быть может, от тоски по своей супруге, которую он до сих пор еще не мог избавить от плена как добрый рыцарь…
Марина закрыла лицо своими прекрасными руками и горячо, страстно произнесла как бы про себя:
– О! Как бы мне хотелось поскорее его увидеть!.. Поскорее быть с ним!.. Поскорее прижать его к моему сердцу!
– То же самое слышал я и от вашего супруга-царя; он даже хотел потребовать, чтобы московский узурпатор Василий Шуйский немедленно вернул ему законную супругу, но, опасаясь за вас и вашего родителя, решился принять новые меры.
– Какие же? Говорите скорее! Я должна все знать!
– Он разослал повсюду грамоты, во все порубежные города, в приказал всех поляков, которых повезут из Москвы, задерживать. А так как он услышал, что Шуйский вскоре хочет отпустить вас и вашего батюшку вместе с польскими послами, то он решился вооруженной рукой вас отбивать от тех, кто станет вас провожать к пределам Польши…
– Ах! Наконец-то! – прошептала Марина, прижимая руки к груди. – Наконец-то я его увижу!.. Я буду снова царицей, не пленницей…
По счастью, она не успела заметить того взгляда, который бросил на нее иезуит при этих словах, не успела заметить и того проблеска лукавой улыбки, который скользнул по его устам.
– Это еще не все, – начал было почтенный ксендз Зюлковский, – я и еще вам должен сообщить, что…
Но сообщить ему не удалось, потому что раздался торопливый стук в дверь и в приемную вбежала Зося, которая поспешно проговорила Марине:
– Ваш батюшка жалует сюда, да как сердит… как гневен!..
Через минуту двери распахнулись настежь, и пан воевода Сендомирский, поддерживаемый под руки неизменным своим собеседником паном Корсаком и юношей-пахолком, вошел в приемную.
Пан воевода чувствовал приближение припадка хорошо знакомой ему подагры и потому изволил гневаться на весь свет. Бросив равнодушный взгляд на ксендза Зюлковского, Мнишек, едва лишь опустился в кресло, разразился целым потоком ругательств и на москалей, и на сейм Речи Посполитой, и на тех поляков, которые «теперь решаются служить в войске у этого…».
Но воевода не успел еще договорить, как ксендз Зюлковский подскочил к нему и весьма внушительно шепнул ему на ухо:
– Пан воевода! Прошу вас выслать ваших людей, – есть важные вести…
– Э-э! То вшистко [16]16
Все ( польск.).
[Закрыть]одно! Говорите и при них… Мне уж надоели эти тайны – тши тысенци дьяблов!.. Что вы можете мне там еще сказать путного? – нетерпеливо крикнул воевода.
– Отец! – строго заметила Марина. – Ты держишь себя, как ребенок! Вышли немедленно людей и слушай, что тебе скажет…
Когда все вышли, иезуит Зюлковский, сунув руку за пазуху, вынул оттуда письмо с большой, привешанной к нему восковой печатью и показал его воеводе:
– Письмо к пану воеводе от его зятя, наияснейшего пана цесаря Дмитрия московского…
И, почтительно поклонившись Мнишку, иезуит положил ему письмо на колени.
Мнишек, не раздвигая сердито нахмуренных бровей, развернул письмо и стал было читать его, но не дочитав даже и до половины, он с гневом и ругательствами бросил его на стол и вскричал громко:
– Все ложь! Все вранье! Все химеры – черт бы их побрал! Не верю!
Тут уж и ксендз Зюлковский стал терять терпение.
– Высокоименитый пан воевода! – сказал он твердо и громко. – Могу только удивляться тому, что при вашем высоком и обширном уме, при вашем… вашем высоком положении у вас так много легкомыслия и малодушия, что вы даже не хотите всмотреться в суть дела, не хотите рассудить…
– Не хочу рассудить! Это вам, попам, рассуждать пристойно, а не мне, палатину и воеводе! Когда я, черт побери, вон уже два года, раньше смерти попал в чистилище и здесь вынужден жить без всяких удобств, питаться тем, что жрут эти московские собаки!..
– Да позвольте же, пан воевода! Вы сами теперь отказываетесь от вашего счастья и счастья вашей дочери! У вас одно только на уме: как бы поскорее вернуться в Самбор, чтобы успокоиться и отдохнуть. Но не забудьте, что вас ждут там кредиторы, ждет целый рой ваших приятелей с сожалениями и соболезнованиями, ждет сейм, который потребует у вас отчета в ваших действиях!.. А тут сам пан цесарь московский, который на днях разгромит последнее войско московское, который через неделю будет вновь на престоле, предлагает вам вместо Самбора пожаловать к нему в лагерь, в Тушино, и хочет вознаградить вас за все убытки, хочет вернуть своей супруге ее несчетные богатства и утвердить за вами все прежде обещанные вам права!.. А вы даже и письма его не хотите дочитать порядком до конца. Ну, в таком случае, могу вам только пожелать счастливого пути в Самбор!
И иезуит замолк и бросил на воеводу взгляд, полный холодного презрения.
– Да нет же, – залепетал струсивший Мнишек, – нет же!.. Я совсем не то хотел сказать… Я очень рад… Я благодарен наияснейшему пану зятю, но… Впрочем, это Тушино так близко! Кажется, тут же, около Москвы… Туда заехать нетрудно…
– Пан воевода ошибается, – заметил иезуит, – это и не так легко, и не так близко, и не так безопасно, как пан воевода предполагает. Вам и вашей дочери, конечно, москали не дозволят прямо отсюда ехать в Тушино… Нет! Но я все уж разузнал: вас скоро должны освободить и вызвать в Москву, и вот тогда-то, если вы мне доверитесь, я наверняка берусь доставить вас в объятия вашего пламенного супруга, панна Марина, а вас в объятия почтительного и щедрого зятя, пан воевода!
– Я согласна! – решительно произнесла Марина.
– Согласен и я, тши тысенци дьяблов! – подтвердил воевода, пожимая плечами и слащаво улыбаясь.
– Ну, в таком случае, – сказал иезуит, вынимая из-за пояса чернильницу, перо и сверток бумаги, – мы можем приступить к составлению ответного письма пану цесарю Дмитрию, и когда вы его подпишете, я растолкую вам мой план.
* * *
Вечером в этот день, когда луч надежды так ярко блеснул для Марины, Иван Михайлович, пасмурный и мрачный, сидел в темном углу сеней Марининых хором и выжидал, когда все уляжется и стихнет. Сегодня утром мимоходом Зося коснулась его плеча, велела подождать его под вечерок в сенях и добавила, убегая от его горячей ласки:
– Сегодня вечером скажу тебе такое словечко, что ты порадуешься!
«Посмотрим, чем порадует!.. А то один конец! – думал Иван Михайлович. – Если еще обманет, прикончу ее, чтоб другим не доставалась, а там уж суди меня Бог!.. Или уж убегу отсюда, в обители схоронюсь… что ли… Схиму на себя приму…»
Но легкий шорох и чуть слышный скрип половицы в сенях заставили встрепенуться будущего схимника.
– Пане Иване, ты здесь? – раздался шепот Зоси.
Юноша порывисто бросился ей навстречу.
– Ни, ни! Я только затем пришла, чтобы сказать, что завтра я у тебя в гостях… К тебе приду в избу, как обещала тебе давно…
Иван Михайлович бросился целовать ей руки. Зося оттолкнула его и отшатнулась в сторону.
– Завтра нацелуемся… Сколько хочешь!.. Мешать не буду, – шептала плутовка. – Тут же будешь ждать меня… Но только смотри: всех стрельцов, всех сторожей с этого конца двора прочь! Пусть лягут спать!.. Потом поставишь их, когда мы нацелуемся и разойдемся… Ну, прощай – до завтра!
IX
Бес попутал
Лукавая и сдержанная Зося недаром посулила Ивану Михайловичу такое счастье, которого он уж больше года тщетно ждал и добивался. Плутовка рассчитала очень верно и тонко.
Тотчас после того, как ксендз Зюлковский удалился, с Мариной произошло что-то необычайное. Она так оживилась, пришла в такое странное волнение, что Зося и панна Гербуртова были в изумлении. Всегда спокойная и сдержанная, Марина вдруг оживилась, покинула свое обычное место, стала быстрыми шагами ходить по комнате и в первый раз после начала своих невзгод выпустила из рук свой молитвенник. Перемолвившись со своими спутницами несколькими словами, Марина, даже улыбнулась чему-то, даже пошутила с панной Гербуртовой и затем приказала Зосе кликнуть пана Здрольского.
Верный шляхтич не замедлил явиться на зов и услыхал от Марины странные, нежданные речи.
– Пан Бронислав, – сказала ему с волнением Марина, – я не раз слыхала о том, что вы тяготитесь нашим пленом… нашей тюрьмой… что вы хотели даже бежать отсюда и готовились к побегу?..
– Совершенно верно, – как вы изволили говорить… готовился и все уже приготовил, да жалко было покинуть вас и пана воеводу…
– Благодарю за преданность. Но… но теперь мне нужно, чтобы вы бежали отсюда, и как можно скорее, хоть сегодня, хоть завтра ночью!.. И прямо отсюда бегите в Тушинский лагерь, под Москву, к супругу моему, царю московскому… Вы у него служили, и вы знаете его в лицо… вы повидаете его, скажете ему поклон мой и сейчас сюда дадите весть… о том, что вы найдете… что вы увидите!
Здрольский с недоумением посмотрел на Марину, которая смущалась и краснела, произнося эти слова.
– Но, дорогой пан Бронислав, помните… вы мне должны поклясться всеми святыми и честью вашей матери, что вы мне обо всем… что вы увидите… донесете без обмана!
– Клянусь сказать вам всю правду о том, что я увижу, услышу и узнаю в Тушинском лагере.
Когда он поднялся, то сказал, обращаясь к Марине:
– У нас давно уже решено, что шестеро из нас должны бежать к пану Дмитрию… Да только без вашей помощи нам не уйти отсюда… Панна Зося должна взять за бока своего поклонника, тогда нам можно будет перебраться с крыши своей избы на вашу крышу, миновать сторожевых стрельцов и прямо спуститься близ черных ворот, которые замкнуты ночью… Тут караула нет и перебраться через тын нетрудно…
– Хорошо, – сказала Марина. – Я Зосе прикажу, и уж она устроит…
* * *
Ни Алекеей Степанович, ни голова стрелецкий никак понять не могли, что сталось с Иваном Михайловичем. Вчера еще весь день до вечера ходил чернее ночи, а сегодня такой веселый, живой… Глаза горят, во всех движениях бодрость, с уст улыбка не сходит… Даже не ссорится ни с кем и на стрельцов не кричит и за плутнями головы не следит, не присматривается.
Сам Иван Михайлович не знал, как день ему убить. Принарядившись, готовясь к приему дорогой гостьи, часа за полтора до ужина он обошел все избы, развел сторожевых стрельцов по их местам и так хитро расставил их, что около его избы, близко стоявшей к черным воротам, и между его избой и Мариниными хоромами не оказалось ни одного сторожевого стрельца.
Затем он, будто для порядка, заглянул в сени Марининых хором; забившись в самый темный угол, он сел на обычном месте и замер в ожидании.
И вдруг его чуткий слух уловил в немой темноте какой-то чуть слышный шорох… Он приподнялся, дрожа всем телом от страсти и волнения, притаив дыхание и напрасно стараясь сдержать биение сердца, и когда Зося подошла к нему и положила руку на его плечо, он не мог ни говорить, ни думать, – он мог только крепко прижать ее к своей широкой, тяжело дышавшей груди.
– Пане Иване! – шепнула ему Зося, ускользая из его объятий. – Пойдем скорее… Здесь нас услышать могут.
И она потащила его за рукав из сеней на крыльцо, быстро и неслышно ступая перед ним по скрипучим половицам. Юноша послушно последовал за нею; но, когда дверь сеней отворилась и в лицо ему пахнул морозный воздух с надворья, он вдруг воспрянул. Страсть горячим ключом прилила к его сердцу, овладела его волей… Он разом схватил Зосю в охапку, как перышко поднял ее на своих сильных руках и огромными шагами, почти бегом, понес ее к своей избе через сугробы снега. Зося пыталась отбиваться, говорила что-то шепотом, о чем-то просила, даже укусила его за палец или за ухо, но он уже ничего не понимал, не соображал, не чувствовал… Он сознавал только, что несет в руках драгоценную ношу, которую нужно как можно бережнее и как можно скорее донести до порога своей избы, и мчал Зосю через двор, как дикий зверь мчит добычу к своей берлоге… Он даже не заметил, что в ту минуту, когда он, нагибаясь, вбежал в низкие сенцы своей избы, из-за угла ее выглянул и спрятался стороживший у его избы голова…
Вот наконец он с Зосей у себя, в теплой избе, вот он опустил ее на лавку, а сам опустился на колени около нее, все еще не разжимая своих тесных объятий.
И она старалась освободиться из его рук, плотно укутываясь в свою старенькую шубку.
– Оставь, а то не захочу и целовать тебя, не приласкаю! – грозила Зося, сама теряясь и увлекаясь горячею страстью юноши.
Юноша, напуганный угрозой, послушно разжал свои крепкие руки и положил горячую голову на колени девушки.
– Ну, вот так, вот… Ты хороший, ты послушный… Ты любишь Зосю – я это вижу, – говорила вполголоса девушка, перебирая руками густые кудри Ивана Михайловича. – Вот, видишь, ты мне все не верил, ты на меня сердился… А я пришла. И за то, что ты такой послушный, такой хороший, вот тебе…
Она быстро ухватила его голову обеими руками, приподняла ее и поцеловала его в лоб.
За этим поцелуем последовал другой, третий, и он, дрожавший, как в лихорадке, был так сдержан, так скромен. Он только сжимал ее руки и покрывал их поцелуями; он только шепотом молил ее, чтобы она дозволила ему поцеловать ее в уста сахарные.
– Ну хорошо… Только один раз – я ведь не люблю целоваться! – как будто нехотя согласилась наконец Зося.
– Один, один разочек! – чуть слышно шептал Иван Михайлович.
И их уста слились. И этому горячему, страстному поцелую конца не было. Он был «один», но в этом «одном» были сотни поцелуев, была целая буря страсти, которая охватила оба молодые существа, отуманила их головы, сплела их руки в неразрывном объятии. Зося позабыла даже о лукавстве, даже о самозащите и уже не отрывала своих уст от пламенных уст влюбленного юноши.
Сколько прошло времени с тех пор, как они забылись золотым сном любви, этого они не знали и не могли бы сказать; но пробуждение их было внезапно и страшно. Над самою их головой вдруг что-то грохнуло в крышу избы и грузно перекатилось по скату ее; потом еще и еще удар, и потом какая-то возня, борьба под окном, какой-то подавленный стон, опять борьба и громкое хрипение.
Иван Михайлович вдруг вырвался из объятий Зоси и вскочил на ноги.
– Что это? Душат кого-то? – проговорил он быстро, впопыхах хватая в темноте саблю со стены.
– Не выходи! Останься со мной!.. Мне страшно! – шептала Зося, судорожно хватая его за руку и привлекая к себе.
Но возня под окном продолжалась. Стон, более слабый, повторился еще раз.
Иван Михайлович рванулся от Зоси, которая за него цеплялась, стараясь удержать его, но не могла. Он вырвался и бросился из избы во двор.
В темноте в углу между воротами и избой он увидал, что какие-то три темные фигуры барахтаются на снегу, между тем как две другие, подставив стремянку к забору, перелезают через ворота.
– Кто тут? Что делаете? – крикнул Иван Михайлович, бросаясь к этим темным фигурам.
– По-мо-ги! – прохрипел знакомый голос человека, которого душили и вязали какие-то люди.
Иван Михайлович бросился на одного из них, схватил его за плечо и разом опрокинул на снег; пока тот поднимался, он схватил за шиворот другого, но в это мгновение что-то гладкое и холодное скользнуло сзади по шее Ивана Михайловича, кольнуло его над левою ключицей и вонзилось где-то глубоко-глубоко внутри… Он вскрикнул коротко, глухо простонал и опрокинулся навзничь, обливаясь обильной струей горячей крови, которая ключом била из сердца, проколотого предательским ножом.
– Прентко, прентко! Панове! Уцикамы! [17]17
Быстро… убегаем ( польск.).
[Закрыть]– раздались над головой Ивана Михайловича голоса, и трое поляков, бросив два трупа около избы, ринулись к стремянке, мигом взобрались на нее и один за другим перемахнули через ворота, уже слыша за собой голоса и шаги сторожевых стрельцов, встревоженных криком.
Когда несколько минут спустя люди с фонарями сбежались к избе, им представилось страшное зрелище: под окном избы лежал скрученный кушаками голова. Глаза его были широко раскрыты, рот искривлен, на шее была затянута мертвая петля. Немного далее лежал Иван Михайлович в широкой и темной луже крови, обильно напитавшей белый снег. Кровь еще лилась из широкой ножевой раны, но он был недвижим и бездыханен.
Двери избы были широко открыты в сени. Бросились в избу – и никого там не нашли… Изба была пуста. Только шапка Ивана Михайловича валялась среди пола.
Поднялась тревога. Забегали, засуетились, загалдели, принялись обыскивать весь двор. Но пока снарядили погоню, беглецы уже были далеко за Ярославлем.
X
Персона государева
Солнце, багрово-красное, обливая запад огненным заревом, близилось к закату, а жаркий июльский день приближался к концу, когда двое пешеходов, запыленных и усталых, подходили по Троицкой дороге к селу Братошину. Один из них был человек громадного роста и богатырского сложения, облеченный в холщовый подрясник, подпоясанный широким ремнем, и в широкополую, плетенную из соломы шляпу; другой был тщедушный человек средних лет, живой и юркий в движениях, одетый в потасканный кафтан и в колпаке, нахлобученном на самые брови. У обоих за плечами были немудрые, плетенные из бересты котомки, а на ногах онучи и лапти с оборами. Оба были, видимо, утомлены и тяжело переступали с ноги на ногу, отпечатывая на пыльной дороге свои решетчатые следы и грузно опираясь на клюки подорожные.
– Ой, смерть моя! Не дойти, кажется, будет… Сколько верст тут еще до Братошина-то, Ермилушка? – проговорил жалобно тщедушный пешеход, приостанавливаясь и оправляя на плече веревочную лямку от котомки.
– Ну, ну! Бодрись, Демьянушка! – пробасил в ответ ему поп Ермила. – Вон, коли глаз у тебя хорош – воззрись вдаль и увидишь, как на солнце искоркой горит крест от Братошинской церкви.
– Ну, видно, с тобой ничего не поделаешь. Айда, помахаем еще чуточку… пока не свалимся…
– Вот так-то лучше! Недаром ведь говорят: что вперед-то горе меньше заберет! Хе-хе-хе! Так ли, Демьянушка? – сказал ласково поп Ермила своему спутнику, слегка похлопав его своей тяжеловесной лапищей по плечу.
И оба путника с удвоенной энергией опять пустились шагать по дороге, бросая по ней длинные, протянувшиеся вдаль тени от солнца, медленно и величаво опускавшегося за ближний лес.
В то время как эти два путника с возложенным на них тайным поручением приближались к Братошину, в селе этом шла большая суматоха. Под вечер прибыл туда из Ярославля огромный поезд польских пленников под охраной стрелецкого отряда, предводимого царскими приставами. Сорок крестьянских телег и с полдюжины крытых колымаг, составляющих поезд, расположены были «гуляй-городком» на обширной поляне под самым селом, на берегу излучистой речки, исчезавшей в густых кустах ивняка, орешника и осины. Пленные поляки были размещены внутри города, а их подводчики и охрана расположились на лужайке около огней, на которых варилась пища, между тем как целый табун стреноженных коней, разбившись отдельными кучками, разбрелся кругом и мирно пощипывал сочную траву по бережку речки. Везде слышится смех и говор, то русский, то польский, везде мелькают в кустах люди, перекликаются голоса, слышатся плеск и взвизги купающихся. Между пленными поляками исключение сделано только для Марины и ее служни, да для самого пана воеводы с его приближенными. Хотя их везут и с «большим береженьем», но в то же время и «вольготно», то есть не особенно стесняя и доставляя им в пути возможные удобства. Поэтому пристав пана воеводы и его дочери, Алексей Степанович Степурин, распорядился отвести под постой Мнишков обширный и нарядный дом богатого братошинского попа, в котором отец и дочь разместились очень удобно, в избе-двойке, разделенной сенями.
Но все стражи, утомленные долгим и тягостным переездом по пыльной дороге, среди жары и духоты, все почти не ужинали и поспешили отправиться спать – кто в сенях, кто на сеновале… Одна только Марина не спит и не хочет спать, и не дает спать своей старой охмистрине, панне Гербуртовой. Она вышла на крылечко, которое ведет из сеней поповской избы в поповский огород, заросший густыми кустами малинника, крыжовника и смородины и высокими густыми душистыми травами. Усевшись на верхней ступени крылечка, Марина с наслаждением вдыхает прохладу, которой повеяло из сада после заката солнца. Панна Гербуртова села на три ступеньки ниже своей наияснейшей панны Марины и, видимо, очень недовольна прихотью своей госпожи: она посматривает кругом, нахохлившись, как птица, усевшаяся на насест, и изредка даже прищуривает глаза, невольно поддаваясь дремоте.
– Не надивлюсь на вас! Как это вы не устали сегодня за день? – говорит она Марине.
– Как я могу устать, – гордо и с достоинством произнесла Марина, – когда я знаю, что сегодня в полночь я получу весточку от пана супруга! В последнем письме он мне писал, что с верными людьми пришлет мне сюда сегодня такой подарок, которому я порадуюсь… И если бы мне пришлось ждать до рассвета – я буду ждать его послов!
– Да зачем же здесь? Зачем не в доме? Там нам приготовлены такие славные постели, набитые свежим душистым сеном.
– Ну да! Тебе бы только все спать – и поскорее в постель! А сама того не понимаешь, что там, с той стороны, никто к нам прийти не может… Там стрельцы и пристав наш… И если послы придут, то уж, конечно, отсюда через сад…
Охмистрина проворчала что-то себе под нос и опустила голову на руки.
– Ступай в дом и спи, коли ты не хочешь исполнять своей обязанности и решишься оставить меня здесь одну! – с досадой добавила Марина.
– Ах, что вы? Матка Боска! Разве я могу… разве я хочу вас покинуть! Да только уж и вы не прогневайтесь на меня, если я… вздремну… здесь… с дороги…
Марина посмотрела на нее с насмешливой улыбкой, пожала плечами и вся отдалась своим любимым мечтам… В ушах ее звучали пленительные звуки краковяка и мазурки, и в сумраке вечера перед нею порхали веселые пары танцующих, разряженных в яркие одежды и сотрясавших пол царских чертогов своей размашистой, бешеной пляской. А между тем все стихло кругом. Все погрузилось в глубокий сон – и люди, и природа… Тихо было и на земле, и в воздухе: ни ветерка, ни шелеста листьев! Вот где-то вдалеке прокричал первый петух… Ему откликнулся другой за рекою. И только окончили они свой привет в полуночи, как где-то жалобно прокричал филин.
Марина вздрогнула невольно и толкнула панну Гербуртову.
– Вставайте! Вставайте! Мне что-то страшно стало… Вот, посмотрите, что это белое там, между кустами…
Охмистрина, еще не вполне очнувшаяся от сладкой дремы, стала усиленно смотреть в кусты и рассмеялась…
– Чего же панна испугалась? – сказала она. – Да ведь это наша хозяйка, жена священника!
Действительно, через минуту к крылечку подошла попадья и с низким поклоном объявила «государыне Марине Юрьевне», что пришли к ней «послы от государя Дмитрия Ивановича» и хотят ее видеть.
– Вели сейчас, сейчас… Немедленно вели позвать их! – почти крикнула Марина охмистрине, быстро поднимаясь со своего места в величайшем волнении.
Охмистрина передала приказание попадье, которая тотчас бросилась в малинник, а через несколько минут вернулась оттуда, ведя за собою попа Ермилу с Демьянушкой. Оба эти «послы государевы» остановились шагов за двадцать не доходя до Марины, скинули шапки и поклонились ей в полпоклона; а затем Демьянушка порылся в своей котомке, вынул оттуда сверток письма, завернутого в зеленую тафту, и, подступая к Марине шагов на пять, отвесил ей земной поклон. А затем истово и твердо, хотя и вполголоса, произнес:
– От великого прирожденного государя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси тебе, великой государыне Марине Юрьевне, поклон и привет прислан, и эту грамоту тебе отдать приказано.
И он подал грамоту через охмистрину Марине, которая молча приняла ее с величием, достойным царицы, и уже собиралась идти в избу, чтобы поскорее прочесть полученное от мужа письмо, когда Демьянушка еще раз поклонился ей в землю и добавил:
– А еще тебе, великой государыне, и от великого государя Дмитрия Ивановича, оприч грамоты, прислан и дар многоценный – «персона государева». – И, повернувшись к попу Ермиле, он сделал ему условный знак рукою. Тот подошел не спеша, степенно и важно, и бережно вынул из котомки небольшой сверток за печатью.
Когда Марина взяла в руки этот сверток, она пришла в такое волнение, что уже не могла бороться с собою… Кивнув головою «послам» и приказав им обождать, она тихо перешла через крылечко и вошла в избу. Но едва только она переступила высокий порог и услышала, как дверь за нею захлопнулась, – она не выдержала и залилась слезами… Она бросилась к лампаде, горевшей в ее комнате, поспешно и порывисто зажгла свечу и, прежде чем читать письмо, вскрыла другой сверток, с «персоною». Каково же было ее изумление и восторг, когда она увидала перед собою портрет Дмитрия в воинском одеянии, прикрытом царственной мантией! Вдали, на открытом поле картины, был изображен воинский стан и герб московского царства.
В порыве восторга и невыразимого волнения Марина страстно прижала этот дорогой подарок к груди своей и, не выпуская его из рук, упала на колени…
– Матерь Божья! Дева Пречистая! – шептали ее уста. – Возврати, о, возврати моего дорогого, моего милого супруга!






