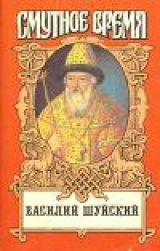
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Марья Петровна обернулась на этот глухой, на знакомый голос – Переляй! Сунул ей лист в руки, а уж потом тоже узнал. И в толпу, в толпу, глаз с княжны не спуская. Как в воду ушел, на дно.
21
Лист проклятый как прилип. В рукаве принесла, домой, утая от Луши. Такой страх объял – даже о Переляе молчок. Луша на князя Михайла протаращила глазки, не видела желанного.
Читала грамотку потаенно, положа на пяльцы, на вышивание. В грамотке ужасть!
«Боярские холопы! Друзья наши! Побивайте нещадно своих бояр. Кто убьет господина, тому даны будут господские вотчины и поместья, его жена и его дочери. Кто убьет гостя – тому все его имение и казна. До смерти бейте помыкавших вами, а прибивши, ступайте к нам. Мы вас всех пожалуем боярством и воеводством. Кто хочет в окольничьи, тот будет окольничим, кто хочет в дьяки, зная грамоту, тот будет дьяком».
Хватая ртом воздух, как рыбка, выброшенная на берег, Марья Петровна уж представляла себя рабою Переляя, насильство его гнусное. Смерть, кажется, за самые перси ухватила Переляевыми ручищами, а виденья прогнать силы недостает.
Наутро новость: царские слуги посадили на кол лазутчика, воровские письма по Москве метал.
«Переляй!»
Марья Петровна головку наклонила, будто нет ее дома, а сама хитрым-хитра: как по делам-то все разошлись – в чулан, белилами вымазалась, в простое нарядилась, к погорельцам, забредшим милостыню просить, бочком-бочком за ворота вышла – и на площадь, к страдальцу.
«Не он!»
Стала как без косточек, на ворох кулей рогожных села.
Страдалец, поднятый над толпою, кричал со своей смертной высоты проклятья:
– Придет царь! Придет Дмитрий Иоаннович! Всем вам будет то, что вы мне удружили! У бояр казаки все жилочки повытаскивают, повытянут! – И взвывал от невообразимой боли, и сыпал уж одними только ругательствами: – Сатаны! Гонители Христа! Сатана съест вас! Да снимите же вы меня! Господи! Пошли им то же! Сни-и-и-мите же вы меня! Телячье говно! Господи, отвернись от них! На веки вечные отвернись!
Марья Петровна глаз на казака не поднимала и ужасалась не казни, не словам казнимого, но радости своей: не Переляй! Не Переляй!
Ее легонько тронули за плечо. Татарин, улыбаясь, показывал на кули. Она поднялась, отряхнула платье. Шла неведомо куда и очутилась в церковке. Стала перед Матерью Божией, перед иконой Всех скорбящих радости, и плакала, сколько слез было. До донышка выплакалась.
22
В бесцветных, в подслеповатых, в крошечных глазках Василия Ивановича Шуйского явился вдруг кристалл и магнит. Светом полыхал тот кристалл, высокая воля проливалась на предстоящего пред великим государем всея Русии.
– Не войска сильны, и не воеводы умны, то промысел Господний. Господь наказует, Господь и милует!
Битый Истомой Пашковым, воевода боярин князь Федор Иванович Мстиславский явился пред государевы очи с душою сокрушенной. Измученная душа тело измучила: лицом сер, борода серая. И вдруг не казнят, не винят. Федор Иванович, как цапля, вытянул голову, подался вбок и вперед и замер, слушая удивительные слова государя. Но другие-то бояре, тоже битые, смотрели на Шуйского кто сычом, а кто и коршуном. Иван Никитич Романов, Иван Васильевич Голицын, Василий Петрович Морозов, Яков Васильевич Зюзин – воеводы, поразившие проворством бегства рязанских и веневских дворян, – ждали от унылого своего царя охов, криков, метаний, но увидели перед собою человека, во всем над ними превосходного, знающего, что будет и что будет по-его.
– Осада – не гибель, но смирение! – сказал Шуйский, позволив наглядеться на себя. И, поморив, сколько хотел, ожиданием своего слова, обратился к патриарху: – Святейший заступник наш кир Гермоген, молись о нас, и Бог возблагодарит нас, покорных ему, за смирение.
– Государь! – не сдержался Иван Романов. – У Ивашки-казака тысяч сто, а что у тебя? Кто за тебя? От кого нам ждать спасения? Откуда они возьмутся, наши избавители?
– Я велел затворить Москву не потому, что мне выставить против супостата некого. Коли бить, так всех разом. Пусть только соберутся поскорее.
– Государь, от нашего полка трети не осталось. У князя Михайлы Скопина тыщи три-четыре, ведь не больше?
– Князь Михайла Васильевич Ивашку Болотникова и с тремя тысячами прогнал от Пахры. Говорю вам: на все Божья воля! – И опять поворотился к патриарху, сказал ему, насупленному, ласково: – Те, что за стенами, что смерти нашей хотят, – дьяволом совращены. Они такие же русские, как все мы, такие же христиане. Молюсь о спасении их душ, и ты молись, святейший, ни на кого не сердуя. Господи, вразуми ослепленных и оглохших! Да прозреют, услышат, раскаются! Кровь отечества да не льется в междоусобии. Горькое наше питье, но мы чашу эту осушим до дна: не вечен гнев Господен.
– Такие слова написал бы ты, государь, мятежникам. Может, один из ста образумится, – сказал в сердцах Гермоген, не выносивший выжидательного бездействия.
– Что ж, напишем, – согласился государь и тотчас велел дьяку: – Составь краткое послание. Я, государь, терплю, жду от всех заблудших раскаянья. Я еще медлю истребить жалкий собор безумцев, но и моему долгому терпению есть предел.
– Государь, но какими силами ты погрозишь им? – снова спросил боярин Иван Романов. – Из Вятки вчера прибежал твой пристав. Хулят тебя на чем свет стоит. За царя Дмитрия заздравные чаши пьют.
– И в Перми тоже! – подтвердил Гермоген. – Да еще хуже! Между собою передрались. За тебя, государь, там меньше стоят, чем за окаянного Самозванца.
– Образумятся. В Твери архиепископ Феоктист твоими молитвами, святейший, развеял мятежников. Смоляне тоже молодцы. Воевода боярин Михайла Борисович, Шеин послал нам и стрельцов, и детей боярских, и дворян. Города Старица, Ржев, Вязьма, Зубов нам присягнули.
– И Дорогобуж, государь! И Серпейск! – подсказал брату Дмитрий Шуйский.
– Я послал в Астрахань к Шереметеву, чтоб вертался. Крюк-Колычев с князем Мезецким. Волок Ламский взяли. К брату моему Ивану со всех сторон приходят дворяне и всяких чинов честные люди. – Государь поглядел на строго сидящего князя Туренина и улыбнулся. – Собрал я вас, чтобы объявить осадным воеводой князя Туренина, а на вылазках у Серпуховских ворот стоять и на недруга ходить князю Скопину-Шуйскому. Об одном всех прошу – не гневите Бога ни хулами на судьбу, ни напрасными зовами о помощи. Помощь нам будет от Всевышнего за веру нашу, за правду. Измена и самозванство сами себя пожрут, как змея детенышей своих пожирает.
Оставшись один, царь взял Писание, открыл наугад и прочитал будто для него написанное:
«…Этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветует прежде, силен ли он с десятью тысячами противустать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире».
Поднял глаза выше, чтобы понять Слово о строителе, и прочитал о башне, которую, прежде чем строить, нужно сесть и вычислить издержки.
Думал ли он, что ожидает его на царстве? Все множество лет своих он считал и пересчитывал шаги, шажки, улыбки и прочие взоры, ведшие его к заветному месту. И вот встал он на гору, всеми видимую, поднятую над миром, с солнцем в изголовье. И, вставши, познал обман и призрак. И место, и царство, и сама жизнь на той горе – были марой и блазном. Не воссел, а пропал, не восшел, но сверзился. Гора-оборотень засосала его в пучину, и не солнце сияло над его головой, проливая во все стороны тепло и свет, то был мираж и ледяная глыба, и холод давил ему на темя, и плечи его содрогались от пронзающей тело и душу тьмы.
Он сидел в креслице самого Иоанна Васильевича, шуба на нем была невесома, глаза его покоились на огромных изумрудах в венце Богородицы. Он был первый в стране человек. Но ему было холодно, ему постоянно хотелось есть, ибо наложил на себя пост, и он был на своей горе, в яме своей, один как перст, и ни единое сердце не согревало его ответной радостью.
Свадьбу сыграть – нехорошо. Не ко времени.
– Господи! – взмолился Василий. – Всей вины моей – лгал. Но ведь царства ради! Ради Годунова, ради Дмитрия… Господи! Господи! Не казни за прошлое! Я правдой ныне живу. – И встрепенулся. – Власяницу надо наложить на себя.
Послал верного человека в Чудов монастырь. Нашли власяницу, принесли. Василий Иванович надел ее на голое тело, спрятал под царской одеждою. Да тело до того раззуделось, что хоть зубами скрипи. Промучился бессонно до заутрени, снял мучительную одежду подвижников и заснул коротким, но покойным сном. Пробудясь, вспомнил то, что Писание ему открыло: «Да ведь и впрямь надо к Болотникову умных людей послать. Коли умен, должен образумиться: тени Самозванца служит. Кто бы вот только вразумил?»
23
Большой воевода государя Дмитрия Иоанновича, казак и гетман Иван Исаевич Болотников сам глядел, как строят оборону кругом села Коломенского. У палки два конца, а у войны концов – что колючек на еже. Сегодня ты гонишь – завтра тебя погонят, сегодня ты в осаде – завтра сам на стенку полезешь.
Перед шанцами с глубокими ходами под землю, где можно было бы отсидеться от ядер и другого огненного боя, поставили в два ряда на попа телеги и сани, а пространство между ними забили соломой, взятой из стогов с полей, из овинов, с помещичьих гумен. Иные помещичьи дворы со всеми службами разобрали по бревнышку так, что чистое место осталось. Бревна шли на укрепления, на подземные каморы для солдатского житья.
Такой же городок выстроили казаки атамана Беззубцева в селе Заборье.
– Как морозы ударят, зальем водой. Такая будет крепость – ни пули, ни пушки не возьмут.
На высоте Иван Исаевич задержался, оглядывая местность.
– Здесь изгородь на аршин ниже надо ставить. Хорошее место для наших пушек.
– Может, лучше гору поднять? – предложили гетману пушкари. – Снега насыплет – низковата будет ледяная стенка.
– Не век нам тут сидеть. Нам Дмитрия Иоанновича дождаться. Но ставьте так, как разумеете. В малом оплошаешь – потеряешь большое.
Отвечал пушкарям скороговоркой, поглядывая на всадников, поспешавших к нему. Узнал Прокопия Ляпунова и Григория Сумбулова – рязанцев. По одной посадке только, как лошадей дергали, понял: сердиты, и очень.
Поехал навстречу, улыбаясь и уже издали крича им:
– То-то я вас поминал сегодня! Поехали ко мне, отобедаем. Уж ведь за полдень давно.
– Большой воевода! – начал сурово Ляпунов.
– А ты малый, что ли? А ну давай-ка померяемся, кто длиннее.
Спрыгнул с коня, бросая повод казаку. Народ тотчас окружил «начальство», глазел, радовался. Не прежние воеводы – новые, доступные. Хоть потрогай, хоть поговори. Ляпунов, смущенно озираясь, сошел с лошади, стал спиною к спине гетмана.
– Ни на волос никто! – объявили вымеряльщики.
– А ты говоришь – большой! – хохотал Болотников. – Ровня.
В хоромах, которые занимал большой воевода с сотней казаков, для гостей тотчас выставили вино, зажаренного барана, жареных гусей, кур… Прокопий и Григорий сумрачно упирались, но кругом было столько улыбок, привета и дружества, что в хитрости простых этих людей заподозрить никак было нельзя. И Сумбулов заулыбался в ответ, а Ляпунов в досаде схватил невесть зачем взявшуюся тут ступу и грохнул ею об пол:
– Гетман! Мы к тебе не на праздник. Ты сначала ответь, а потом поглядим, стоит ли нам за один стол садиться.
Болотников удивленно воззрился на ступу, а потом на Ляпунова.
– Прокопий, у меня с утра маковой росинки во рту не было. Если ты сыт, то не ешь, а я, брат, пожую. С голоду еще и отвечу что не так… Давай уж лучше поедим.
И, обняв обоих рязанцев за плечи, повел к столу и тотчас принялся есть и пить, одобрительно сияя глазищами и жестами призывая следовать своему примеру.
Прокопий, у которого ныло под ложечкой, покосился на Григория и взял курчонка. Куснул, а он горек, как осиновая кора. Стряпухи с усами, видно, желчь умудрились разлить. Сосед, казак с серьгою в ухе, все мигом понял, взял курчонка из рук Прокопия и кинул через голову собакам. А к Прокопию поднос придвинул с лебедем.
Хоть сердись на этих людей, хоть смерти им всем желай, но все они были искренние, как дети. Все у них было просто и от сердца – что Богу молиться, что усадьбы грабить.
Не успел Прокопий косточку от крыла обсосать, как в трапезную ввалилась толпа казаков, приведшая новых гостей. И каких! То были всяких чинов московские люди.
Болотников быстро вытер руки о скатерть и вышел из-за стола.
– Хороший гость всегда попадает к застолью. Не будем же перечить русскому обычаю – сначала преломим хлеб, а уж потом дадим волю речам.
– Мы преломим с тобою хлеб, казак Иван Болотников, – ответил гетману и воеводе седобородый мещанин, избранный ходатаем от плотников Скоргорода. – Но ты скажи наперед, зачем ты пришел, русский человек, под стольный русский град с пушками, с саблями? Со своими хлеб есть радость, но как с тобою сидеть за одним столом, когда ты, русский, проливаешь кровь русских же людей, сжигаешь русские города, оставляешь сиротами детей?
– Государь Дмитрий Иоаннович послал меня наказать изменников, я исполняю волю нашего государя.
– Так покажи нам скорее Дмитрия Иоанновича! – Старик присел, раскрыл руки, головой завертел. – Где он? Где? Мы падем к его ногам испросить прощения. Мы тотчас помчимся в город, чтобы отворить ворота. Мы принесем его, света нашего, в государевы палаты на руках и на место его высокое посадим.
Болотников потемнел лицом. Он сам того желал, чего московский плотник.
– Великий государь ныне в Польше. Его ужаснула измена народа, о благе которого он пекся денно и нощно.
– Мы всею душою привязаны к драгоценному Дмитрию Иоанновичу. Что же он не явится сам собою? Мы всем миром сыщем его врагов и спровадим их на тот свет.
– Среди бояр нет ни одного, чтоб не изменник. Побейте бояр, тогда мы соединимся без боя, и государь Дмитрий Иоаннович птицей прилетит в Москву. Я сам был у него. Это он словом и грамотою с царской печатью поставил меня большим воеводой и послал в Путивль.
– Царскую печать во время гиля украл Шаховской, князь-смутьян. И посылал тебя, Иван Исаевич, в Путивль не Дмитрий Иоаннович, а кто-то другой. Дмитрия Иоанновича в Кремле застрелили, и лежал он возле Лобного места три дня, всем напоказ.
Тут выступили иные из посланных, отстранили плотника и, поклонясь, сказали:
– Великий государь наш Василий Иванович Шуйский скорбит о смуте. Ратуя о мире и покое на Русской земле, он, великий государь, зовет тебя, славного полководца, прийти к нему, великому государю, на его государеву службу. Повелел он, великий государь, сказать тебе: будешь ты большим господином пресветлого царства Московского, ибо воинство у царя Василия в почете и во всяком бережении.
Речь говорил человек, одетый в крытую атласом шубу, говорил ясно, ласково. Окинул взором всех казаков и Ляпунова с Сумбуловым.
– То ко всем речь! Государь всех зовет к себе на службу.
Болотников огорчился так простодушно, так искренне, что Прокопий, не сводивший глаз с гетмана, и сам засовестился.
– Нет! – покачал головою Иван Исаевич. – Как же вы этакие слова-то говорите? Сами в измене по уши, и нас туда же! Не-ет! Я дал моему великому господину мое казацкое слово – положить за него жизнь. Казак две клятвы не дает… Одумайтесь, господа. Измена, сложась с изменой, добром ли обернется? Не хочу грозить зазря, но если вы сами не образумитесь, то тогда приду к вам я. На аркане приведу всех на путь истинный! Ждите, господа, скоро я буду у вас.
Наступила тихая минута.
Посольство вразнобой, неловко, всяк сам по себе, поклонилось, пошло к выходу. За столы москвичей уж не звали. Неловко за столом сидеть после этакого разговора.
Поднялись и Ляпунов с Сумбуловым.
– Идемте в мою камору, – сказал им Болотников и, взявши со стола лебяжью ножку, куснул, глотнул, запил квасом, еще куснул и, отирая руки о полы своей казацкой грубой одежды, пошел к себе, не оглядываясь, идут ли за ним или нет.
Комната гетмана была длинной, узкой. Пять окошек в ряд. Под окнами широкая, светлая, из березы, лавка. На полу ковер, подушки. Посреди ковра огромный татарский поднос. На подносе пиалы с орешками.
Гетман скинул у порога сапоги, прошел на середину комнаты, лег, подоткнув под бок одну из подушек. Черпнул горсть лущеных лесных орехов.
– Что стоите? – удивился на замешкавшихся рязанцев. – Сапоги неохота снимать? Проходите в сапогах. Сразу видно – не казаки.
– Да уж слава Богу, не казаки! – взъерепенился чуткий на обидное Прокопий.
– Я к вам как к своим, а нет, так и нет!
Встал, сбегал к порогу, сапоги натянул, вытащил из угла стол. К столу подвинул лавки.
– Атаманов звать или с глазу на глаз желаете?
– С глазу на глаз, – сказал Прокопий. – Мы думали и положили между собой: большим воеводой быть в войске Истоме Пашкову. Он дворянин в седьмом колене. Он побил Мстиславского, а тебя и Скопин-Шуйский с малым отрядом побил. Все дворянское ополчение за Истому Пашкова.
– Экий разговор выдумали! – удивился Болотников. – Государь мне дал власть. Как я ослушаюсь? Нет, господа! Не смею. Я же говорил давеча. На мне клятва. Придет государь в войско, скажет: «Истоме быть воеводой, а тебе, Ивашка, казаком в шанцах». Тотчас в шанцы пойду. Какая корысть Истоме быть ответчиком за всех? Воевода он умный, но с казаками да с крестьянскими ватагами ему не управиться. Вы уж скажите ему: пусть не спешит в первые. Москву возьмем, государь приедет, тут и посчитаетесь родами. Господи! О том ли голове болеть? Надо народ поднять в Москве, чтоб бояр побил, – тогда и войне конец.
– Зачем ты призываешь бить бояр и дворян? Грабить гостей? Зачем обещаешь всем грабителям и душегубам боярство? Возможно ли всем боярами быть? И зачем ты разоряешь помещичьи имения? Государю служишь, не разбойнику.
– Я казак, вольный человек. По мне, все должны быть людьми вольными и жить, как Бог посылает.
– Да кто же работать-то будет, коли все обоярятся?
– Да те, кто раньше сидел, ручки белые сложимши. Вы меня за дурака не держите, господа. Вольный крестьянин от земли не побежит, коли весь урожай будет его.
Ляпунов и Сумбулов переглянулись, встали.
– Такое тебе, гетман, наше слово: коли кто посмеет из твоих казаков разорять озорством помещичьи дворы, мы тех обидчиков добудем хоть из-под земли. И прикажи, гетман, пленных дворян не казнить и не мучить. Они слуги государя. Его руки. Татары из степи нагрянут, чем держать меч, коли вместо рук обрубки?
Сказал Ляпунов и пошел к двери. Болотников – стол в угол, лавки к стенам и опять на пол лег.
– Зря орешков не погрызли! – крикнул рязанцам вдогонку.
…Снег сыпал, будто вытряхивали из кулей муку. Конской гривы стало не видно.
– Не заехать бы к москалям! – сказал Сумбулов, останавливая лошадь.
– А я не прочь заехать. – Ляпунов натянул повод и, загораживая рукавицей лицо, пытался разглядеть дорогу. – Вот и зима… – Передернул плечами. – В Москву хочу, в тепло.
Сумбулов склонился с седла, лицом к лицу.
– Первым, кто приедет к царю Василию, будет награда, вторым – прощение, третьим – кнут и рваные ноздри.
– Награды в несчастье грех получать, кнута тоже не боюсь. Не дамся. – Тяжело, по-бычьи, Ляпунов покрутил головой. – Нет его, царя Дмитрия. Ивашку-казака на мякине провели.
– Но он верит. Он ведь был у Дмитрия Иоанновича.
– Мишка напялил на себя золотой татарский халат – вот и царь.
– Какой Мишка?
– Молчанов, собака. Был бы Дмитрий Иванович жив, разве сидел бы он в Кракове или еще где, когда войско под Москвой, когда Москве защищаться некем? Надурили нас!
Стременами зло, больно тронул коня и будто из-под жернова выехал – светло, бело, небо сияет.
Поскакали.
– Что это? – поднялся на стременах Прокопий.
Красная луговина расплывалась на белом. Подъехали ближе – тела с размозженными головами, исколотые животы… И все голые.
Не остановились.
– Видел? – спросил наконец Прокопий.
– Пленных порешили.
– Кто порешил – видел? Вилами порешили, дубьем. Крестьяне наши добрые всласть потрудились. Обобрали, как водится, и всех к Господу Богу – из-за сапог, из-за порток…
24
Царь и взаперти царствует…
Каждый день шли стычки у Скородума, там, где нынче Земляной вал, у Серпуховских ворот и особо кроваво у Данилова монастыря. Здесь на Москву налегал сам Болотников. Его ставка была в селе Коломенском. Шли стычки под Симоновым монастырем, по всему Замоскворечью. И все же Москва не была взята в кольцо. Ярославскую дорогу царские воеводы удерживали. Подвоза большого, однако, быть не могло, торговля нарушилась. Купцы отсиживались по своим городам. Стало голодно, но не до смерти. Царская Дума в те дни заседала без воевод.
По разумению разумных, занималась делом – в такую-то страсть! – немыслимым, пропащим.
– На Русском нашем царстве как не свихнуться! – друг перед дружкою жалели царя Василия Ивановича бояре, совсем не слушая дьяка: уж больно долго читал, и все мудрено.
Думе был предложен «Устав дел ратных». Да ведали россияне хитрости воинские, коими похваляются Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва. Противостоять силе силою и смыслу смыслом – вот что желал привить русскому воинству государь Василий Иванович Шуйский. Воевать не как Бог даст, не как кому погрезится, но по науке, ибо «ум человеческий вперен в науку». Без науки в нынешние времена не быть ни благосостоянию, ни славе государской. Наука побеждать врагов, хранить целость земли своей – есть первая наука. Она не царская тайна, но достояние всего российского воинства.
Повеселила Думу статья Устава, требующая от воеводы веселого лица для ободрения рати.
– Только нынче и улыбаться! Самое времечко!
Шуйский услышал смешки, встрепенулся, в остром лисьем личике его проступило волчье, белоглазое, беспомощное, но тотчас улыбнулся:
– Что? Лучше, когда царь улыбается? То-то! Улыбка стоит вдесятеро против злого крика. От улыбки воеводы у солдата грудь колесом. От крика же спина горбата. Ратник, боящийся своего воеводы, на врага идет с двойной боязнью. Где ж тут победить?
– Оттого ты и милуешь пленных? Наших режут, а мы милуем! – сказал, не подумав, Гермоген.
Государь изумился оплошке святейшего, поспешил на помощь:
– А мы милуем по твоим молитвам. Посеешь горе – и уберешь горе. Сегодня на Лобном месте прощение получили четверо. Но коль живы остались и на воле, завтра придут к нам уже сорок. На сорок рожен прибудет у вас и убудет у недруга.
– Ты, государь, добрый человек! Но враг доброту за слабость принимает, – сказал Гермоген, не пряча укоризны. – Чем ты добрей, тем больше у тебя врагов. Ты о будущем войске ныне печешься, а где оно, твое нынешнее войско?
Стало тихо в Думе. Шуйский сидел, склонив набочок голову. На лысом темени сиял солнечный зайчик. И всем чего-то погорчило. Экая нескладная русская жизнь! Перевелись великие государи. Сидуны на царском месте сидят. Сидуны.
Вдруг ветром колыхнуло замерший воздух. Двери растворились, в палату, к царскому месту, чуть не бегом устремился царев брат Дмитрий. Василий Иванович побледнел, встал, ожидая удара.
– Рязанские дворяне с Прокопкой Ляпуновым и с Гришкой Сумбуловым перешли к тебе, государь. Вину свою тебе принесли.
– Ляпунов? Прокопий? Рязанский дворянин?
У царя перехватило горло.
«Господи! Свершается милость твоя».
Вздрогнул, как проснулся. Оглядел Думу.
– Ляпунова жалую думным дворянином. Ибо думает. – И так победительно поглядел на бояр, словно Болотникова в пух и прах расколошматили.
25
Десять дней зализывал рану предводитель вольницы. Наступать, глядя за спину, – грудь прошибут. Только 26 ноября 1606 года Болотников решился перейти замерзшую Москву-реку и напасть на Рогожскую слободу. Истома Пашков со своим полком был послан замкнуть окружение Москвы на Ярославскую дорогу, взял село Красное и остановился. Наступила ночь.
На ледяном ветру хлопало пламя в кострах, хлопали факелы на московских стенах; еще один порыв – и огни царства шубников погаснут навеки.
В полночь к Болотникову привели человека. От самого Шуйского. Царь обещал имение и любой чин, хоть чин окольничего.
– Скажи ему, – ответил Иван Исаевич. – Буду в Москве не изменником, но победителем. То шубники по десять раз об одном и том же наперевыверт клянутся. У казака одна клятва. – И пожалел посланца: – Вот она, царская служба! Ночь не ночь – поезжай волку в пасть. Выпей-ка водки, служилый. Промерз на ветру.
И пришлось посланцу водки выпить: впрямь ведь волчья пасть.
Ближе к утру был у Болотникова еще один гонец, татарин касимовский, от Истомы Пашкова.
«Уступи первенство, гетман! – просил Истома. – Детям боярским стыдно слушать приказов простого казака».
– Далось ему первенство! – изумился Болотников. – Пусть войдет в Москву раньше меня – вот и первенство.
Поднялось солнце, пошли бойцы под стены московские. И первым Истома Пашков с жильцами, с боярскими детьми, с дворянами веневскими и прочими. Пошли, не обнажая сабель, опустив знамена.
– Измена!
Как пожаром обожгло. Заметались наступавшие, замешкались. Перешло к шубникам полтысячи из многих тысяч, но ведь все командиры.
– Измена! За спиной измена!
А в спину как раз и ударили. То прибыл на помощь царю полк стрельцов с Двины. Большая случилась кровь, большое замешательство. И плен, и повальное бегство.
Очнулись в Коломенском, за сверкающим ледяным тыном.
26
Переляй отделался раной. Легкой, но болезненной. Ему рассекли надвое мочку левого уха. К своему прибежал за утешением, к Неустрою. Тот рану промыл, порванные концы сложил, обмазал чесночной кашицей, залепил ухо сотовым воском с медом.
– Чего-нибудь да выйдет. Не отгниет ухо – и ладно.
У Неустроя была своя камора, под началом имел он полсотни добрых казаков. Переляю неможелось. Хотелось остаться в тепле, отоспаться по-человечески, но Неустрой дал ему горшок меда и стал одеваться.
– Я не знаю, где и голову-то нынче приклоню! – всполошился Переляй. – Наших половину побило, другие в плен пошли. Знобит меня, Неустрой.
– В этих хоромах живут те, кого Иван Исаевич в лицо знает.
– Я атаману знаком.
– Не умничай, – сказал неодобрительно Неустрой. – Раньше я казну в мешке носил, на плече. А нынче иное уж дело.
Взял связку ключей из-под подушки. Отомкнул чулан.
– Снимай свою рвань. Вон шуба волчья. Бери!
– Не смею! – испугался Переляй.
– Бери! Это тебе за пролитую кровь. – Достал из ларя залитую воском махотку. Раздавил закупорку. – Черпай, сколь в горсти уместится.
Переляй почерпнул.
– Золото?!
– За службу твою. Грамотки, чай, носил в Москву? Иные из тех, кто носил, на колу жизнь кончали. Твое… А теперь уходим.
Затворил чулан на замок и, огромный, тихий, как ночь, прошел мимо стражи и караулов, привел Переляя в деревушку соседнюю.
Зашли в крайний двор.
– Лошадь запряги в санки, в самые легкие, – сказал Неустрой хозяину избы, махонькому мужичку с понятливыми глазами.
В избе было чисто, тихо.
– Вот здесь и отоспишься.
Неустрой взял с противня черный сухарь, погрыз.
В избу вернулся хозяин, стал у порога.
Неустрой обнял Переляя:
– С Богом! Не поминай лихом!
– Да куда ж ты?
– Домой. Довольно с меня возле кубышки на цепи сидеть. Она вся в крови, казацкая кубышка.
– Как домой? – испугался Переляй.
Вспомнил о золоте за пазухой.
– Ты-то ведь сам-то… без него.
– Не заслужил. Ни чужой крови, ни своей не проливал. Ничего мне не надо. По-человечески жить хочу. По-прежнему.
– В холопах?
– Так Бог судил. И за то слава Ему. Мог бы собакой родиться.
Перекрестился и вышел. Заскрипел снег под санками. У Переляя кружилась голова, сон так и смаривал.
– На печку бы, – сказал он хозяину.
– Эй! – подал наконец голос крестьянин.
С печки по-воробьиному слетела стайка детишек мал мала меньше. Переляй ступил ногою на деревянную лесенку и бухнулся в теплое, в темное, в доброе, в детство свое позабытое. Плавал во сне, как по морю, но через поды, ветры, через сон беспробудный пахло ему хрусткими, крепкими черными сухарями.
27
Вся дворня сбежалась глядеть на колесника Неустроя. Явился, как о землю вдарился. Не было – и вот он! Одет хорошо, санки как пух. Кленовые, что ли? На лошади не пахать, не возить – на племя.
Поклонился Неустрой людям родненьким до земли.
– Братцы вы мои! – и заплакал.
Стоя на коленях в снегу, ждал господского верховного слова. И тут уж дворня плакала. Что будет? Что будет? Вышла Платонида, велела в покои идти.
Предстал Неустрой пред очи Марьи Петровны.
– Переляя видел? – спросила княжна, взглядывая на Лушу.
Обмер Неустрой. Ждал кнута, дыбы, ора бабьего.
– Нынче видел. Ухо ему задели пикой, мочку. Я подлечил.
– Так вот нынче и видел?! – изумилась Марья Петровна. – Да где же?
– В Коломенском…
– Господи! – ахнула Платонида. – В Коломенском-то супостат!
Неустрой вздохнул, опустился на колени.
– Дозволь, княжна, мне жить по-прежнему, в холопстве. Лошадь и санки не украл. Я у Болотникова кухонными делами ведал.
– У самого?! – изумилась Марья Петровна. – А каков он из себя?
– Высокий. Строгий. Вроде Переляя нашего. Я, госпожа моя, ни в чьей крови не виновен. Мое дело было – накормить, напоить, а как зима пришла, так еще печи натопить.
– А этот-то… сам-то… больно злой?
– За простых людей заступается. Дома-то он человек тихий. На вечернюю звезду любит глядеть.
– Ишь ты! – неодобрительно, но без злобы откликнулась Платонида. – А как тебя в Москву пустили?
– Нынче всем, кто уходит от Болотникова, свободный проход и воля. Царь милует.
– Как царь, так и мы! – сказала с гордостью, с радостью Марья Петровна и не удержалась: – Вот он каков, государь Василий Иванович. Никому от него зла нет.
– Великомилостив! Велико! – Неустрой вдарил лбом в пол и, проливая слезы, взмолился: – По-старому жить дозволь, госпожа великая! Смилуйся! Колесник я. Мне бы колеса гнуть.
– Ну так и гни себе! – согласилась Марья Петровна. – Милую! Царь милует, чего же нам-то не миловать? Милую.
«Какая жизнь разумная пошла! – душою обрадовался Неустрой. – Видно, впрямь царь Василий – добрый человек и мудрец».
28
Москва взбадривалась день ото дня.
Пришел хорошо вооруженный, большой числом полк смолян. Через сутки ржевский полк.
Дождавшись помощи, воевода Скопин-Шуйский со смолянами и ржевцами пошел на Коломенское. Он выступил 1 декабря, да так опасливо, что трех километров не одолел. 2 декабря поутру у деревни Котлы царские войска сошлись с отрядами Болотникова.
Русские с русскими! Те за царя, и эти за царя. Те за истинного, и эти за истинного. Но за двадцатилетним воеводой Скопиным-Шуйским, за спинами всех его воинов была Москва, патриаршее благословение, государство, а за бунтарями Болотникова – одни только тени. Тень доброго царя, тень не ведомой никому воли… Бог берег заблудших, но победы им не дал. Прибрал не больше тысячи, в плен же было взято больше двадцати тысяч.
– Все тюрьмы полны! – радостно сообщил царю его брат Дмитрий. – Остальных хоть на волю отпускай.







