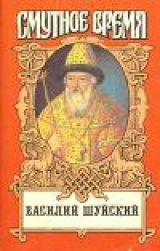
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
– К Ивашке Болотникову? – Василий Иванович поднял почти безволосые дужки бровей.
– А куда же их? Не в прорубь же?
Промолчал государь. Вздохнул и промолчал. И принялся усердно расспрашивать, куда Ивашка подевался, почему не изловили, много ли осталось смутьянов.
И узнал неприятное. Болотников с многочисленным еще войском укрылся в Коломенском. Приступом ледяной табор взять невозможно, пушки ни изгороди, ни осажденным большого вреда не приносят. В селе Заборье, в таком же ледяном таборе, казаки сидят, целый полк.
– Когда же конец этому? – спросил государь.
– Если хлеба у них много, то до весны усидят.
Закусил тонюсенькие губы Василий Иванович, забегал глазками.
…Загулял Неустрой. В казаках ни единой хмельной чаши не пригубил: чересчур забота была у него большая – собирать и хранить казну Дмитрия Иоанновича. А тут никому не должен, живи не тужи.
Захмелел Неустрой. Захмелев, разбахвалился:
– У меня в казне денег и шуб было больше, чем у Шуйского в кремлевских кладовых… Что за воеводы у царя? Саней с телегами разбросать не могут. А вот я ту ледяную заставу в два счета сожгу и развею!
От людской до покоев княжны сказка о похвальбе Неустроя долетела тотчас, быстрее сороки.
Марья Петровна в тот день была в радости. Государь, празднуя победу и избавление Москвы от осады, прислал ей пряничков на вишневом меду. Пряничек к пряничку! Все позлащенные, все в виде хищников: крылатые змеи, коршуны, львы, вепри. Луша больше про казачью казну толковала, но Марья Петровна, насторожа ушки, переспросила об ином:
– Не сказывал Неустрой, как он ледяные крепости в пепел пережигает?
– Не сказывал.
– Привести его ко мне под руки в батюшкины, в княжьи покои.
Властная сделалась Марья Петровна. Голоса княгини уж и не слыхать в доме, молодой голосок звенит.
Неустрой все еще был во хмелю. Увидев перед собою розовощекую княжну, расслюнявился, разулыбался.
– Великая княжна, госпожа наша! Ради твоего повеления хоть чего сжечь не жалко!
– Вот и поезжай к государю. Открой тайну чернокнижников проклятых!
Неустрой все еще улыбался, а его уже мчали в Кремль. На самый Верх подняли.
На Верху-то Неустрой опамятовался, но заупрямиться духу не хватило. К тому же голова на сорок косточек вот-вот расколется. Как все рассказал, так и опохмелиться поднесли. Опохмелив, наградили, как воеводу. Золотым на шапку. Кафтан дали, шубу из росомахи. Напоили опять допьяна.
Утром трезвон по Москве. Сожгли ледяную крепость! Между санями-то – солома. Еще как пылало! До неба дымы стояли.
Бежал Болотников со всеми своими тысячами гулящих людей, со всеми, кто желал воли и правды для себя и для Руси, до самого Серпухова бежал.
Неустрой как пробудился, как увидал свой золотой, да шубу, да кафтан, как вспомнил содеянное – княжне в ноги упал.
– Погубила ты мою душу, госпожа великая! Я по-человечески жить хотел, а как же теперь-то?
– Теперь как спаситель царства будешь жить, вольным дворянином.
Заплакал Неустрой, Марья Петровна тоже прослезилась от умиления.
– Не догадайся я тебя к царю послать, так бы и жил в холопах.
У царя хорошо дела пошли. Сгорело Коломенское, тотчас сдались казаки в селе Заборье. И не просто сдались – перешли на царскую службу. Казакам на радостях – еды, казакам – питья, а вот с пленными крестьянами обошлись плохо.
На Москве-реке пробили множество прорубей и пускали под лед тысячами, всех, кому не хватило места в тюрьмах.
Тихо плакали жалостливые москвичи. Заплачешь громко, как бы тоже не взяли под белые руки!
Неустрой перехватил Лушу на паперти, как с обедни шла.
– Пойдем-ка со мной, показать тебе потеху хочу.
Повел через Красную площадь, мимо храма Василия Блаженного, к реке.
– Какая тут нынче потеха? – струсила Луша.
– Не бойся, – сказал он ей, крепко беря за руку. – Не обижу.
Вышли на лед. Неустрой снял шапку с золотым – зависть всей холопской Москвы, – перекрестился на святые церкви.
– Скажи своей хозяйке, Луша, погубила она хорошего человека. Утопленники-лапотники – все братья мои, перед ними мне ответ держать на том свете. – Улыбнулся. – Ты, Луша, служить служи, да не заслуживайся, однако.
Натянул шапку по самые уши и шагнул в прорубь.
Был – и не стало.
29
В Серпухове Болотников просил горожан дать ответ по чести по совести: в достатке ли у них хлеба, можно ли сидеть в осаде до прихода великого государя Дмитрия Иоанновича?
Серпуховчане в глаза глядели, крест целовали истово: хлеба для стольких людей на три дня не хватит.
Недосуг было Ивану Исаевичу проверить лари серпуховчан, но коли не желают претерпеть осаду, значит, надо держаться подальше: крепкие стены – защита, да ведь и ловушка.
Приняла войско восставших Калуга. Хлеба здесь было много, да вот беда: стены деревянные и кремля нет.
Выбирать уж было некогда, по следу шло царское войско, ведомое Дмитрием Шуйским. Князь Дмитрий почитал себя за борзую, а пришлось зайцем быть. Побил его казак Иван Исаевич под Калугой, а потом догнал под Серпуховом и еще раз побил. Пошел на Болотникова другой царев брат, Иван Иванович, но родство с царем ума не прибавляет, а спесь последний умишко крадет. Много раз приступал Иван Иванович к Калуге, да все без толку.
Царь, торопясь покончить с поветрием самозванства, с неистовством народным, послал под Калугу огромное войско, все, что собрали в Москве и по городам. Повели полки боярин Мстиславский, Скопин-Шуйский, князь Татев.
Сам же Василий Иванович занялся утешением душ и сердец врачеванием. Средство тут одно – покаяние. Царь кается, народ ластится.
Колокольный звон собрал глазастую Москву на окраину, к обители святого Варсонотия. Бедные могилы Бориса Годунова, жены его Марьи Григорьевны и сына их Федора вскрыли. Гробы подняли на плечи и понесли в Троице-Сергиев монастырь. Инока Годунова несло двадцать иноков, убиенных Марью и Федора – бояре и сановники.
В последний раз явилась истории несчастная царевна Ксения, черная инокиня Ольга. Она ехала в карете, за гробами, и плач ее и стоны слышала вся Москва. И вся Москва ей подплакивала. На прошлое русские люди жалостны. Ну да задняя жалость, как и задний ум, все же лучше бесчувствия.
В ту ночь Василий Иванович пробудился от плача. Долго слушал тишину и никак не мог понять: кто плакал, где? И наконец сообразил: приснилось. Ксения плакала. Но тотчас и вспомнил сон: нет, не Ксения, то был иной голос, родной голос… Господи! Чей? Не шло на ум. Взмолился:
– О великий Боже! Наказуй творящих зло, но пощади тех, кто одной только кровью своей виноват перед Тобой… Федя Годунов совсем ведь мальчик был…
И ужаснулся: царевич Дмитрий стал перед глазами.
– Страшно, Господи, в царях жить! Страшно!
И озарило: патриарх Иов жив-здоров! Надо привезти старика в Москву, пусть он, святейший страдалец, отпустит грехи всему народу русскому. Все грешны! Не одни цари! Все.
30
На дрова пошел трухлявый пень. Горели коряжки уныло, огнями мутными, запах дыма першил горло, угнетал душу.
– Брат Енох! – взмолился старец Иов. – Сходил бы ты к келарю. Пусть даст нам сосновых дровишек. Со смолкою попроси. И попросил бы ты, брат Енох, у келаря, чтоб велел он поменять лежева наши. Солома в тюфяках истлела, истолклась, одеяло после моей болезни собакой пахнет. Скучный дух у нас в келии… Морошки попроси. Посмелей будь! Не велики запросы.
Келарь, мордатый, пузатый, выпучил на патриаршего келейника глазищи, все равно что кот на мышь.
– Дух нехорош! От старости тот дух. До смерти не выветрится.
Келейник смиренно ждал, и келарь, взбеленясь, ткнул его в грудь посохом.
– Ступай прочь!
– Святейший морошки просит, – заупрямился Енох.
Посох обрушился на голову упрямца:
– То вам не патриарший двор! Чем о себе печься, Бога бы вспомнили!
Енох поклонился келарю:
– Старцу Иову сон был: царь призвал его святейшество в Успенский собор и ноги ему умыл.
У келаря в утробе ухнуло, щеки съехали на шею.
– За такое виденьице простого человека на кол бы посадили, а вам подавай морошки! В другой раз глядите сны, да не заглядывайтесь. У государя свой молитвенник, пресветлый, премудрый Гермоген-патриарх!
Енох стоял столбом и не хотел уняться.
– Что говорить станешь, когда от царя к святейшему великое посольство придет?
– А коли не придет?! – передразнил Еноха келарь. – Надоел ты мне! Велю вам нынче квасу не давать.
И опять поклонился Енох, к двери пошел, а в дверях служка – рожа красная, запыхался.
– От царя приехали! К святейшему Иову!
Обомлел келарь. Енох тоже вздрогнул.
– Кто приехал-то? – дрожащим голосом спросил келарь.
– Крутицкий митрополит Пафнутий с грамотой от святейшего Гермогена. Царь карету свою прислал!
Заплакал Енох. Плача, кинулся в келью, к драгоценному своему старцу.
Однако ж и в келаре проснулся добрый дух. Обогнав Еноха, явился к дверям заветной кельи, готовый озолотить сие убогое пристанище, но был остановлен строгими московскими людьми и не допущен к Иову и к Пафнутию. Еноха пустили.
Патриаршью грамоту Иов слушал дважды. Сначала ее прочитал сам митрополит, а потом по просьбе святейшего Енох.
– Я к его голосу привык, – сказал патриарх и замер, ожидая чтения.
Иов был совершенно бел: головою, брадой, бровями. На самом лице его лежала блеклость, кожа на висках истончилась, но не болезнью веяло от этого лица – премудрым детством.
– «Государю отцу нашему, святейшему Иову-патриарху, сын твой и богомолец Гермоген, патриарх московский и всея Руси, Бога молю и челом бью».
– А ведь меня и прежние цари любили, – сказал вдруг Иов. – Как приехал к нам в монастырь государь Иоанн Васильевич, я ему святыни наши показывал, он тотчас и запомнил меня. Был я инок, а вскоре стал архимандрит.
Умолк, улыбаясь воспоминаниям. Енох, испрося позволения, продолжал:
– «Благородный и благоверный, благочестивый и христолюбивый великий государь царь и великий князь Василий Иванович, всея Руси самодержец, советовавшись со мною и со всем освященным Собором, с боярами, окольничими, дворянами, с приказными людьми и со всем своим царским синклитом, с гостями, торговыми людьми и со всеми православными христианами паствы твоей, послал молить твое святительство…»
– Ты погоди! – снова прервал чтеца Иов. – Со мною тоже ведь советы держали. И государь Федор Иоаннович, и свет мой, государь великий и премудрый Борис Федорович, и дитя его, печаль моя неутолимая, государь Федор Борисович.
Посланцы царя и патриарха слушали лепет старца смиренно и серьезно. Митрополит Пафнутий даже к уху руку приставил.
– Что ж, читай дальше, – разрешил Иов. – Я помню, где ты стал: «…послал молить твое святительство…»
– «…чтобы ты учинил подвиг, – подхватил Енох, – и ехал в царствующий град Москву для его государева и земского великого дела; да и мы молим с усердием…»
– Гермоген, что ли? – вскинул личико Иов.
– Гермоген, – шепотом подтвердил митрополит.
– «…и мы молим с усердием твое святительство и колено преклоняем: сподоби нас видеть благолепное лицо твое и слышать пресладкий голос твой».
– С усердием молит! – одобрительно закивал Иов и весело поглядел на Еноха. – Пусть морошки сначала принесут.
Пафнутий изумился, но Иов уж более ничего слышать не хотел, пока не принесли морошку.
31
14 февраля 1607 года, в праздник Всех преподобных отцев, в подвиге просиявших, патриарх Иов, везомый в каптане царя, обитом изнутри соболями, прибыл в стольный град Москву.
Старцу оказали достойные его сана почести, дали отдохнуть, а шестнадцатого к нему на подворье пришествовал Гермоген.
Иов сидел в кресле лицом к окошку.
– Солнышко. Землю не вижу, а свет вижу. На лавке, как ни крутись, спину ломит, а на стуле спокойно. Так бы и глядел всю жизнь на Божий свет.
– Кир, кир Иов! Я пошлю тебе стул, – обрадовался легкому разговору Гермоген. – Дозволь, святейший, к делу приступить. Великий государь Василий Иванович и весь народ христианский припадает к стопам твоим с мольбою.
– Что так?! Что так?! – испугался Иов.
– Изволь, святейший, даровать царю и народу разрешительную грамоту, сними грех с нашей души. Столько лжеклятв было, хоть самому в смолу кипящую.
– Грешному ли освобождать от грехов?! То Божье дело!
– О господин великий! Суди нас, но прости. Для тела баня и веник! Тело у нас чисто, а душа какова? Вся Русь изнемогла от душевной коросты. Умой нас словом твоим.
– Как мне взяться за такое дело? При здравом-то, при сильном патриархе? – Иов решительно потряс головою.
– Господин! Куда я денусь? Рядом с тобою буду Бога молить. Но ведь один ты и есть, кто не Прельстился Самозванцем, не преступил клятвы прежним государям. Ты есть первый патриарх, и слово твое для Руси вовек первое!
Иов замер. Голову держал высоко, как слепец.
– Господи! И впрямь первый и во всех грехах всех людей виноват.
Легкая улыбка озарила будто изморосью тронутое, измученное постами лицо.
– Что творим, Господи! Кому поклоняемся, коли уж четвертый патриарх при трех согнанных?
Гермоген перепугался перемене настроения в Иове, сел рядом, сказал просто:
– Государя ныне мало кто слушает. У меня голос крепкий, но и меня не слышат. Если бы слышали, разве пришли бы войной под сам стольный град? Изнемогло государство ото лжи! Старая ложь родит молодую. Один дурной злак высеял тьмы и тьмы чертополоха. Все поле русское, чистое заросло и пропадает.
В келью гурьбой вошло московское духовенство, подступило к Иову с мольбою.
– Господи! Делайте, как нужно вам, – лепетал старец. – Доброго льзя ли не благословить?
Грамоту писали сообща. И было сказано в той грамоте: «Во времена царства его (Бориса Федоровича Годунова. – В. Б.) огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поядатель душ человеческих воздвиг на нас чернеца Гришку Отрепьева… православные христиане, не зная о нем подлинно, приняли этого вора на Российское государство, царицу Марью и царевича Федора злою смертью уморили… Потом этот враг расстрига, приехавши в Москву с люторами, жидами, ляхами и римлянами и с прочими оскверненными языками и назвавши себя царем, владел мало не год и каких злых дьявольских бед не сделал и какого насилия не учинил – и писать неудобно… А что вы целовали крест царю Борису и потом царевичу Федору и крестное целование преступили, в тех в всех прежних и нынешних клятвах я, Гермоген, и я, смиренный Иов, по данной нам благодати вас прощаем и разрешаем; а вы нас Бога ради также простите в нашем заклинании к вам и если кому какую-нибудь грубость показали».
20 февраля 1607 года в Успенском соборе Кремля был совершен молебен, где два патриарха стояли перед Богом за Русь.
Марья Петровна, бывшая в храме, дрожала от волнения и шептала на ушко своей матери:
– Как на Страшном Суде!
И то была правда: народ запрудил кремлевские площади, пал на колени.
Некий старец, растопыря руки, возопил:
– Все грешили! Бейтесь все мордой в землю, ибо все мы есть свиньи!
Сам и вдарился – раз, другой, пока кровь не пошла.
Лютовали юродивые, грубили людям, и на их грубость никто не смел ни ответить, ни роптать.
В соборе, однако, дело шло чинно и речисто. Радетели Шуйского, торговые люди, подали Иову грамоту, в которой слова были все парчовые, узорчатые.
– «О пастырь святый! Прости нас, словесных овец бывшего стада твоего! Мы, окаянные, отбежали от тебя, предивного пастуха, и заблудились в дебре греховной и сами себя дали в снедь злолютому зверю!.. Восхити нас, благоданный решитель! От нерешимых уз по данной тебе благодати!»
И сказал Иов русскому народу всю правду о нем.
– Я давал вам страшную на себя клятву, что самозванец – самозванец и есть. А вам лишь бы старое житье на новое поменялось. На веселое! Мне от вас веры не было, зато каждому совратителю с истинного пути душа ваша была нараспашку. И сделалось, чему нет примера ни в Священной, ни в светской истории.
– Ты с Шуйским клялся, что Дмитрий-царевич ножичком закололся, а ныне в грамоте своей объявил, что царевича изменники убили!
Голос этот был покрыт ропотом, и старец Иов не услышал сказанного.
Народ же, ропща на неуемных крикунов, пошел к алтарю, падал патриарху в ноги с плачем, со стонами, с воплями.
Патриарх, сверкая слезами на огромных, не видящих мира глазах, благословлял всех рукой-тростиночкой и просил прощения у искателей святого очистительного слова.
Было это так хорошо, что всем было хорошо. Но Иов, собрав силы и посуровев, звонким детским голосом стал вдруг выговаривать москвичам:
– Вы сами знаете, убит ли Самозванец. Знаете, что не осталось на земле и скаредного тела его. А злодеи-то, вымазывая Россию черной смолой, криком кричат, что он жив, что он и есть истинный Дмитрий!
– Не верим! Не верим злыдням! – закричали люди.
Иов подождал, пока иссякнет шум, и молвил тихо, ясно:
– Велики грехи наши пред Богом в сии времена последние.
– В последние! – простонала, как эхо, одна боярышня.
– Ох, велики грехи, коли всякая сволочь мерзостная, всякая тать разбойная, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество! Да простит Бог царя русского. Да простит Бог каждого русского человека! Да пошлет Русскому царству тишину. Тишины молим, боле ничего. Одной тишины.
И плакали все в храме, и плакали все на площадях, не слыша слов патриарших, но видя слезы других. И такое умиление исходило из Успенского превеликого русского храма, что все стали как младенцы.
…В те светлые для Москвы дни в доме Буйносовых поднялся переполох и случились многие слезы. Отпуская от себя Иова, государь Василий Иванович пал на грудь старца и молвил:
– Возьми меня с собою, святый великий отец наш! Изнемог я от мира, в монастырь хочу. Последним служкой возьми! Под начало суровых старцев. За себя терпеть тяжко, а за всю-то Россию каково?
Марья Петровна, услыхав о таких словах Василия Ивановича, надерзила матушке, пожалевшей дочку:
– Ваш Шуйский не для того столько врал и самого царя убил, чтоб в монастыре в грехах каяться! Не повторяйте чужих глупостей вслух, драгоценная матушка. Глупость, как дурная трава, растет где попадя, и на крыше храма, бывает, растет!
Совсем осердясь, позвала управляющего двором, приказала, топая ножкою:
– Кто будет говорить о государе небылицы, того пороть без пощады.
– По скольку ударов? – спросил управляющий.
– Да по сорок! А кто и во второй раз говорить будет, так по все сто!
Крепка была на свету Марья Петровна. А как ночь пришла, изнемогла во тьме, завалилась в постель – и в слезы. До зари проплакала.
32
Уезжал Иов в дальнюю свою Старицу в легкий морозец, по розовому утреннему снегу. Весеннее синее небо пронзило усталое сердце. Сорвалось у Иова с языка:
– Знать, последняя моя весна.
– Отчего же?! – всполошился Енох.
– Чую, прощается душа с земной благодатью! – И ахнул: – Енох, старче! Да ведь я вижу! Я все вижу, как молодой.
Каретка, увозившая патриарха, была с окошками, и старец все оборачивался, все глядел на Москву, отходившую в сторону и в даль.
– Больше мне не быть здесь, – сказал Иов, и в его голосе не нашлось горечи и сожаления. – Все я здесь познал, высшее и низшее. И не знать бы ничего, да Бог не велит.
Енох, чтоб беседой развеять опасные думы, покряхтя, спросил:
– А крепок ли государь Василий на своем столе? Вроде бы умен, учен…
– На царстве одно свойство дорого: есть ли у царя счастье. Коли есть – ни ума не надо, ни могущества. Борис Федорович разумом был могуч, а уж милосердия его хватило бы на всех царей мира. Не дал Бог счастья. Не наградил. А каков занимался свет над отчизною нашей от свечи Федора Борисовича! Как вспомню – плачу… Никудышный я молитвенник, не умилостивил Господа Бога. Но Он знает больше нашего. И коли слезы мои по убиенному отроку грех, то грех сладчайший.
Молчал, глядел на поля и снова ахнул:
– Гаснут, гаснут очи мои.
Енох кинулся доставать святое масло, глаза помазать, но Иов остановил его:
– Сиди. Молчи. Бог дал мне на Москву поглядеть. Москва скрылась, и глаз уж мне больше не надобно. – И крепко, сердито стукнул кулачком о стену кареты. – Я о царе Иване, о разуме его высоком слова высокие на Соборе говорил. Но ведь царь Иван поле сеял, а мы на том поле снопы вяжем. Все черные. С червями вместо зерен… Боже мой! Боже мой! Одною неправдой живет Русь! Страдалище наше!
…Отзвонили колокола, но след за патриархом Иовом еще не запорошило. Царь Василий места себе не находил во вдруг наступившей тишине.
Прощение Иова свято. Но ведь не Иов пришел в Москву, а был зван… Не оттого ли и вести худые? Воевода лжецаревича Петра – Господи, сколько их, самозванцев, на Руси! – князь Андрей Телятевский побил под Веневом князя Хилкова, а потом князя Воротынского, занял Тулу и Дедилов.
И хоть плакало сердце и душа металась, но царский ум запер и сердце и душу в темный чулан на замок.
– Господи! Не суди царя за дела его царские! – помолился Василий и позвал, как научали советники, немца Фидлера.
Фидлер вызвался своею волей идти в Калугу и отравой извести проклятого Ивашку Болотникова.
Фидлер был черняв, глазаст. В лице никакого лукавства.
Ему поднесли икону. Приложился, слова клятвы говорил твердо, с глухой страстью:
– Во имя Пресвятой и Преславной Троицы, клянусь погубить ядом Ивана Болотникова… Да отрешит меня навеки от небесного блаженства Иисус Христос, да покинут меня все ангелы и овладеет телом и душою дьявол, коли обману моего государя. – Снял с пальца перстень с ядом, показал иконе. – Этою отравой погублю Болотникова, уповая на Божию помощь и на святое Евангелие.
Шуйский поежился от такой клятвы, но ничего не сказал, спросил о деле:
– Тебе дали деньги?
– Мне дали лошадь и сто рублей, – ответил Фидлер. – Обещали еще дать.
– Ты получишь поместья на сто душ, ежегодный твой оклад будет триста рублей.
Фидлер поклонился по-русски, рукой пола коснулся.
«Хитрая бестия», – с тоской подумал Шуйский и ничего не стал менять.
33
Как колокол от большого ветра гудит и дрожит, так гудела и дрожала калужская земля. Пустотою на калужан веяло, неуютом, а отчего – не понять. Не сразу и не все догадывались: убывало земли и прибывало неба. Под топор пошли леса, стеной стоявшие кругом города. Царские воеводы Мстиславский, Скопин-Шуйский, Татев, не надеясь ни на войско свое, ни на пушки, погнали окрестных крестьян валить боры. Деревья разделывали на плахи, свозили в стан. Воеводы назначили сжечь Калугу. Бог с ним, с городом, коли в пламени сгорит проклятье царства, сама Смута.
Особенно досадили царю Шуйскому немцы. Честнее слуг не бывает, а тут целая полусотня присягнула Вору. А уж от дьявольского скоморошества Фидлера у царя зубы ломило. На весь белый свет опозорил. Пил с Болотниковым кубок за здравие царя Дмитрия, рассыпая по столу деньги, данные в награду за отравление.
Шуйский плакал, узнав про нестерпимую измену, на люди не хотел показываться. Спасибо патриарху Гермогену, приезжал ободрять, похвальное слово сказал:
– Как царю за царское свое величество, за честь государскую не заступиться! Уж не добро плодит добрая русская земля, но худо. Не правде нынче воля, но кривде. Злодейство за плечами стоит… Даже тихие люди, оскудев умом, норовят своровать против царя и государства. Покарай, Господи, врагов государевых! Господи, дай царю мужества творить суд и расправу над всей мерзостью, подтопившею русскую землю.
Шуйский обрадовался заступничеству патриарха. Тот все ворчал, все судил и вот опамятовался наконец. Понял: упряжек много, а колесница одна, в одну сторону надо тянуть, чтобы ехала. Как царю без благословения патриарха воевать против своих же христиан? А с благословением и город можно сжечь без оглядки.
И Шуйский послал сказать воеводам:
– Ивашку Болотникова вместе с городом Калугой сожгите и пепелище развейте, чтоб духа не осталось от смутьянов.
Воеводы рады стараться. Такую дровяную гору возвели, словно облака собрались подпалить.
Огромные туры двигались к деревянным стенам Калуги, день ото дня ближе, ближе… В том жутком завале сосна, береза, можжевельник – хорошо будет гореть, как в яме дегтярной.
Все взоры осажденных устремились к гетману, к Ивану Исаевичу. Он приходил на стену по десяти раз на дню. Смотрел на примет, словно любовался. Приметили – песенку молодецкую насвистывает. Поглядит, посвистит и стоит – глазами в себя, лбом и то в самого себя, как улитка, спрятавшая рожки. Утешало, что глаза Иван Исаевич не прятал, приказов направо-налево не отвешивал. Об одном распорядился – порох и свинец беречь, по дровам без толку не палить.
Но ведь и спокойствие командира тоже взбесить может. Гора уж вот она, а Иван Исаевич все поглядывает, все щурится молчком! И догляделся. Один край деревянной горы навалился на городскую стену. Кабы не ночь, и другой бы край придвинули. Может, и ночью бы двигали, да ветер был со стороны Калуги. Зажигать примет надо наверняка.
Когда занялась заря и когда веселые ратники подоспели к турам завершить хлопотное, но верное дело, оборвалось у земли нутро, вывернулось наизнанку, и в лопнувшие от грохота небеса соломинками взмыли плахи и чурбаки. Весь мир тотчас оглох, и обвалилась на людей тишина. Но уже в другой миг завыли, заблажили покалеченные, прибитые, пожженные ратники. Ворота Калуги отворились, и сам Болотников выехал с казаками бить и гнать царских людей.
34
Святейший Гермоген неистовыми словами бранил царя Шуйского:
– В Москве сидит не насидится! Давно бы кликнул со всей Руси дворян, стрельцов, мужиков! Давно бы попересажал смутьянов на колы! России не доброхот, но царь надобен. Под грозным государем народ кряхтит, но царя любит… А этот, лысенький, моргает глазенками. Ему говорят: «Ты дурак», а он моргает. Ему на шею садятся, а он ручками разводит.
Шуйский знал о словах Гермогена, но и тут смолчал.
Тихо жила Москва. Февраль 1607 года выдался мокрый, пасмурный. Синего неба неделями не видели.
И вдруг – солнце!
Заблестели насты, деревья кинулись вверх, к свету. Свет, затапливая землю, проникал в жилища. Пришла радость и в царский дворец. Воеводы Иван Никитич Романов, Михаил Федорович Нагой, Данила Иванович Мезецкий перехватили вороватого воеводу Василия Мосальского на реке Вырке. Шел Болотникова выручать, да сам попался. Было у Мосальского не менее двадцати шести тысяч войска, пушек было много. Табором успел обернуться. Но судьба уж сочла князю все его дни. Смертельно раненный, попал он в плен. Его привезли в Москву и Бог дал ему умереть дома. Храбрецы же воровского воеводы, изнемогши от боя, предпочли мученической смерти от рук врагов смерть геройскую. Сели на бочки с порохом и улетели в небеса.
Царские радости в одиночку не ходят. О новой победе прислал сеунча князь Хилков. Взял он – да как вовремя! – город Серебряные Пруды. Уже на следующий день на выручку серебрянопрудцам пришел воровской отряд князя Ивана Мосальского. Опоздавший был бит и, как братец, в плен попался.
Царь Василий Иванович, празднуя успех – но втайне, втайне! – к невесте приезжал. Подарил старой княгине парчу, бархат, камку, Икону Богородицы в серебряном окладе, с жемчугом.
С Марьей Петровной виделся всего миг единый.
– Ради радости моей царской пожаловал к тебе.
Из рук в руки поднес иконку Василия Великого в золотой ризе, в драгоценных каменьях. Поднес шкатулку, полную самоцветов, сказал ласково:
– Бог даст, скоро вместе будем. Вот побью врага моего, придет тишина в государство наше, тогда и свадьбе быть.
– Ах, как жду я счастья моего! – пролепетала, пылая румянцем, Марья Петровна. Глазки у нее сверкали, кожа белым-бела, шея и грудь как у лебеди.
Притуманенный уехал за кремлевские стены Василий Иванович, всю ночь проворочался. Не постель – пустыня.
А у Буйносовых ликовали.
Сундуки взялись перетряхивать, наряды глядеть, шубы, шапки. Марья Петровна, чтоб в жемчугах красота не померкла, все ожерелья, все нити на служанок надела. Пускай жемчуг от человеческого тела жизни набирается. И красоты.
Платонида, радуясь радости невесты, сказала, смеясь:
– В царицы сядешь, жемчуга-то эти и впрямь сенным девушкам раздай. В царицах в морском будешь жемчуге, в алмазах будешь, в лалах.
– Я, чай, не Маринка богатством людей дразнить, – сказала рассудительно Марья Петровна. – Нет таких каменьев, таких перлов, чтоб были дороже царского сана. Василий Иванович строг, и я буду строга.
Теперь в доме Буйносовых дни считали и о войне справлялись, каково под Калугой.
И пришел май. Соловьев прилетело, как никогда. И на тебе!
Под Пчельнею воевода самозваного царевича Петрушки, истинный природный князь Телятевский побил государево войско и как пух развеял. Царские воеводы князья Татев и Черкасский головы в том бою положили.
Не потому пришла беда, что царевы войска оробели или были неискусны в ратном деле. Измена поразила. Пятнадцать тысяч казаков, помилованных в Заборье, целовавших крест государю, перебежали под воровские знамена. Пятнадцать тысяч не пятнадцать человек… Полки воеводы Мстиславского, услыхав о погибели под Пчельнею, прыснули от Калуги, как прыскают мыши от кота. Болотников тотчас вышел из крепости, догонял и бил беглецов сотнями. Всех бы половил, побил, когда бы не Скопин-Шуйский да не Истома Пашков. Встали крепко со своими дружинами, загородили беглецов, спасли Мстиславского от позора, а его полк от истребления.
Москва узнала о конфузе Мстиславского через день. Шуйский в единочасье собрал Думу. Никогда еще не видели бояре царя таким румяным, остроглазым.
Говорил речи коротко, громко. Всякое слово было не к раздумью – к делу. Тебе – то, а тебе – это. Получил государев указ, поднимайся – и ногу в стремя.
Уже на следующий день повезли из монастырей хлеб в Москву, на случай осады. Беречь стольный град государь повелел брату Дмитрию, князю Одоевскому и князю Трубецкому.
Сам же в броне, с мечом, во главе стотысячного войска, собранного за одну неделю, пошел на Болотникова. Было это в день праздника иконы Владимирской Божией Матери, 21 мая 1607 года.
Во всех храмах по святительскому слову патриарха Гермогена говорили анафему Ивашке Болотникову. Всю неделю кляли.
Придя под Серпухов, где уже стоял Мстиславский, государь перед всей ратью целовал крест и дал обет:
– Коли вернусь в Москву, так победителем! А не победителем – лучше в чистом поле оставить кости.
– Вот бы нам и воеводам нашим этак стоять за царя, как он стоит за Русское царство! – одобряли ратники, но потом призадумались: отчего не они целовали крест? Воевать-то им!
35
Колоколами встречала Тула пришествие с победой войска Ивана Исаевича Болотникова. На соборную площадь Иван Исаевич вступал пешим. Перед храмом его ожидал «царевич» Петр с «боярами».
Еще издали увидев, что гетман на голову выше толпы, «царевич» Петр заулыбался и дружески помахал рукою, – впрочем, не поднимая руку выше груди. Сам он был под стать Ивану Исаевичу – и ростом удался, и лицом был пригож. Улыбка белозубая, глаза честные, как у младенца.
Иван Исаевич распахнул было объятия, но князь Григорий Шаховской, первый «боярин» «царевича», гневно сдвинул брови:






