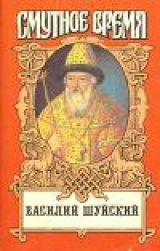
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
8
Шуйский крестился и плакал, плакал и крестился:
– Господи, освободи нас от скверны, нами содеянной!
Ему так хотелось верить: поляки покинут Русскую землю – и с ними закатится за горизонт дурная память о Самозванце и днях его.
«Прелестные письма» не страшили. Это дело рук завистников. Того же Мстиславского. Ныне он среди бояр первый. Ему ли не завидовать Шуйскому? Но Мстиславский слишком величав, чтоб обойти хитростью хитрого, – безрогая корова.
Отходил ко сну Василий Иванович с легким сердцем. С поляками объяснились, за мощами поехали.
– Коронуюсь – женюсь! – сказал себе Василий Иванович и, представив милое личико Марьи Петровны, улыбнулся, но заснул, сдвинув брови, – царю и во сне надо хранить царский свой сан и облик.
Проснулся – утро доброе, теплое. И хоть на деревья смотреть страшно – черные космы вместо благоуханной зелени, – но птицы, умолкшие в дни заморозков, оттаяли, голоса струились, стекаясь ручейками в небо, и небо было море песен.
Благодушный, благонравный, благонамеренный, потихонечку шествовал царь Василий Иванович из высокого своего терема в великий свой Успенский собор.
И казалось ему, что шествие сие возвращает жизнь и само государство Московское в лоно драгоценностей вечных, царских, в лоно начал, перед которыми смиряется буйство и дикая воля непокорства.
«Господи, слава тебе!» – шептал Шуйский с наслаждением.
Минули, минули скоморошьи времена, когда самозваный царь не ходил, а скакал! Не являлся народу, а шмыгал средь толпы, как повеса и любодей.
Поглядывая украдкою окрест, Василий Иванович наблюдал, что движение толпы умерилось, утишилось.
И только он вздохнул, даровав себе облегчение, как что-то в толпе заворочалось, и, расталкивая любопытных, не обходя лужи, брызжа водой, кинулся к нему Рубец-Мосальский.
– Великий государь! По твоему велению народ уж весь в сборе. На Лобное место тебя зовет.
Василий Иванович опешил:
– По какому по моему? Что-то ты несуразное говоришь? Зачем мне на Лобное место идти? – Личико у государя вытянулось, стало длинненькое, серенькое, как у пичуги. – Михайла! – Чуть не плача, царь схватил за руку племянника своего, Скопина. – Узнай, Михайла, что за притча такая?
Свита в смущении чуть поотстала, и Шуйский, шагнувший за Скопиным, чтобы поторопить, стоял один, и рука его, вцепившаяся в деревянный посошок, дрожала старческой дрожью.
И такая тягостная тишина разразилась за спиною царя, и так он эту тишину услышал, что и все ее услышали и поняли.
Глянул Василий Иванович на свору свою, толкнул от себя царский посошок и за шапку царскую, с крестиком на макушке, схватился, сдернул и тоже кинул в руки ловцов.
– Избавиться от меня вам надобно? Смерти моей вам надобно? В кознях, как в бору, заплутались? Господи, неугоден я – другого царя ищите!
К Шуйскому подбежали, окружили, кто шапку на него надел, кто шапку оправил, чтоб сидела удобно и Строго. Посошок в руку вложили. Ворковали наперебой:
– Государь! Царь великий! Мы ж клялись тебе! Нам от тебя отступиться – все равно что от Бога. Не печалуй нас! Приказывай, мы все слуги твои! Рабы!
Василий Иванович слушал, наклоня головку набок, да и пристукнул посошком оземь, голову поставил прямо, глазами осоловел:
– Коли признаете меня царем, так будьте подо мной, подобно камню, на котором стою и попираю. Да трепещут мятежники! Тотчас сыскать того, кто людей на площадь воровски собрал. Зачинщиков схватить, на дыбу, на плаху! Народу именем страшным, царским скажите вежливо, да строго: «Обманули вас те, кто желает бунта, крови, смерти лучших сынов российских. Виновных царь накажет. Вы же расходитесь мирно и впредь будьте умнее. Крикунов нынче в России много, оттого и проку в жизни стало меньше, чем при отцах и дедах».
И повелел государь наутро венчать себя на царство, не дожидаясь из Углича нареченного патриарха Филарета.
– Не его ли эта затея отдать меня на растерзание толпы? – спросил Василий братьев своих, Дмитрия да Ивана.
– Его! – тотчас согласился Дмитрий. – Сколько на свете Романовых, столько и есть наших врагов.
– Розыск нужно сделать, – не согласился Иван.
Венчали царя на царство до того нешумно, что и в самих кремлевских стенах о том знали не многие.
Будто обедню в пост отслужили. Новгородский митрополит помазал царя Василия, возложил на главу его шапку Мономаха, все помолились и разошлись.
Даже малого пиршества не позволил себе новый венчанный царь.
– Какие нынче подарки? Какие пиры? Казна как продувной амбар, – ответил Шуйский боярам, спрашивавшим, когда являться с подношениями.
Обедал в день великого торжества своего царь всея Руси Василий Иванович одиноко и нежирно. Похлебал ушицы из ершей, откушал пирога с грибами, запил еду брусничной водой. Стольники и челядь приходили к дверям Столовой палаты в щелку глядеть, как царь пирует. И все вздыхали. Грех прогулять последний грош российской казны, но не прогулять его – тоже не по-русски.
Лебедей носили, осетров носили, приправы шафрановые, гранатовые, вина заморские откупоривали в ином дому, у хозяйки Екатерины Григорьевны, у хозяина Дмитрия Иоанновича – царева брата. Здесь-то и собрались все Шуйские торжествовать свой день. Ожидали наутро чинов себе, поместий громадных: полей, лесов, рек, людей тыщи.
Екатерина Григорьевна выходила к гостям чаши подносить то в жемчуге, то в алмазах, а то зелена от изумрудов, как майская трава. Поднося чашу супругу своему, глядела ему в глаза, даря его синевою, как небо бабьего лета, и лукавые слова считывал князь Дмитрий Иванович с лукавых румяных губ: «Твой день. Ты – царь!»
Был праздник и в доме князя Петра Буйносова-Ростовского. Князь подарил дочери Марье Петровне кокошник в рубинах, а братья ее, Иван да Юрий, ручку у нее целовали.
В этом доме тоже всем было невтерпеж дожить до утра. Марья же Петровна стала грустной. При тятеньке с маменькой крепилась, а к себе в светелку пришла и дала волю душе.
Всполошилась, как курочка, потерявшая яйцо.
– Ахти! Ахти! – говорила княжна, заливаясь слезами и обнимая мамку Платониду. – Убить государя моего умышляли! Добрую душу! Ахти! Ахти! Они бы и меня убили…
Платонида, жалея Василия Ивановича, а еще более ненаглядную Марью Петровну, сокрушалась сокрушительски и слез лила вдвое.
Слух о заговоре на той на Красной площади принесла Луша. Сговор был между людьми Самозванца: поставить Василия Ивановича на Лобное место, чтоб держал ответ, за что он хорошего царя в могилу свел. И еще у них умыслено было: не веря словам Василия Ивановича, бить его до смерти чем попадя. А в цари желали Федора Ивановича Мстиславского…
Тревожную ночь провела Марья Петровна. Господи! Коли ты не царица – живи себе и живи. А в царицах-то всяк тебя знает и всякому ты снишься, а сны ведь к дурному бывают.
Жданное утро наконец наступило. Но ни звона колокольного, ни глашатаев, ни гонцов из Кремля.
Не было милостей от царя Василия ни в чем, никому. А вот опалы были.
Рубец-Мосальский, дворецкий убитого царя, поехал воеводой в Карелы, канцлер Афанасий Власьев – в Уфу. Михайла Салтыков – в Ивангород, Богдан Бельский – в Казань, Григорий Шаховской – в Путивль… Мелкую сошку раскидали по малым городам. Всех, кто служил прежнему царю-самозванцу, вон из Москвы, с глаз долой! Беглеца Молчанова, убийцу царя Федора Борисовича, лишили имения. Крови же царь ни капли не пролил. Держал слово крепко. Коли слово у царя надежное, то и царство надежно.
9
Скучный был первый день под Шуйским, недоуменный. И правду сказать, Марья Петровна стыдилась за своего суженого. Какой же это праздник без праздника? Без щедрот, без похвал, без крестных ходов, без скоморохов, без бочек меда для всеобщего веселья?
На Марью Петровну косились. Даже тятенька. Будто она и впрямь царица.
Призадумалась Марья Петровна. В оконце тайком на Агапку Переляя глядела. Кудрявый, в плечах сила играет, что ни слово – веселое, глаза сокольи… Переляй с Неустроем-колесником на каретном дворе лясы точили. Неустрой хоть и медведь видом, но по-своему тоже очень хорош.
В сумерках, на бедную головушку, на слезки Марье Петровне, соловей в саду защелкал. Растолкала княжна Лушу, и тайком, не скрипнув половицею, не вздохнув, выпорхнули под звезды, под светы Божьи.
Устроилась Марья Петровна в потаенном месте своему на рассохшихся санках, а Луше велела быть рядом, да не на глазах.
Соловей молчал. Может, спугнутый. И княжна, положа головку на облучок, глядела в звездные пропасти.
И так дивно сверкала Господня громада, дышала такою неизъяснимой ласкою, что Марья Петровна почувствовала, как молодо ее тело, как оно трепещет в предчувствии объятий. И вот он грех – пожелала Агапку Переляя хоть вполглаза увидеть. Ну прошел бы по двору, вдали – и ладно! Тут как раз соловей очнулся от дремы, и взрокотала трель его до самых глубин небесных, и наполнился мир весной и любовью, как чаша до краев.
– Луша! – взмолилась Марья Петровна.
Луша вот она. Княжна припала головкой к ее груди и, вся раскаленная, как пламя на звездах, и такая же ледяная, грелась, обмякла.
И вдруг заскреблось по забору. Оседлал забор лохматый молодец, в котором Марья Петровна сердцем угадала Переляя. Переляй спрыгнул внутрь двора и тихонько свистнул. Раздались шаги. Потом был между Переляем и по голосу Неустроем непонятный, пугающий сговор.
– Кресты готовы, – говорил Переляй. – С утра грянем.
– А что потом?
– Да хоть куда!
– А ты куда?
– А я туда, где вольному воля.
– В мелу ты весь. Макни рубаху у колодца.
– Макну. Разбуди утром. Как бы не проспать.
Дворовые мужики растаяли в ночи, а Марья Петровна с Лушею дрожмя дрожали от страха. А как пробрались в дом, легли вместе и спали под одеялом с головою.
Утром новость на всю Москву. Аховая! Воровские люди ночью пометили белыми крестами терема и дворы иных бояр, иных гостей, иноземцев и написали на тех дворах «царские указы» – «за измену предан такой и сякой на расхищение дотла».
Охотников исполнить указ собралось множество. И уж подступились к лучшим дворам и в ворота ударили, но царь успел стрельцов прислать. Разогнали татей. Без смертей, слава Богу, обошлось!
Марья Петровна чуть головку не сломала, думая, как же ей быть. Рассказать тятеньке про Переляя с Неустроем – грех на душу принять: ноздри обоим дворовым порвут. Не сказать – еще грешнее, ведь разбойники.
Марья Петровна перекрестилась, когда Луша принесла к обеду дворовый слух: сбежали! И Переляй сбежал, и Неустрой.
Марья Петровна, представив воображением своим Переляя, в другой раз перекрестилась. От греха своего наитайнейшего. Сохранил Господь, избавил и сохранил!
10
3 июня 1606 года под Москвою царь Василий Иванович с царицею-инокиней Марфой встретил мощи царевича Дмитрия. Гроб открыли, явили инокине и царю нетленное тело младенца-мученика. На царевиче было жемчужное ожерелье, шитая золотом и серебром одежда, царские красные сапожки, в левой руке платок, в правой орехи. Орехи свидетельствовали перед всем православным миром, что отрок не был самоубийцею. В свой последний миг земной жизни он не ножичек держал в руке, на который и упал, подкошенный падучей болезнью, но лесные орехи с пятнами невинной крови.
Инокиня Марфа как глянула на сыночка, как вдохнула в себя, а выдохнуть сил не стало. Та же прозелень ветхости легла на ее лицо, какая попортила нежное личико ее ребенка. Не упала, но ни единого слова не промолвила, хоть и обещала царю раскаяться принародно в грехах.
Шуйский, не дождавшись тех слов, сам восславил святого царевича. Гроб тотчас закрыли.
Отстранив Филарета и не слушая его объяснений о чудесах, проистекших от мощей во время похода из Углича, об исцелении недужных и калек, царь принял гроб на свое плечо и нес без перемены вместе с вельможами до Лобного места, где Москва поклонилась некогда изгнанному из столицы отроку.
Тотчас пошли исцеления, клики восторга! Колокола зарокотали, воздавая славу каждому чуду. А их только на Красной площади, чудес, свершилось до тридцати.
Близился вечер. Мощи перенесли в Архангельский собор, где была приготовлена могила. Когда-то это место, рядом с Иоанном Грозным и Федором Иоанновичем, указал для себя Борис Годунов. Ныне могила эта была пуста, ибо Годунову сыскали место попроще. Теперь убиенный должен был занять могилу своего убийцы… В собор пустили бояр и одно только высшее духовенство: епископов пускали, а архимандритов уж нет. Инокиня Марфа, успевшая прийти в себя, рухнула на колени перед государем и залилась слезами.
– Молю тебя, царь! И вас молю, иерархи русские! Освободите от греха. За жизнь рода своего страшилась, входя в сговор с еретиком Самозванцем. Всех вас ввела в обман, а себя в геенну огненную. О сын мой! Прости свою неразумную мать!
Прощение тотчас состоялось. Двери собора отворились. Хлынул народ. И вновь случилось несколько исцелений.
– Нет, нельзя сокрыть в земле источник благодати! Нельзя лишить страждущих их надежды! – воскликнул царь Василий. – Положите мощи в раку, поставьте в храме и пойте молебны мученику и угоднику Божию.
Под колокольный звон, возвещающий о чудесах, творимых царевичем Дмитрием, отправился на следующий день в ссылку бывший патриарх, а теперь вновь митрополит Филарет.
Спровадили в ссылку боярина Петра Никитича Шереметева. Впрочем, какая уж там ссылка! Филарет возвращался в Ростов, а Шереметев ехал воеводой Пскова, для многих недосягаемо желанного. Те ссылки были по заслугам. Сыск по делу о возмущении на Красной площади указал на Романовых и на Шереметева.
Ответа Шуйскому пришлось не долго ждать. Неизвестные люди принесли к раке Дмитрия умирающего человека, и тот умер.
Ужас объял людей. Кинулись из собора вон, давясь в дверях.
Пересуды загуляли по Москве, как пожар. Лгуном Шуйского называли. Бреховодником и брехолаем.
Доступ к мощам закрыли. Устроили дешевые торги заморских товаров и с великой пышностью возвели в патриархи казанского митрополита, седовласого старца, семидесятипятилетнего Гермогена.
А дальше бы течь жизни, как река течет, но такое уж, знать, время приспело для Русской земли. Встала на том свободном токе новая страшная запруда. Новая, да именем старая – Дмитрий. Заклятье и грех на всех русских – Дмитрий. Кровь царей, царевичей и цариц с царевнами на весь народ падает. Дмитрий! Имя, витавшее в воздухе, облеклось, как оборотень, в человечью плоть, в полки, в пожары, и опять полилась русская кровушка.
11
Князь Григорий Петрович Шаховской мчал из Москвы до Путивля с такой дикой поспешностью, будто за ним волки гнались. Едва миновал путивльские ворота, как приказал тотчас звонить в сполошный колокол. Предстал перед народом с огнем в глазах и сказал то, что многие втайне сами думали, а теперь, услышав, крепко обрадовались и воспряли.
– В Москве ныне сел на царское место себялюбец и завистник, хитрый, как лиса, таскающая кур, второй Годунов, князь Василий Шуйский. Сел обманом, сотворив злодейский заговор против истинного государя Дмитрия Иоанновича – друга Путивля и всех северских городов. Я был возле Шуйского и знаю, что он готовит для вас, любивших царя Дмитрия, как саму правду. Шуйский ныне собирает полки, чтоб напасть на Путивль и совершить с вами то же, что сделал царь Иван Грозный с Новгородом. Хотите жить – вооружайтесь, укрепляйте стены, поднимайте народ против царя-изменника.
Шаховской умолк, отирая потное лицо рукавом шубы, ибо хоть и жара стояла, но князь ради народа оделся в самое свое богатое и величавое – в собольи шубу и шапку, в златошитый кафтан.
Народ гудел и колыхался, и вся площадь была как пчелиный рой, который вот-вот сорвется с места и, содрогая воздух, полетит ужасно и замечательно.
Шаховской вскинул над головою обе руки, поклонился размашисто куполам церквей Молчановского монастыря, перекрестился и еще прибавил:
– Славный Путивль! Славный народ русский! Ныне объявляю вам тайну тайную. Наияснейший и непобедимый самодержец, великий государь Божией милостью, цесарь и великий князь всея Русии, добрый наш Дмитрий Иоаннович жив и здоров.
Ахнул народ и умолк, не дышал, чтоб слова не пропустить.
– Убит слуга царя Дмитрия. Государя предупредили любящие его люди о заговоре Шуйского, и царь тотчас выехал из Москвы, посадив на свое место двойника своего. Не из страха или бессилия покинул наияснейший самодержец Москву, но чтобы знать воистину, кто же верен ему душой и телом и кто на словах друг, а по делам – враг. Путь, избранный государем для испытания нашей верности, самый опасный, но и самый истинный. В нужный час царь Дмитрий явится к нам во всей славе своей и грозе. Мы же спросим себя, кто нам дороже: истинный природный самодержец, данный нам от Бога, или тот, кто сел на царское место изменой и кровопролитием?
– Дмитрий! Дмитрий! – объятые восторгом, кричали, не помня себя, путивльцы, и голоса их тонули в колокольном праздничном трезвоне.
Но толпа не подобрела, не разомлела от добрых вестей о добром царе. Бесы заплясали в глазах, захрипели глотки, схваченные гневом, и ринулся весь этот клубящийся рой к воеводским хоромам, из которых прежний воевода, князь Бехтеяров-Ростовский, еще не успел выехать. Воеводу бросили с крыльца в толпу, и толпа замяла князя, запинала до смерти.
Слух из Путивля загулял по городам, как пожар по степи.
Встрепенулась притихшая вольница, взгорячились сторонники доброго царя Дмитрия.
Недели не минуло, а за Дмитрия, свергнув воевод Шуйского, встали большие города – Стародуб, Новгород-Северский, Чернигов, Оскол, Кромы, Ливны… С каждым днем империя Дмитрия ширилась, приобретая новые земли, новые тысячи людей, новые крепости – Борисов, Трубчевск, Моравск, Елецк.
Империя явилась из пепла, как птица Феникс, дело оставалось за малым. За Дмитрием. Это малое, этот малый трепетал в горячем воздухе, как блазн, как морок.
12
Далеко завела обида дворянина Михайлу Молчанова, так далеко, что проживи он всю остальную жизнь в деланье доброго, в посте, в молитве – не смог бы и наполовину приблизиться к себе потерянному. Любовь к тайне, к тайному знанию, к черным книгам довела его до палача. Повелением Бориса Годунова дворянина били кнутом. От того битья рубцы остались и на теле, и на душе.
С Годуновым Молчанов поквитался: до самого не дотянулся – кишка была тонка, – а над царем Федором Борисовичем, над вдовой царицей Марьей Григорьевной натешился всласть. Убийство возвело Молчанова на государственные высоты, сам дьявол. Красовался дворянин рядом с Самозванцем, советы был допущен подавать. В службе был ретив и за ретивость ожидал новых степеней, украшенных городами и землями, данными роду навеки.
Думать не думал, что с высокого облака и падать высоко.
Все потеряв, ни на что не надеясь, из одной только бессильной ярости распускал Молчанов, унося из Москвы ноги, слух-отраву: жив царевич. Жив! Вы его пинками, вы его ножами, из ружья в упор, а он жив. Жив, будьте вы прокляты!
Убежище Молчанов поискал у тех, кому дороги были московские вести, – в Сандомире и Самборе, в родовом гнезде Мнишеков, где томилась в неведении истерзанная недобрыми слухами сиятельная пани Мнишек.
Досадуя на коварных русских, которые напали на дочь ее, на царя своего во время свадьбы, ненавидя все русское, госпожа воеводша приняла Молчанова хуже слуги.
Одетая в домашнее платье, с плохо прибранной головою, она сидела на единственном кресле, и за ее спиною в десятках позлащенных клеток свистало, чвирикало, тренькало, вспархивало, трепетало, скакало, попрыгивало не знающее успокоения птичье царство.
Ошеломленный каскадами звуков, Молчанов улыбнулся, прикрыл пальцами уши и, понимая, что совершил промах, перенес руки на грудь и склонил голову, изображая почтительное соболезнование. Он ожидал вопросов, но их не было. И стало быть, являлся немой вопрос: зачем, сударь, пожаловали? С какой стати?
– Ясновельможная пани! – начал Молчанов, уперев Глаза в переносицу госпожи воеводши. – В день великого несчастья для всех нас, одинаково любящих Россию и Польшу, я видел из моего убежища вашего супруга и вашу дочь невредимыми. Я не имел возможности оказать им помощь, вызволить из плена, но так попустил Господь.
Щечки у пани Мнишек зарозовели, но она все же не снизошла до вопросов. Молчанов сам сказал:
– Я видел мою государыню Марину, когда ее, оберегая от черни, стрельцы вели в дом вашего супруга. Но я не ради этого известия искал порог вашего дома. – Молчанов призадумался, рассеянно окидывая взглядом птичьи клетки, и вдруг подошел к одной, со щеглом, и отворил дверцу. – Ради того, что вы услышите, пристало отпустить хотя бы часть ваших невольников.
Щеглы порхнули вон из клетки. Молчанов улыбался:
– Ясновельможная пани, то, что вы услышите от меня, возрадует ваше сердце: государь Дмитрий Иоаннович спасся. Он жив.
Пани Мнишек поднялась с кресла, в лице ее была мольба: «Не лги!»
– Государь Дмитрий Иоаннович жив. Об этом знает вся Русская земля.
– Но где же он? – разлепила ссохшиеся губы пани воеводша. – Где доказательства?
– Доказательства чего? Того, что убит другой? Они известны, кажется, всему белому свету. Возле Лобного места на столе лежал Дмитриев слуга. Бородатый, волосатый, зрелых лет мужчина. Потому и надели на убитого «харю».
Пани Мнишек побледнела, и Молчанов, не давая ей опомниться, шагнул ближе и чуть не закричал в самое лицо:
– Я говорю вам – царевич Дмитрий, возведенный на престол Московского царства, спасся. Он жив. Он объявится, когда придет час отмщения. И дочь ваша – не соломенная вдова, но законная русская царица. Вся земля Русская – это ее земля, все города Московского царства – ее города, все люди, населяющие страны полнощные и полуденные, что под рукою самодержца российского, – ее холопы. А стало быть, все дарованное царем Дмитрием вашему роду – ваша собственность.
– Но где он? – прошептала пани Мнишек.
Молчанов рассмеялся, движением руки отстранил хозяйку Самбора и сел в кресло.
– Так это же я и есть, возлюбленный супруг их величества Марины.
Ничто не переменилось в лице пани Мнишек. И крови в нем не прибыло. Послушно, покорно совершила матрона перед собеседником своим глубокий реверанс, и Молчанов, глазам своим не веря, поспешил поднять ее. А рука-то у «тещи» дрожала.
– Какие у вас прекрасные птицы! – сказал он, снова занимая кресло. – Рай. Истинный рай.
Вытянул ноги, откинул голову, прикрыл глаза. Дорожная усталость навалилась на него, и он задремал перед только что обретенной, потрясенной «тещей».
И «теща» боялась потревожить его покой даже пристальным взглядом. Прикрыла глаза веками и уж потом только поглядывала на этого неведомого человека. Среднего роста, стройный. Лицо правильное, смуглое, нависающие над глазами черные брови, черные усы, стриженая бородка, на щеке волосатая бородавка, волосы на голове тоже черные, курчавые. Нос над губой тяжелый, покляпый.
Молчанов открыл глаза, сказал серьезно:
– Принять нас хорошо – значит хорошо начать наше общее дело. Со мною князь Мосальский и дворянин Заболоцкий и еще сотни две приставших к нам людей.
– Мой дом к вашим услугам, ваше величество, – так же просто и строго ответила пани Мнишек.
– Мы пробудем у вас три дня. Нам лучше пожить в монастыре. Я помолюсь о спасении, к тому же монахи – самые надежные письмоносцы, да и переписчики прекрасные. Писем предстоит написать множество.
13
Восстали, отринули власть Шуйского ради власти царя Дмитрия город Севск и вся Комарницкая волость. Поднялись за доброго царя Почеп, Вязьма, Рославль, Ржев, Зубцов, Старица, Погорелов…
Гибли верные Шуйскому воеводы. Усмиряя вольницу, сложили головы Пушкин, Плещеев, Бутурлин, Щербатый, Бертенев, Тростенский, Воейков, Черкасский.
В Белгороде убили боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, отца Марьи Петровны. Поехал от государя со словом мира и тишины. Но людям кровь уж в головы ударила. Кровь пьяней вина. Не слова были нужны – меч. Князь Петр пожалел людей, а они его не пожалели. Живший ожиданием великого счастья, дом Марьи Петровны за единый день замшел, в землю врос, умолк.
Приезжал к невесте сам Василий Иванович. Посидел молчком с домашними князя Петра. Помолился перед иконами со всеми и тихо уехал, оставив, однако, дарственную на село и пустоши: заслуги князя Петра почтил.
Гневен и многословен явился к царю патриарх Гермоген.
– Государь, виданное ли дело – города отпадают от царства, все тебя хулят в открытую, площадно, а ты сидишь себе тишком и чего-то ждешь? Чего? Чтоб шиши по Москве гульбу затеяли? У тебя же многие тысячи стрельцов, у тебя верные воеводы – пошли их в Путивль, в прыткую Комарницкую волость.
Шуйский помаргивал глазками, вздыхал:
– Что же своим своих бить и калечить? Чем тогда я лучше Самозванца? Люди сами должны образумиться. Я перед Богом слово дал – не проливать крови.
– Не криви душой, государюшко! – входя в раж, воспылал неистовством Гермоген. – Ты оттого помалкиваешь, что боишься, как бы хуже не было. Но не гасить пожар и надеяться, что он сам собой сникнет, может святой или дурак. В подметных письмах новый самозванец обещает в Москве быть к Новому году. А сколько до сентября осталось? Июнь уж наполовине. Чего, кого робеешь, государюшко? Тебе благословение мое нужно – вот оно!
Перстами, сложенными для крестного знамения, тыкал царю в лоб, в живот, в плечи.
– Благословляю, царь! Бери войско, иди и доставь царству покой и тишину!
Шуйский, не меняясь в лице, печальный, строгий, поднял глаза на Гермогена, больные, в красных ячменях на нижних веках.
– Я послал в Северскую землю крутицкого митрополита Пафнутия. Он и сам будет говорить, и письма инокини Марфы читать.
– Не больно ли ты доверчив, государюшко! Пафнутий ведь не распознал в Самозванце Гришки Отрепьева, хотя тот у него в монастыре своим человеком был. Не спутает ли нового Дмитрия со старым?
– Что ж тебе надобно от меня, святейший? Скажи, я исполню.
– Войско пора собирать.
– Собираю, святейший! Боярину Воротынскому повелел готовиться, а с ним – князю Юрию Трубецкому.
– Что же сразу-то не сказал? – изумился патриарх. – А я шумлю.
– Ныне все шумят, – почти прошептал царь Василий. – Молись, великий иерарх, ты ближе нас к Богу. Как же я хочу, чтоб сам Господь вразумил неразумных, остановил руку, занесшую меч, остудил горячее слово, чтоб слетело оно с уст уж не обидным, не ранящим.
Гермоген стоял перед крошечным царем, огромный, могучий. Глядел, и в каждом его глазу было по сомнению.
– Не в монашеской ты рясе, государь, – в царской ризе ты. Да не оставит тебя Господь.
Ушел, вздымая мантией золотистую пыль в столбах летнего горячего солнца.
Шуйский подождал, пока дверь за патриархом закроется, и, макнув мягкие тряпицы в приготовленное врачами снадобье, приложил их к своим ноющим ячменям.
– Вот и царь, а ячмени мучают. – И вздохнул, вспомнив Марью Петровну. – Вот и царь, а свадьбы не сыграешь, пока траур не кончится.
14
От князя Шаховского пришло Молчанову письмо за семью царскими печатями. Шаховской в день мятежа, когда погибал оставленный всеми Самозванец, спер царскую печать. Теперь все свои письма он посылал как высшие, как государственные.
Шаховской Богом молил Молчанова, не теряя золотого времени, когда все за Дмитрия, принять на себя это драгоценное имя. Путивль ждет. И Москва ждет. Россия ждет.
Призадумался Молчанов. Гришки Отрепьева на год хватило. Стоит ли царская шапка такой цены? Славы на века вечные, но ведь и жить хочется. Сегодня Москва ждет, а завтра с топорами прибежит.
И тотчас встало перед глазами это лысенькое, моргающее, кругленькое – то, что звалось ныне российским самодержцем. Стыдоба!
Спустился из кельи в трапезную, где князь Василий Мосальский играл в шахматы с бежавшим из Москвы князем Михайлой Долгоруким.
– Князья, не пора ли сыграть в иные шахматы?
У Мосальского глаза блеснули, как у заядлого охотника. Долгорукий потупился. Он прибежал на соблазны польской жизни, и вот зовут вернуться к своему, русскому, корыту.
– Князь Василий, ты вчера мне о Болотникове говорил. Ну-ка еще скажи. Все, что знаешь.
– Казак, правдолюб. Услышал, что истинного русского царя обидели, вот и поспешил на его защиту.
– Царю на защиту… – сказал Мосальский словно бы себе, но поглядывая на Долгорукого.
– Откуда этот молодец? Ты сказывал, будто из Венеции?
– Холоп он. Князя Телятевского холоп.
– Андрея Андреевича?
– Нашего. Тот, что в Чернигове воевода. А в Венецию он прибежал с турецкой галеры. Может быть, эту галеру венецианцы и захватили у турок. Одним словом, человек бывалый. На галеры попал из казаков. В казаки из крымской неволи. От Телятевского убежал, а от татарского аркана не увернется.
– У Андрея Андреевича в дворне, говоришь, служил? Ратному строю, значит, учен?
– Думаю, что хорошо учен. В казаках атаманил. На галерах небось к пушечному делу присмотрелся.
– Привези-ка ты, князь, казака Болотникова к нам сюда.
– А когда?
– Да сегодня. Тотчас поезжайте да и привезите. Зовут его как, не помнишь?
– Иваном.
– Вези казака Ивана Болотникова. Скажи ему, государь зовет.
Оба князя, Мосальский и Долгорукий, разом поглядели на товарища своего и отвели глаза. Об иных делах лучше бы не знать.
15
Казак был столь широк в плечах, столь могуч натруженными на галерах руками, столько в нем было жизни, воли, что польский вельможный дом, приняв его, стал хрупок и почти прозрачен.
А казак к тому же был стеснителен, он робел перед креслами, креслицами, перед зеркалами, обилием свеч в огромных люстрах и канделябрах.
Молчанов сидел в кресле, застланном куском золотой парчи, в кафтане пана Мнишека, предоставленном пани Мнишек ради такого необычайного случая. Вместо пуговиц – сапфиры, оплечья из шнурков, унизанных жемчугом и рубинами, на груди изумрудный крест, пояс в алмазах, сабля в алмазах, на пальцах перстни.
Возле кресла стояли двое телохранителей, и казак, смекнув, перед чьи очи его доставили, проворно бухнулся в ноги.
– Встань, Иван Болотников! – молвил «государь» ласково. – Слышал я, ты готов послужить Богу, истинному царю и всему народу русскому.
– Готов, великий государь! – подняв голову, но не смея подняться, звонко, радостно отвечал Болотников.
– Встань, казак! Встань! Это боярам привычно на коленях ползать… И в службу и в дружбу велю я тебе, Иван Болотников, идти в Путивль и, собрав войско, выступить на изменников-бояр, на злодея Шуйского, похитителя моего престола. Крепок ли ты духом, казак, для такого тайного и великого дела?
Болотников, вначале растерянно улыбающийся, сдвинул брови, посуровел лицом, глазами ушел в себя, меря глубину духа своего.
– Исполню, государь! – сказал наконец. – Как велишь, так и будет.
– Славный ответ! – вскричал, вскакивая со своего «царского» места Молчанов. – Слава казаку! Чару казаку!
Чару поднесла одна из небесной красоты полек, окружавших ясновельможную пани Мнишек.







