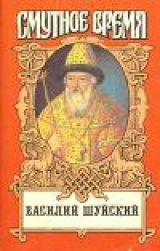
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
XVI
В бреду любви
С той минуты, как во время вылазки из Троицкой обители в общей и отчаянной сече под окопами Сапеги Алексей Степурин был оглушен страшным ударом, разбившим вдребезги его шишак, и в то же время ранен саблею в плечо и шею, – он потерял сознание и впал в тягостное состояние человека, который только урывками приходит в себя, а в остальное время пребывает в какой-то непроглядной тьме, не освещаемой никаким лучом сознания. И даже в те краткие мгновения, в которые сознание возвращалось к нему, память ему не повиновалась: разновременные впечатления мешались и путались в его голове, то зрение, то слух его обманывали, то чужие люди представлялись ему совсем иными, знакомыми и близкими, то пустота и мрак вдруг населялись страшными, чудовищными видениями и образами. Бред так хитро и незаметно сплетался с действительностью болезненно-возбужденного воображения Алексея Степановича, что он надолго утратил «образ Божий» и стал не человеком…
Очнулся он, долго спустя, под совершенно иным и очень странным впечатлением… Ему казалось, что он тонет, захлебываясь и задыхаясь постепенно, что около него, журча и пенясь, течет вода. Что какое-то мрачное, громадное чудовище влечет его все вглубь… вглубь.
«В омут, что ли?» – думает Степурин и вновь теряет сознание. Сколько потом минуло времени, он этого не знал и не мог сообразить, – но помнит, не памятью рассудка, а скорее памятью каких-то ощущений, – что ему вдруг стало хорошо, так хорошо… Он даже и понять не мог, почему ему так стало хорошо. Но кругом было все так светло, тепло, уютно, мягко, привольно, такая сладкая истома обуяла все тело его, связала руки и ноги такими мягкими путами, что Степурину невольно подумалось: «Уж не умер ли я? Не в царствие ли небесное попал?»
И потом стал часто, часто повторяться тот же бред: в каком-то полусумраке над ним склонялось чье-то прекрасное, но грустное лицо и долго-долго ему в самые очи вперяло глубокий, ласковый взор. Потом он чувствовал прикосновение ко лбу и шее чьей-то мягкой и горячей руки, и видение исчезало. И опять наступала та же сладкая истома. Потом уж этот бред стал понемногу для Степурина уясняться и переходить в нечто белее близкое к действительности. Он видел, что лежит на постели, и к его постели подходит женщина, но только никак не мог припомнить, где он видел эту красавицу? Не мог он также и понять, что делала она у изголовья его кровати, зачем приподымала его голову и обертывала ее чем-то холодным, мокрым? И только смутно припоминалось ему, что как-то однажды она его поцеловала в лоб, и он потом долго ощущал на лбу прикосновение горячих, ароматных уст.
Опять прошло много времени, много дней и ночей… Да, именно дней и ночей, потому что Степурин наконец уж стал отличать и день от ночи. В теле его были все те же слабость и истома, но он уж мог двинуть и рукою и ногою, хотя ему подчас казалось, что на руках и на ногах его висят тяжелые-тяжелые оковы… Однако же он начал понимать, что эта женщина, которая так тихо и легко порхает около его постели, что она за ним ухаживает, лечит его и облегчает страдания… Но он все еще никак не мог понять, кто эта женщина и откуда она берется тут, около него? И куда уходит?.. Пытался он с нею заговорить, но язык еще ему не повиновался, и самому ему было досадно, что он не может говорить… Он смутно слышал также иногда, что эта женщина, этот ангел-хранитель его, говорила ему что-то… Он видел, как шевелились ее уста, как ее прекрасные глаза вторили ее каким-то словам, но что говорила она и на каком языке, и с кем говорила – этого он никак не мог понять…
* * *
То, что представлялось Степурину в бреду странным, необъяснимым видением, было на самом деле действительностью. Приказание, отданное Мариною боярину Бутурлину в лесу во время встречи с отрядом тушинцев, сопровождавших раненого Степурина, было выполнено в точности. Алексей Степанович был помещен в комнате, смежной с половиною царицыной женской служни, и так как немца-доктора в Тушине не могли разыскать, то раненый был отдан на попечение панны Гербуртовой, искусной и знающей знахарке, превосходно лечившей травами. И между тем как Марина и Бутурлин общими силами добились у царика помилования пленнику Сапеги, приближенные к Марине женщины принимали все меры к тому, чтобы спасти от смерти человека, которого только что удалось спасти от плахи. И Зося и панна Гербуртова наперерыв друг перед другом старались ухаживать за бедным Степуриным, который более двух недель лежал в беспамятстве, бредил и метался в постели и не подавал почти никакой надежды на выздоровление.
Марина заходила к больному и утром и вечером, накладывала лед к его воспаленной голове, обмывала его раны на плече и на шее. Поддавшись какому-то невольному и глубокому чувству сострадания к этому человеку, спасенному ею от смерти, она, что ни день, все более и более к нему привязывалась и находила удовольствие в своих заботах о нем. Эти заботы были не только развлечением, но и дополнением к ее скучной, неприветной, затворнической жизни в сумрачных и тесных тушинских хоромах, обок с тем шумным полувоенным, полуразбойничьим станом, который был ей так чужд и так противен. Часто, придя на минутку к постели Степурина, она садилась у его изголовья и засиживалась долго в полутьме его комнаты, с нежностью матери следя за дыханием, подавая ему прохладительное питье и лекарство или оправляя его изголовье. С тревогою истинного участия следила Марина за всеми переходами и проявлениями тяжкого недуга Алексея Степановича и часто расспрашивала панну Гербуртову о том, что происходило в ее отсутствие.
– Плох он, очень плох! – сокрушалась однажды панна Гербуртова. – Надежды на выздоровление мало. Но какой он добрый, благородный человек! Верите ли, и в беспамятстве он понимает, кто его спас от казни, и в бреду все ваше имя повторяет!
– Мое имя? – с удовольствием переспросила Марина.
– Да, да! Вот вчера ночью все за вас молился и просил у Бога счастья вам.
Марина вдруг почувствовала, что краска бросилась ей в лицо, и, поспешно отвернувшись к окну, с притворным равнодушием сказала:
– Ну охота вам слушать всякие бредни. Мало ли что придет в голову с горячки?
Но с той поры она стала внимательно прислушиваться к несвязному лепету больного и вскоре должна была убедиться в том, что Алексей Степанович в бреду своем произносит не бессвязные речи, а выдает тайну своего сердца, которую, быть может, унес бы в могилу, если бы странная случайность, на краю гроба, не свела его так близко с Мариной.
Случилось как-то, что в его болезни произошел поворот к худшему: он вдруг ослабел, страшный жар охватил все его тело, голова пылала, полураскрытые глаза едва блистали из-под отяжелевших век. Панна Гербуртова выбилась из сил, ухаживая за ним целый день, и под вечер сама свалилась с ног.
– Я останусь, – твердо сказала Марина. – А вы все ступайте спать.
И осталась одна у постели Степурина. Ночник, горевший на лежанке, тускло освещал один угол постели и покрывал трепетными тенями изможденное, но все еще прекрасное лицо Степурина.
Марина смотрела на это лицо с глубоким чувством сострадания и вдруг, прислушиваясь к его неровному, порывистому дыханию, услышала, как он явственно произнес ее имя.
Наклонившись к нему ближе, она услыхала опять:
– Марина… где ты?.. Я тебя так любил… Я бы… готов был умереть за тебя!.. Не судил Бог! Не смею и мыслить о тебе… Прочь, гады, прочь, звери дикие… Не смейте прикасаться к ней… Умираю… О! Если бы она знала, как люблю… Если бы…
А Марина слушала и оторваться не могла от этого бреда и наслаждалась тою искренностью горячего чувства, которое в нем высказывалось! И когда Степурин замолк, склонив голову набок и тяжело дыша, Марина бросилась на колени у его постели и с горькими слезами стала молить Всевышнего, чтобы Он сжалился над ней, чтобы Он сохранил около нее хоть одно любящее сердце, хоть одно существо, ей беспредельно и бескорыстно преданное среди того скопища грубых, жестоких и разнузданных людей, в которое она закинута злою судьбиною…
XVII
Начало конца
«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», – вот пословица, в справедливости которой пан воевода Мнишек должен был в конце концов убедиться. Польстившись на громкие слова и на щедрые обещания, он продал свою дочь и предал ее в руки тушинского скопища польских проходимцев и русских изменников. Но скоро он сам понял, что попался впросак и что был это самый открытый, грубый, наглый обман. Правда, его чествовали изрядно при дворе тушинского царика; ему отвели хорошо убранные покои в одном из флигелей царских хором; его щедро наделили из награбленного добра и сукнами и аксамитами, и шелковыми материями, из которых он поспешил нашить себе нарядных кунтушей и жупанов; его даже сытно кормили, подавая к его столу все «на серебре» (тоже отовсюду награбленном); его даже поили вдосталь излюбленными им венгерскими винами… Но деньги выдавали ему на издержки скупо и в весьма малом количестве, а о вознаграждении за понесенные им убытки как-то совсем замолкли. «А вот пообожди, пан воевода! Вот скоро в Москву войдем да доберемся до казны царской, тогда ты первый все получишь. По горло в золоте сидеть будешь! Хе, хе, хе!» – ублажали его приближенные царика. И пан воевода утешался на время, довольствовался подачками, сытным столом и обильными возлияниями. Но время шло себе да шло; Тушинский лагерь по-прежнему пестрел притоком все новых и новых воинских ватаг и казацких дружин, бряцал оружием, гудел своими шумными базарами, на которые свозилось отовсюду награбленное на Руси добро… А «возу все не было ходу» – дело царика все не двигалось вперед, и путь в Москву все еще оставался не проложенным.
Так прошла зима 1609 года, наступила весна, миновало и лето, а царь Василий Шуйский по-прежнему сидел себе в Москве, как и царик в Тушине. И ни Шуйский не может одолеть тушинского царика, ни тот не в силах с Шуйским справиться.
А с наступлением осени вдруг отовсюду стали до ушей пана воеводы доноситься слухи, один хуже другого: «Псков отстал от царя Дмитрия», «Новгород колеблется и ненадежен», «под Троицей все приступы Сапеги отбиты с уроном», «Шуйский ждет помоги от шведов», «сам Сигизмунд, король польский, собирается войною на Москву и всех поляков из Тушина зовет к себе на службу…».
Все эти новости доходили до пана воеводы через его неизменного пана Яна, который, сообщая весть о Сигизмунде и его затеях, добавил многозначительно:
– Мой совет – отсюда поскорее убраться восвояси и засесть у себя в Самборе.
Наконец пан Ян добился цели и убедил пана воеводу в том, что ему нечего уж ожидать в Тушине и что он не может возлагать надежды на будущее.
– Хорошо! – сказал ему Мнишек. – Я завтра же переговорю с паном зятем и добьюсь от него чего-нибудь существенного, а не одних каких-то обещаний…
– А если вас опять вздумают ими угостить? – мрачно спросил пан Ян.
– Ну, тогда уж делать нечего! Поеду к королю и через него потребую от пана зятя и городов и денег…
* * *
На другой же день пан воевода известил царика с утра, что он с ним хочет переговорить наедине о личных своих делах, и получил через дворецкого приглашение явиться в хоромы государевы.
Он застал пана зятя за серьезным делом: одетый в богатое царское одеяние (он только что присутствовал а приемной на Тушинской боярской думе), в золотой шапке, опушенной темным соболем, царик сидел в резном золоченом кресле и играл в шашки с шутом своим Кошелевым, а в стороне, за столом Бутурлин, Салтыков и пан секреториум разбирали какие-то грамоты.
– Ну, что скажешь, тестюшка? – обратился к Мнишку царик, видимо недовольный посещением и предстоящею беседой с паном воеводой.
– Наияснейший пан! – начал величаво Мнишек по-польски. – Душа моя полна тревоги и опасений за будущее, недовольства за настоящее и сокрушения за прошлое… Язвы, нанесенные этим прошлым, не исцелены, поводы к неудовольствиям в настоящем не устранены тобою, несмотря на все данные мне письменные и словесные обещания, а будущее…
– Боярин Салтыков! – обратился к своему приближенному царик. – Объясни же ты пану воеводе, что у нас есть дела поважнее его речей!
– Я понимаю, понимаю! Наияснейшему пану все некогда со мною переговорить! Сегодня некогда, завтра некогда! Всегда некогда! Но если он царь, то должен царское слово свое держать…
– Какое слово? О каком он слове говорит? – с некоторым недоумением спросил царик, обращаясь к боярам.
– Не о тех ли жалованных грамотах на города и земли, которые ты, государь, ему пожаловать изволил? – напомнил Салтыков.
– А! Да! Так что же ты тревожишься, пан воевода? Я у тебя того, что дал, не отнимаю…
– Ты дал, наияснейший пан, да я не получил, – продолжал горячиться Мнишек. – Ты позабыл меня совсем. И в деньгах вынуждаешь меня стесняться и убытков моих покрыть не хочешь! А я представил счет им, и счет не маленький…
– Ну да! Конечно! Когда войдем в Москву, заплатим пану воеводе за все, что он истратил! – сказал царик, обращаясь к Мнишку.
– Войдем в Москву?! Чудесно сказано! – воскликнул Мнишек, выведенный из терпения увертками Салтыкова. – Вы вот уже чуть не целый год и в Троицкий кляштор войти не можете, – с черными грайворонами не умеете справиться! А собираетесь Москву забрать!.. Нет, я дольше уедать не могу и не хочу. И если мне на этой же неделе не будет все уплачено по счету, я из Тушина уеду в Самбор, а оттуда в Краков, к королю Сигизмунду, который сумеет заставить московского царя отдать мне то, что он мне должен!
Царик вдруг вскочил со своего места и, сердито топнув ногою, крикнул Мнишку:
– Замолчи, пан воевода! Я научу тебя иначе говорить со мною!.. Да и то запомни, что царь московский никому и ничего не должен!
Пан воевода собирался что-то отвечать царику и полез в карман за какой-то бумагой, но царик опустился снова в кресло и сказал уже гораздо спокойнее прежнего:
– Тебе, пан, тестю нашему и отцу дражайшей супруги нашей, мы извиняем излишнюю запальчивость… Просьбу твою об убытках мы рассмотрим к концу недели, как ты просишь, а теперь я больше не могу с тобой беседовать и призову тебя через бояр, когда тебе припасем денег…
Мнишек был красен как рак от волнения и досады. Лицо его подергивало… Он поднимал и опускал брови и сжал губы, собираясь еще настаивать; но умный пан Ян, который понимал всю бесполезность воеводского красноречия в данную минуту, толкнул его под локоть и шепнул ему на ухо:
– Пора вам уходить!
Мнишек, опираясь на трость и на руку пана Яна, грузно поднялся с лавки, неуклюже раскланялся и, бросив злобный взгляд на бояр, направился к выходу из комнаты.
А царик между тем снял с себя тяжелый и богатый царский наряд, облекся в легкий и просторный домашний стеганый кафтанец и, готовясь идти в столовую палату, подозвал к себе своего шута, Степанку Кошелева, который забился в угол под лавкою.
Шут – худой и безобразный малый, с плоским лицом, изрезанным глубокими морщинами и с большою бородавкою на носу – подошел к царику, потряхивая своими пестрыми лохмотьями и колпаком с мочальною кистью. Он шел через комнату, опираясь на кочергу и преважно раскланиваясь направо и налево.
– По нашему московскому обряду и обычаю, – стал говорить шут, выставляя вперед нижнюю губу, наморщивая свой крошечный нос и стараясь передразнить царика.
Царик, а за ним и все присутствующие расхохотались, глядя на уморительные ужимки шута.
– Царь ничего и никому не должен… – так же важно продолжал шут, корча всякие рожи.
И вдруг в один прыжок он очутился около царика и, заглядывая ему умильно в очи, проговорил униженно:
– А, небось не помнишь? Ведь ты и мне должен… Еще, как был в Стародубе, пообещал?
Царик усмехнулся.
– Как мне не помнить, Степанушка? – сказал он. – Пообещал я тебе тогда полсотни плетей горячих всыпать, да вот все не сберусь за недосугом.
Все присутствующие так и покатились со смеху. Но шут рассердился не на шутку:
– Ан нет! Врешь, хоть ты и царь, а врешь! Кафтан мне обещал… Да, вот что!
– Ну, ну! Ведь ты не воевода, не забывайся; не то я прикажу опять Бутурлину тебя погладить… Помнишь? – сурово крикнул царик.
Шут съежился и состроил постную рожу.
– Ну, милуем тебя… Сегодня уж так пошло на милость! Вези меня в столовую палату…
Шут покорно встал на четвереньки, а «великий царь московский» сел на шута верхом и выехал на его спине из комнаты во внутренние свои покои.
XVIII
Перед грозою
– Ну, Демьянушка, кажись, пришел конец нашей тушинской масленице! – говорил поп Ермила, сидя с подьячим на крылечке одной из ближайших к дворцу изб, стоявшей внутри ограды дворцового двора.
– Пришел, Ермилушка, – грустно покачивая головою, отвечал Демьянушка. – Проплясал да пропил шальной царь тушинский Московское государство, и теперь ему Москвы как своих ушей не видать!
– Что ты? Неужто и впрямь все к королю перекачнутся?
– Перекачнутся ли, нет ли, никому неведомо. А ты то возьми: какой он теперь царь, коли все от него отвернулись? Никто его не слушает! А к польским королевским комиссариям, что из-под Смоленска Жигмонт прислал, все Тушино навстречу высыпало. И Збровский-пан их с гусарскою хоругвей встретил, и Роженский к ним в карете выехал… А там и русская им встреча была: Иван Плещеев да Федор Унковский речами их приветствовали…
– Дела, дела – что сажа бела! – задумчиво проговорил поп Ермила, покачивая головой.
– И сам ты посуди! Куда он затесался? С одной стороны московское войско напирает, и князь Михайло Скопин со шведами да с Делагардом вон как полячишек треплют – Сапегу и Лисовского! А с другой-то теперь сам Жигмонт на него же поднялся; Смоленск осадил, Северщину всю охватить собирается, да и сюда-то комиссария прислал, чтобы всех ляхов от нашего отбить.
Поп Ермила, сознавая справедливость этих доводов, молчал, понурив голову, а Демьянушка продолжал с прежнею горячностью:
– Король-то ведь его и знать не хочет!.. К панам грамоту прислал, к боярам – тоже; к царице – письмо. А царя-то и поклоном не удостоил!
– Ну, а царица что же? Как отписала?
– О брат! Эта баба – с толком! Прикинулась, будто в обиде за царя, да так королю-то отчитала, что – на поди… Степурин ей и письмо-то переводил…
– Степурин! Все Степурин! Пошел наш Алексей Степаныч в ход. Вот, погляди, в бояре выйдет, – с добродушной улыбкой заметил поп Ермила.
– Чего мудреного! Он парень умный. Сумел царице по нраву прийтись… Все с той поры, как от раны лечился в ее хоромах… Околдовал ее: она в нем и души не чает. В стольники его к себе взяла, с ним обо всем советуется, по целым дням не расстается, и они вдвоем царя-то во как к рукам прибрали! Пикнуть без них не смеет… Да вон и сам Алексей Степанович сюда едет!
Действительно, в это время из-за угла хором выехал всадник на крепком и статном коне, повернул к крылечку, соскочил с седла и, отдавая поводья попу Ермиле, сказал ему вполголоса:
– Коня поставь, не расседлывая, под навесом; а нашим всем прикажи быть наготове! Чтобы никто не отлучался и запас бы под рукой держал…
– Слушаю, Алексей Степанович, батюшка, – почтительным тоном отвечал поп Ермила и повел коня в сторону.
– А ты, Демьянушка, будь под рукою у меня… в сенях царицыных… Ты мне понадобишься.
– Слушаю, батюшка. А не дозволишь ли спросить, милостивец, как у нас там с комиссариями?
– Говорить-то некогда… Сам скоро все узнаешь… Одно скажу: быть бедам! Не устоять тушинскому гнезду… Кругом измена: царицу надо обо всем предупредить.
И он поспешно направился от своего крылечка к крыльцу царицыных хором; за ним чуть не бегом пустился и Демьянушка.
* * *
Марина в тот день с утра была в тревоге. Поднявшись рано и наскоро одевшись, она уже послала за Степурнным и приказала ему немедля ехать на совещание польских комиссариев с выборными от тушинского войска. И вот с тех пор, как он уехал, она сидела одна в своей комнате. Марина то присаживалась к столу, на котором все было готово для письма, то подымалась с места и прохаживалась по комнате, то с беспокойством подходила к окну и поглядывала на ворота, широко раскрытые на улицу и на этот раз никем не оберегаемые.
«Не едет! – думала Марина. – Ах, Боже мой! Что с ним сталось? Он, – один он, – мне верен, мне предан! В нем вся жизнь моя, все счастье, вся радость… И как мне трудно все это скрывать, таить от него! А он? Он и скрыть не может, не умеет…»
И она опять тревожно начинала ходить по комнате, передумывая все те же думы, тревожась о милом, любимом человеке, и только изредка вспоминая об опасностях, которые ей самой угрожали и более всего угрожали ее супругу.
«Ничтожный, жалкий человек! Презренный трус! Как растерялся он, когда приехало посольство к нашим гетманам от Сигизмунда! Не смел и выглянуть из-за ограды дворца… Здесь просиживал по целым дням со мною… Я должна была одушевлять и ободрять его. Он удивлялся моей решимости… А как он поступал, когда был в силе, когда удача за удачей манили его на престол московский».
В это время топот коня, раздавшийся в воротах, прервал ее думы. Она бросилась к окну и увидела Степурина, который, молодцевато избоченясь, въезжал воротами на хоромный двор.
– Он! Он! Наконец-то! – прошептала радостно Марина, хватаясь за ручку кресел и стараясь подавить в себе овладевшее ею волнение.
Через минуту, овладев собою, Марина опустилась в кресло около стола, разложила на столе длинный листок бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, вывела на листке слова: «Милый, дорогой батюшка!..» Но далее этих слов ничего написать не могла и стала напряженно, страстно прислушиваться к каждому шороху в сенях. Вот наконец внизу на крылечке дверь хлопнула, послышались знакомые шаги, и пахолок, отворив дверь в комнату Марины, доложил:
– Пан стольник Степурин!
– А! Это ты, пан стольник? – сказала Марина, откидывая перо в сторону и стараясь прикинуться равнодушной. – Ну, что скажешь о переговорах? Я готова слушать…
– Дай Бог тебе мужество, чтобы перенести грозящие беды…
– Говори, не бойся! – ласково обратилась к Степурину Марина. – Я на все готова. Я решилась жить и умереть царицей московской!
– Честь и хвала тебе! Но там не то на уме у всех наших спутников! От царя все отреклись, все отчурались… Гетманов сманили комиссары королевские обещаньем воеводств. Полковников и капитанов – посулом жалованья и милостей Жигмонта. А русских перелетов-бояр – медовыми речами. Король Смоленск громит и Северщину всю охватил, а комиссары говорят боярам: король-де хочет, по христианскому милосердию и по соседству, утишить Московское государство и спасти от смуты… А те и верят и к Жигмонту снаряжают уж посольство с повинной…
– Покинуты всеми! – с пренебрежением проговорила Марина. – Добился своего пирами, шутовством да бражничанием с, татарами да с псарями…
– Только татары да псари ему и верны остались, государыня! А там таких речей наслушался я между ляхов, казаков и сбродной тушинской рати, что страшно говорить…
– Говори, пан стольник! – настоятельно сказала Марина. – Я все знать хочу, все знать должна…
– Говорят: «Какой он царь нам? Он обманщик! Долой его! Связать да к Жигмонту в стан отправить!» И если пан Роженский передастся королю, как уже передался ему Сапега, тогда назавтра тут такое будет…
– Довольно, пан стольник! Я должна повидаться с царем, поговорить с ним… спросить его совета! Жди меня здесь в сенях, – я скоро позову тебя!
С этими словами она поднялась с места, ласково кивнула Степурину и направилась во внутренние покои, но не успела еще подойти к дверям, как двери распахнулись настежь и царик, бледный, перепуганный, вбежал в комнату Марины так поспешно, что чуть с ног ее не сбил. Степурин, не успевший еще удалиться, и Марина, озадаченные внезапным появлением царика, смотрели на нею с недоумением.
– Все пропало! Прахом все пошло! – кричал царик, не смущаясь присутствием Степурина. – Изменники, предатели!.. Все милости мои забыли! Хлеб-соль мою!.. Будь они прокляты!
И он бросился в кресло, в отчаянии ломая руки и ероша свои жесткие черные волосы.
– Государь! Великий государь! – твердо проговорила Марина, едва сдерживая порыв негодования. – Ты говоришь не царским языком! Тебе не здесь бы следовало быть, а там, где королевские комиссары подкупают твоих подданных и готовят гибель тебе…
– Что такое? Здесь? Там? Ни здесь, ни там не надо мне быть… А бежать, бежать отсюда без оглядки, – понимаешь?.. Тут уж нечего храбриться, когда до шкуры добираются твои же приятели поляки! Вон уж бояре-то все свои семьи, все имущество отсюда стали вывозить в Калугу… И нам с тобой туда же надо.
Марина отвернулась от царика с презрением: он был ей жалок и гадок в своем припадке малодушия.
– По-моему, – продолжал царик, – теперь же надо, не теряя времени, бежать! Сегодня ночью будет все готово: и кони, и проводники надежные… Так говори скорее: хочешь со мною ехать или пропадать здесь желаешь?
– Нет! Лучше здесь умру, чем с позором убегу отсюда! – сказала Марина. – Свидетельствую перед Богом, что, пока жива, вечно буду стоять за свою честь и достоинство… Раз избранная и поставленная государынею стольких народов, царицею московскою, я буду действовать, как надлежит царице!
– Ну и черт с тобой, с проклятою бабой! – злобно крикнул царик, вскочив с места. – Оставайся тут, пока придут к тебе изменники гетманы и бояре и скрутят тебе руки за спину, чтобы выдать королю… Меня не скрутят, я еще с ними посчитаюсь!
И он, махнув рукой, поспешно удалился во внутренние покои.
Марина бросила вслед ему взгляд, полный ненависти в презрения, и затем обернулась к Степурину, который безмолвно стоял у порога. В его пламенном взгляде Марина прочла такую преданность, такую готовность умереть за нее, такую твердую решимость всюду за нею следовать, что она сочла необходимым сказать ему:
– Пан стольник, тебе я поручаю охрану дворца и моей особы. На одного тебя надеюсь, и если Бог даст мне победить врагов, награжу тебя так, как ты того не ожидаешь!
Степурин хотел что-то ответить ей, но только молча поклонился и вышел.







