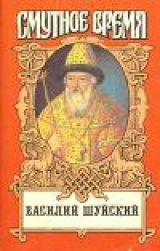
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Сам в царях
1
Княжна Марья Петровна пробудилась от тишины и немоты. Ужас ее объял. Не проглотила ли язык во сне? Губы пересохшие облизнула: не проглотила! И снова ужаснулась: темень-то откуда такая?
«Домовой под печь утащил!»
Не смея пошевелиться, княжна напряглась телом и ощутила под собою перину. И хвать за нагрудный крестик – тоже на месте.
– Проснулась хорошая наша! Яхонт ясный!
То был голос мамки Платониды.
– Где я? – прошептала Марья Петровна, сдерживая слезы испуга.
– В чулане! Не помнишь разве, как поутру переходили? Заспала?
– Заспала, мамушка! – Марья Петровна и лобик поморщила, и за ушко себя потянула – пусто в головке. Совсем перепугалась: – Ма-а-амушка!
– Уж все позади! Уж лежит, говорят, наг и бос и всячески поруган…
– Да кто же?! Кто?! – вытаращила глазки Марья Петровна, и будто уж скользкий под рубашкою по теплой спине прополз.
– Луша! – кликнула Платонида. – Одеваться! Умываться!
– Мамушка, кто лежит-то?
– Да кто ж? Супостат, еретик и враг самому себе.
– Пресвятая Богородица! Господи! – взмолилась княжна, совсем ничего не понимая и боясь спутаться мыслями.
– Царя самозваного убили, – прошептала Платонида. – Теперь лежит он со своим псом Басмановым то ли на самом Лобном месте, то ли возле. Всю свору его побили-покалечили. А стоял за веру Христову в броне и с мечом муж суровый и бесстрашный, радость твоя и гроза твоя, князь Василий Иванович.
– Шуйский?
– Шуйский.
– Мой жених?!
– Твой жених… Царя теперь у нас нету. А будут избирать нового – на кого еще поглядеть, как не на князя Василия Ивановича? – Мамка вдруг рассмеялась, да: рассыпчато: – Легла ты у нас в светелке княжною, а пробудилась хоть и в чулане, от греха, да уж почти царицею.
Марья Петровна на такое несусветное – ни полсловечка в ответ. Молчун на нее напал.
Целый день взаперти княжну держали, но тихо было в Москве. Онемела матушка, оглохла, И пустили княжну с сенной девушкой Лушей в яблоневый сад, чтоб все страхи на румяной заре, на теплых ветерках развеялись и чтоб ночью спалось под сенью доброго ангела…
В полдень со двора ушла полусотня стрельцов, охранявшая дом спозаранок. Не забыл жених невесту даже в отчаянный час свой. Марье Петровне было это уж очень приятно, но она на всякий к ней вопрос улыбалась, а слова сказать не желала. Ей с утра так померещилось: скажет она хоть единое словцо – и добрый воз, прикативший к воротам ее дома, в ворота уж не заедет.
В тот день не обедали. Стыдно есть, когда по улицам убитых собирают. Когда царь-то – Господи! – с дудкой во рту на Красной площади неживехонек.
Сидя на качелях, княжна и Луша видели, как вернулась бегавшая на гиль дворня. Рубахи на многих были в бурых пятнах, и княжна знала, что это за пятна.
– Мы их! Полячишки-то – тьфу! Только усами и страшны, как тараканы. Пятерых укокошил! – похвалялся шорник Агапка Переляй.
Колесник Неустрой шмякнул хвастуна по губам и сказал тем, кто не ходил в город:
– Врет! Поляков побили, может, с тыщу, а наших побито с две тыщи. Мнишек ихний жив. Сам видел. Его водили в терем, к Маринке. Его бы и прибили, да Василий Иванович не велел.
– В цари-то кого?! – спрашивали Неустроя.
– А кого, как не Василия Ивановича? Броня на нем жаром пышет. Гроза. А человека бережет, однако. Кабы не он – в крови бы потонули.
Марья Петровна, чтоб не слушать боле ужасную дворню свою, ушла в самый дальний угол сада, где складывали старые сани и санки. Отослала Лушу за шалью, уселась на облучок, положила головку на ладонь, и клюнул ее в темечко воробьиный сон, короткий, как воробьиный нос. Пробудилась, а яблони все в цвету. Только что пуст был сад весеннею пустотою, а стал как невеста под венцом.
– Быть мне царицею, – сказала-себе Марья Петровна и поглядела в небо, где Господь Бог живет.
2
К вечерней молитве колокола не звонили. Света в домах не зажигали.
Покрыло Москву тишиною, как изморосью. Даже собаки не брехали, напуганные запахом человеческой крови.
Человек человеку звуком о себе весть подает. Звоном молота, тарахтеньем телеги, цоканьем каблуков, поступью лаптей, окликом, говором, шепотом.
Молчала Москва, сокрушенная содеянным. Свадьбу ведь зарезали. Царя!.. Живой царь уж кому-нибудь да нехорош, а вот царь убиенный – всему царству немочь.
Уж кто наслушался тишины, так это бессонный Василий Иванович Шуйский. Половицы и те не желали скрипеть под его ногой. Бродил он по светлице то пустой, как хлебный ларь перед жатвою, то страшно отяжелевая головой, так что клонилась на плечо и тянула жилы из тела, как палач небось не умеет.
Василий Иванович не ложился со вчерашней ночи, а новая ночь никак не наступала. Темнеть не темнеет и светать не светает. Май…
В который раз опустился на лавку возле окна и, щурясь, глядел на белое деревцо: расцвело, что ли? Теперь в бедной голове набухал клубок слов, которые он нынче говорил боярам в Грановитой палате. Потянул за словцо из середины, как за ниточку. Повторял, улучшая: «Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнью Самозванцу… Он мог умертвить меня и помиловал, как милует разбойник ограбленного странника. Каюсь, колебался: подняться ли на еретичество и еретика? Упрек в неблагодарности у моих недоброжелателей был как нож, спрятанный за спину. Но когда я увидел во всех вас ревность к великому подвигу, то и во мне прозвучал глас совести, веры, само отечество вооружило мою руку. Дело, нами совершенное, правое, необходимое, святое. К несчастию, оно не могло быть бескровным. Кровь пролилась. Но Бог, благословивший нас успехом, показал, что оно ему угодно… Избавив царство от злодея и чернокнижника, мы должны крепко подумать об избрании достойного властителя. Племя царское – увы! увы! – пресеклось, но жива Россия. Мы должны искать мужа, усердного к православной вере и к древним русским обычаям. Добродетельного, опытного, зрелого летами, не юного – упаси Господи! – чтобы, приняв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду; ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовью подданных; не золото бы считал и пересчитывал в казне, но избыток и довольствие народа считал бы за свое богатство. Вы скажете: где же найти такого? Но добрый гражданин обязан желать совершенства в своем государе!»
Всего лишь раз в жизни и надо сказать умно и превосходно, чтоб отворились перед тобою Царские Врата. И он сказал это слово. Дело сделал и слово сказал. Можно ли было в нарисованном портрете идеального мужа не узнать его, Василия Ивановича… Коли сумеют сговориться, то и не узнают… Но сговориться-то им надо ради одного из них… Мстиславский слишком горд, чтоб взяться за дело засучив рукава. Вот ежели к нему придут, поклонятся…
Рука сама собою сложилась в шиш. Василий Иванович серьезно поглядел на глупую свою руку и ударил по ней другою рукой.
Все, что теперь крутилось у него в голове, в сороковой, может, раз прошло перед его неведомо где обретающимся внутренним взором. Мстиславский – нет. Василий Голицын – этот хочет и будет стараться. Но Голицын в крови царя. И пусть самозванец – да ведь убийцы! Кровушка таким пятном разольется у трона – не переступят, не перескачут.
Сам он весь тот страшный час, когда северские стрельцы встали за Дмитрия, был возле Успенского собора, на людях. А как дело свершилось, поскакал к дому патриарха Игнатия. И в доме-то опять-таки не был. Не Шуйские сдирали с Игнатия драгоценные ризы, не Шуйские облагали святейшего в монашеское рубище. Но вот когда спросили – кого же еще было спросить? – куда везти, указал Чудов монастырь. Клетка с птицей под рукой должна быть. На воле она таких песенок напоет…
В голову лезли и польские дела. Под сильнейшей охраной Юрий Мнишек был доставлен в Кремль для свидания с дочерью. Удостоверили, что жива и невредима. Потом Мнишека вернули в дом его, а позже к нему через сплошной строй стрелецкого войска провели и Марину. Когда у Марины забирали все ее сокровища, надаренные Самозванцем, вплоть до одежд, ибо камушков да жемчугов с иного платья хватило бы на десяток ювелирных лавок, она бровью не повела. Всякому, кто входил к ней или заговаривал по надобности, смотрела в глаза и отвечала так ровно, так ясно, что каждое слово ее повисало в воздухе льдинкой.
У Мнишека отняли золотыми тысяч десять да скарба тысяч на триста. Пан Юрий охал и каждому сколько-нибудь стоящему дьяку, подьячему напоминал, что он есть подданный короля Речи Посполитой, воевода, и жизнь его королю Польши дорога.
– Не убьем тебя, пан Мнишек. Отпустили бы – войско приведешь. Поживи-ка ты, пан хороший, за хорошими стенами во глубине России, коли русской жизни жаждал. В Ярославле. Не Москва, но и не Тобольск. И дочку твою к тебе спровадим, не обидев. Не побьем и дружков Самозванца. Что они без него?
И впервые за бессонницу свою Василий Иванович усмехнулся.
Вчера вся эта пена, взбитая Дмитрием Иоанновичем, через края корыта полезла. Рубец-Мосальский – вот уж дворецкий! Михайла Нагой – первый человек России, конюший! Афонька Власьев – великий секретарь и великий подскарбий! Боярин Богдан Бельский, Гришка Шаховской, Андрюшка Телятевский… Уже перед тем, как разойтись, все эти пузыри подраздулись и предложили поделить Россию на княжества – всем ведь тогда хватит, и помногу.
Татищев на них нашелся. Сказал мало, но так положил руку на саблю, что у иных героев кровь с лица в пятки утекла. Сколь решителен Михайла Татищев, гадать много не надобно. Еще невесть как бы все обернулось, не всади он нож в Басманова.
Речи последышей Самозванца подвигли Татищева на шаг самый решительный. Перед вечерней явился в сию светелку, приведя с собой Скопина, Крюка-Колычева, Головина – от дворян, Мыльниковых – от купечества, крутицкого митрополита Пафнутия – от духовенства. И пока он, Василий, Богу молился, писали грамоту об избрании, о его избрании на царство. Братья, Дмитрий с Иваном, тоже были в сочинителях, но верховодил Татищев. Он и сказал Василию, когда дело у них было кончено:
– Тебе вручаем Россию. Ты государю Ивану Васильевичу Грозному служил. Государство, как чистопородная лошадь, почует власть в руке, помчит скорее ветра, а коли в той руке власти не будет, понесет дуром, сбросит и растопчет. Не на кого больше поглядеть, Василий Иванович. Принимай узду, за тобой твой пращур святой, благоверный князь Александр Ярославич Невский.
Не совсем это было так, не от Невского Шуйские – от младшего его брата, от Андрея Ярославича, но не всякая правда ко времени. Александр Ярославич и впрямь ведь пращур, кровный, законный.
Сказал Татищев и о патриархе:
– Тебе бы, Василий Иванович, позвать Гермогена. Самозванец понавел на Русь казаков, племя на руку быстрое. Сначала за саблю, а за крест уж потом. Гермоген из донских атаманов. Крепче его в вере никого нынче нет в стране нашей.
Митрополит Пафнутий на Татищева глядел и пыхал, наливаясь кровью. Пришлось об Иове напомнить, силой свели с патриаршего места. Он есть истинный патриарх. Беда, что вернуться захочет ли: стар, слеп, погружен в молитву. И Пафнутия тотчас назвал, а рядом с ним поставил митрополита Ростовского Филарета.
– О духовных пастырях духовный Собор решит.
– Бог! – поправил Шуйского воспрявший духом Пафнутий.
«Бог-то Бог! – думал теперь Василий Иванович. – Кто же, кроме Бога!»
Иов Годунову служил, довольно с него и Старицы. Пафнутий во лжи как в меду. Не признал ведь в Гришке Отрепьеве Отрепьева Гришку, Дмитрия Иоанновича углядел, один из всех чудовских монахов.
Привскочил с лавки, побежал в чулан, за перегородку, где спали братья, в одежде, в обуви, при оружии, чтоб ко всему быть готовыми. Растолкал Дмитрия.
– В патриархи надо Филарета ставить. Получив высшее, что может он иметь в монашестве, искать иного захочет ли? За кого Романовы промолчат, тот и будет царем.
– Как это? – Дмитрий хоть и проснулся, но не понял.
– «Да» Романовы сказать горды, но если они скажут «нет», то не прогневайся.
– Филарета так Филарета. Что ты скажешь, то и будет, – охотно согласился Дмитрий, валясь в постель.
3
Утром все боярство было в Грановитой палате. Поглядывали на Шуйского, на старшего, но Василий сидел тихохонько, слушая больше лысиной, нежели глазами. И даже когда пошли поминать, кто от кого рожден и от кого в ком и сколько золотников царской крови, – смолчал. И тут вдруг князь Григорий Петрович Шаховской воскликнул для громкого собрания совсем некстати:
– А ведь Василий-то Иванович, князь Шуйский, оттого и молчит, что за него род его глаголет. Прародителем ему благоверный князь Александр Ярославич Невский, а пращуром князь Рюрик.
Все замолчали, все посмотрели на Шуйского, ожидая, что скажет.
– Избрать государя надо всею Русской землей. Хоть и долгое сие дело, хоть и надо бы поскорее возжечь светоч царской власти, ибо смутьянов развелось как волков, но нельзя, нельзя поспешать! Уже поспешили и раз и другой. Когда в сей Грановитой палате скоро делается и легко, тяжело и долго всей России.
У многих отлегло от сердца после столь разумной речи. У одного Василия Ивановича кошки на сердце скребли. Отчего Татищев сегодня молчит?
Многие в ту ночь, ложась спать, упирали глаза в край небес. Там оно, наше завтра. Жданное и нежданное.
И какое же было всем диво, когда утром, в шестом часу, всякий рыночный спозараношный люд, заполнив Красную площадь, стал кричать и вопить, что нельзя им без царя, никак нельзя.
Священство тоже рано встает, тоже царя им подавай. Примчались в бояре, кто успел. Сказано было народу: прежде чем царя, нужно патриарха избрать. Без патриарха как венчать на царство?
Тут-то в полетели в спорщиков пирожки да пряники.
– Царя! Царя! – орали пирожники. – Патриарх Богу нужен, а нам царь. Царь Василий Иванович!
– Шуйского! Шуйского!
Шуйского на площади не было, но его сыскали, привели, поставили на Лобное место и всем миром поклонились ему.
Когда боярство собралось в полном составе в Грановитой палате думать думу о царе, Василий Иванович уже сидел на царском месте. И не на том, сыпавшем алмазным блеском. Тот стул в казну унесли. Сидел на деревянном, дубовом стуле с гербом и говорил всякому вновь входящему:
– Народ того восхотел.
4
Пока еще не венчанный, но уже царь, житель кремлевских палат, Василий Иванович дворцовыми переходами в тиши ночной и мраке ночном, сопровождаемый племянником Михайлой Скопиным-Шуйским, не прошествовал, но, боясь посторонней нескромности, не сказать прокрался – проник во храм Благовещенья.
Михайлу оставил у внешних дверей перехода, и тот, хоть и лишился своего иноземного звания мечника, был воистину царским мечником, держа под плащом обнаженное оружие.
Василий Иванович зажег свечи, осветив все Девять икон иконостаса, и пал ниц – царь перед Царем Небесным.
Чернобородый его покровитель Василий Великий пришествовал к Богу с красной книгой своей литургии, с заповедями монашеской жизни, ибо он есть родитель всех монахов – и тех, что под папою, и тех, что под патриархами.
За Василием, ближе к престолу, – златовласый апостол Петр с мечом в руке, огненный крылатый архангел Михаил, златоликая Богоматерь, в центре – белопламенный на алом Спас, и далее: по его левую руку, Иоанн Креститель, архангел Гавриил, апостол Павел с книгою и с книгою же Иоанн Златоуст.
– Вот я перед Вами, светом Господа, и перед Тобою, Бог мой, Спас мой и Суд мой. Я пришел сказать: вся жизнь моя – ложь. Лгал я царю Иоанну и лгал царю Борису; всячески угождая, желал им смерти, ибо царь Иоанн был кровав, а царь Борис лжив. Я лгал лжецу Дмитрию, и не ложь ли, не хитрость ли моя вознесла меня на престол? Каюсь, Господи! Во всех низостях своих каюсь, во всех ухищрениях. О Всепрощающий! Ты ведь читаешь в душе моей. Я желаю государству и народу успокоения и счастливой доли. Я клянусь Тебе и Матери нашей, заступнице: всякое дело, исходящее из уст моих, станет делом совести! Не убью, не обману, не солгу, не пожелаю ни жены чужой, ни чужого достояния, славы чужой себе не пожелаю. Грешен: поднимая меч на царя-чернокнижника, я возмечтал о его троне для себя… Господи, но ведь я из рюриковичей, моя ветка всего ближе к его стволу. Прости меня, Господи, и не оставь!
Он вполз на алтарное возвышение, поцеловал Спаса в ногу, приложился ко всем девяти иконам и, погася свечи, удалился, чтобы наконец-то уснуть и заспать все бессонные ночи, которым он уж и счет потерял.
Пробудился ранехонько, но так свежо было в голове и в теле, что, еще лба не перекрестя, вспомнил милейшую свою Марью Петровну, и его размеренное сердце заторопилось. Патриарха надо поставлять, венчаться на царство и венчаться с невестой, ибо царь без детей – пустоцвет.
В одежде, где всего убранства – узоры из речного русского жемчуга, с царским посошком, на постном деревянном стуле, новый царь смотрелся такою невидалью, что бояре шеи тянули. Но чудо-то, оказывается, ожидало их впереди.
Помолчав по достоинству своему, государь перекрестился, дал знак дьяку, и дьяк ясно, не украшая голосом словес, – наставления тут ему были строгие, – прочитал грамоту, начинавшую новое правление новостью ошеломительной:
– «…И ныне мы, великий государь, будучи на престоле Российского царства, хотим того, чтобы православное христианство было нашим доброопасным правительством в тишине, и в покое, и в благоденстве, и поволил я, царь и великий князь всея Русии, целовать крест на том…»
Замерли бояре: не от них требовали крестного целования государю, но он, царь, самодержец, хозяин земли и воды Российской, распорядитель самой их жизни, попечитель будущего, целует крест им, рабам и червям. Тишина разлилась по Грановитой палате. Дьяк же, сглотнув слюнку, продолжал, забывши царское наставление о сугубой скромности гласа, медвяно и громадно:
– «Мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом… смерти не предать, вотчин, дворов и животов у братии его, у жен и детей не отнимать, если они с ним в мысли не были… Доводов ложных мне, великому государю, не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи, чтобы в том православное христианство невинно не гибло. А кто на кого солжет, то, сыскав, казнить его, смотря по вине, которую возвел напрасно. – И тут дьяк взрыдал не только голосом, но и слезами, умиленный царскою правдою: – На том на всем, что в сей записи писано, я, царь и великий князь Василий Иванович всея Руси, целую крест всем православным христианам».
Чтение закончилось. Думали. Государь поглядывал на бояр строго, но спокойно.
– Не то, великий государь! – хлопнул себя ладонями по груди всполошный человек окольничий Михайла Татищев. – Не государь народу клянется, кланяясь, но народ – государю! Или ты запамятовал правило великого князя Московского Иоанна Третьего? Народ государю клятву дает, весь народ!
Государь ответил тихо, но так, что слышали все:
– Ты на меня, Михайла, на государя своего, закричал, будучи холопом моим, холопским обычаем тебе и сгореть со стыда. – И встал, толстенький, не осанистый, но духом муж и царь. – Я за всякого человека бессмертной моей душою перед Богом ответчик, потому и целую крест вам, бояре, и всему народу.
Тотчас и направился в Успенский собор и, произнеся клятву, целовал крест.
Предстояло, однако, объяснить всей Русской земле, почему же он, разбиравший дело царевича Дмитрия, столько раз менял свои показания в угоду сильному.
Полетели по городам и весям разъяснительные грамоты. Покаялась перед народом вдовствующая царица инокиня Марфа: «Я боярам, дворянам и всем людям объявила об этом прежде тайно, а теперь всем явно, что он не наш сын, царевич Дмитрий, вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, то… прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтобы к нам никто не приходил и с нами об нем никто не разговаривал… И говорил нам с великим запретом, чтобы мне его не обличать, претя нам и всему нашему роду смертным убийством…»
Покаялись бояре: «Мы узнали про то подлинно, что он прямой вор Гришка Отрепьев… А как его поймали, то он и сам сказал, что он Гришка Отрепьев и на государстве учинился бесовскою помощию и людей всех прельстил чернокнижеством».
Тут бы и сказке конец о мертвом царевиче и о живом царевиче. Да Бог иначе судил. Судил Бог Русь за ложь, награждая лжецов лжеславою, помрачая умы лжеклятвами и давая обольщенным лжежизнь.
5
С мамкою Платонидой, с Лушею, с половиной дворни собралась княжна Марья Петровна в Казанскую, Казанской Божьей Матери Помолиться, ибо свершилось – нарекли Василия Ивановича Шуйского царем и великим князем. К ранней велела себя поднять.
Пробудились – Господи, земля белая! На деревьях иней, маковки, луковки, купола все приморожены. Пришлось шубку надевать, сапожки.
Простая душою, Марья Петровна спросила мамку Платониду:
– Не знаешь ли, что это за примета – мороз на цветы?
– Без яблок останемся – вот чего! – сказала Платонида.
– Да я не про яблоки – про царство. Хорошо ли в Первый день царствия – мороз?
Мамка Платонида укрыла княжне ножки пологом, по щечке погладила, а сказать ничего не сказала, не сыскала верного словечка.
Служба уже началась, а народу на паперти было множество, грамотей читал какое-то послание.
– Пошли, пошли, – заторопилась Платонида. – Это «прелестные листы».
Помолясь иконе, поставив свечи, послушав пение, Марья Петровна не утерпела и послала Лушку к Агапке Переляю – пусть узнает, про что они, «прелестные листы».
Ожидая известия, Марья Петровна поглядывала украдкою на людей, гордясь собою: вот стоят и не знают, с кем стоят. Ведь с царицею!
Ей очень хотелось, чтоб протопоп сказал доброе слово о Василии Ивановиче. Иоанновиче…
Так и вышло, как ей хотелось. Принесли грамоту от царя и великого князя Василия Ивановича всея Русии. В той грамоте государь сообщал о бедствии, которое было уготовлено русским людям богоотступником и чародеем Гришкою Отрепьевым. 18 мая во время потешного взятия городка, того, что выстроили за Сретенскими воротами, было измыслено стрелять по людям взаправду. На каждого боярина припасен был убийца. Князя Мстиславского убивать велели пану Тарло, секретарю Маринкиному; Василия Ивановича Шуйского – пану Стадницкому. И то не домысел досужий – покаянное признание воеводы Юрия Мнишека и братьев Бучинских, советников Самозванца.
Марья Петровна, слушая такую страсть, побледнела и покачнулась, но ушки тотчас пришлось навострить: протопопу подали еще одну грамоту, от людей.
– Эту тоже чти, батюшка!
И батюшка прочитал:
– «Народ мой! Дети мои христолюбивые! Двоедушные бояре, помышляя об одном лишь своем обогащении и не желая России величия и покоя, тайно сговорились и устроили бунт, ища моей смерти. Но я жив! Бог со мною! Он отвел от меня злую руку с ножом. И тот нож поразит моих врагов. Я скоро возвращусь к вам и покараю изменников!»
К бедному протопопу подбежали соглядатаи, выхватили из рук его «прелестный лист». Народ вздыхал. Послышался плач.
Мамка Платонида потянулась к ушку Марьи Петровны и шепнула:
– Пошли, княжна! Как бы нас с тобой не затолкали. А Лушу мы оставим, она нам все и расскажет.
И Луша такого принесла, чего и сорока на хвосте не носит.
Лежал возле Лобного места, с «харей» на лице и дудкою во рту, не Дмитрий Иоаннович. Тот, кто лежал, был с бородою, а у Дмитрия Иоанновича борода не росла. Грудь у того, с дудкою, была волосатая, и сам был толст, а Дмитрий-то Иоаннович по молодости телом был чист и ладен. Дмитрий Иоаннович спасся и жив. Чего бы на мертвеца «харю» надевать? Потому и надели, что не того убили.
От Лушиного рассказа ноги леденели – такая все страсть! Но батюшка привез из кремлевских палат историю, Лушиной занятнее. В полночь, когда убиенные уж лежали на Красной площади, в малую кремлевскую конюшню пришел человек с письмом царя Дмитрия. Его руку конюх знал, и по тому письму тот тайный человек взял из конюшни трех лучших турецких лошадей, и те лошади как в воду канули.
Заломило виски у Марьи Петровны, защемило сердце – кинулась, бедная, в сад, на место свое укромное. В саду и разрыдалась: весь цвет яблоневый, белый, невестин, черным стал. Мороз побил.
Всю ночь проплакала, подушку пришлось к печке приложить – с двух сторон намокла.
«И не хочу я никакого царства!» – сказала себе под утро вконец измученная Марья Петровна и, поглядев в окно, белесое от морозного облака, отмахнула все от себя ручкой и так заснула, что и к обедне не добудились.
6
Государь Василий Иванович нежданно не только для ростовского владыки Филарета, но и для самого себя совершил троекратное целование, подскакивая для очередного поцелуя, как петушок.
– Слава Богу! Слава Богу! – шелестел, как железо о железо, тонкими, спрятанными в рот губами. – Поезжай, выкопай и со всею славою доставь в государыню-Москву. Святому – святое, царю – царское. Место Дмитрию-царевичу в Архангельском соборе, среди гробов великих его пращуров. Да спасет молитва его нас, грешных!
И, не давая слова в ответ сказать, передал Филарета в руки новгородского митрополита да благовещенского протопопа.
Великое дело – постановление в патриархи – было совершено с такой поспешностью, без должного чина и службы, что Филарет, попавший в объятия царя прямо из возка, участвовал во всем хоть и не без внутреннего торжества, но, однако ж, только по боярской опытности сдерживая в себе протест: «Чего ради столь непозволительная спешка? Ведь не в сеунчи посвящают – в патриархи!»
Но сам Шуйский и разъяснил ему происходящее: сие не постановление есть на патриаршество – наречение. Дмитрию, могиле его поклониться должен не один из иерархов русских, но высший иерарх. Постановление же на патриаршество будет совершено после принесения мощей святого отрока в Москву. После очищения России от скверны лжесвидетельств и лжеклятий. С Богом!
Отпели «Символ веры» – и в дорогу. Подсаживая нареченного патриарха в карету, Шуйский пошептал ему на ухо:
– Про ножичек я клятву давал. Зарезался, мол, царевич. Поразмысли про ножичек. Нехорошо, коли вспомнит про ножичек.
Дорога Филарету предстояла длинная, и он отставил от себя царские шепоты, предаваясь сладкому созерцанию любезной Москвы.
Ехал из своего почтительного изгнания на доброе, долгое житье, а приехал, оказывается, на молебен – и прощай Москва.
Однако ж Филарет не сетовал на царя. Вот если бы другому отдал Шуйский сию службу. Такую службу служат избранники Божии, и Филарет принимал свой жребий как должное, как законное степеням его, но с теплом в груди. Василий-то Иванович, государюшко, тоже ведь пока что лишь нареченный. Царь, да без шапки!
Москва была вотчиною души всего рода Филаретова. Боярин Федор, по прозвищу Кошка, пятый сын Андрея Кобылы, верного слуги Ивана Калиты, почитался стволом их родового древа. Правнуки Федора служили Дмитрию Донскому, Василию I, Василию II, Иоанну III, но никто не подымался выше Никиты Романовича – Филаретова отца. Любимец Иоанна Грозного, он был не из тех любимцев, кто по прихоти царя шкуры драл с людей, но заступник гонимых, воистину боярин и воистину воевода. И царь его любил, и народ любил.
Вместе с Филаретом в Углич ехали Феодосий астраханский от священства, а от царя и бояр – князь Иван Михайлович Воротынский, Петр Никитич Шереметев, Андрей и Григорий Нагие.
На первом же стане Шереметев, улуча минуту, спросил Филарета напрямик:
– Тот ли царь над нами? Не больно ли плюгав?
Филарет помолчал-помолчал, но спросил:
– Какого же тебе царя надобно?
– Законного. Законнее Романовых нет в Московском царстве. Шуйский такой же вор и похититель престола, как Бориска, как Самозванец.
– Молись, и Господь, быть может, услышит тебя.
– А я молюсь! – сказал Шереметев и усмехнулся.
Царские послы ехали за мощами пресветлого отрока, а царь ради хранимого им царства по три раза на дню хаживал в Пыточную башню.
Пытали конюха, отдавшего лошадей неизвестному человеку. Досадуя, до смерти замучили, но ничего не узнали.
Нашли и пытали хозяина двора, где ночевали наездники трех турецких лошадей.
– Был ли среди тех троих Самозванец? – спросил Шуйский.
– Самозванца не знаю.
Шуйский поморщился, поерзал на лавке, но все же молвил ненавистное ему имечко.
– А был ли среди тех троих Дмитрий?
– Дмитрий Иванович был! – охотно закивал испытуемый.
– А ты его раньше видел?
– Мы же на реке живем, на Оке. Далеко от Москвы.
– Так видел ты Дмитрия Иваныча?!
– Видел.
– Где?
– В дому у себя. Видный, статный.
– А в Москве ты его видел?
– Так мы же на реке живем, на Оке. Я Дмитрия Ивановича сам на дощанике на ту сторону перевозил.
– На ту?
– На ту самую. В степь поехал, по государеву по своему тайному делу.
Сыск обнаружил: из Москвы исчез дворянин Михайла Молчанов, тот, что мученически убил царя Федора Борисовича.
7
Пора было решать судьбу поляков, всего огромного свадебного поезда. Послов Сигизмунда приняли бояре. А выговаривал им князь Федор Иванович Мстиславский.
– Пенять вам, паны, на то, что чернь побила ваших людей, негоже. Козни вашего короля Сигизмунда, ваших ясновельможных милостей Мнишека, Вишневецкого и многих иных воздвигли жалкого расстригу на опустевший престол Москвы. Бродяга казнен по своим заслугам. Казнен не палачом, но самой Россией. Ваши паны побиты чернью за их наглость, за обиды, причиненное людям и святыням. Король и вы, паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования, есть источник совершившегося злодейства.
Мстиславскому ответил Олесницкий:
«– Разве мы пали к ногам того, кто назвался Дмитрием? Не воеводы ли московские, не войско ли московское? Разве не вы, бояре, выехали ему навстречу со знаком царской власти, вопя друг перед другом, что принимаете государя, любимого от Бога? Недели не минуло, когда вы кипели гневом, доказывая нам, что не поляки привели Дмитрия на царство, но что это вы, вы! Здесь неделю тому назад, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявили ни малейшего сомнения в роде и сане вашего государя. Одним словом, не мы, поляки, но вы, русские, признали своего же русского бродягу Дмитрием, встретили хлебом и солью на границе, привели в свой стольный город, короновали и… убили. Вы начали, вы и кончили. Для чего же винить других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением?
После оглушительной этой речи воцарилось молчание. Наконец Мстиславский собрался с духом и сказал:
– Вы были послами у Самозванца, а теперь уже не послы. А коли так, не должно вам говорить столь вольно и смело.
После небольших прений решили: все поляки могут свободно выехать на родину. Судьба послов, семейства Мнишек, Адама Вишневецкого и других знатных панов решит король Сигизмунд, к которому для переговоров уже отправился князь Волконский. Мнишекам для жизни назначен город Ярославль, Вишневецкому – Кострома, товарищам их – кому Тверь, кому Ростов, послы же остаются в Москве. Всем даруется право свободно писать к своему королю.







