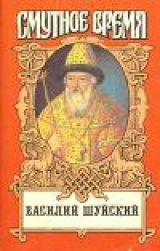
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
Казалось, река не воду несет – воздух.
От этой синевы Василису вспомнил. Заупрямилась, не поехала из Шуи, не пожелала с младенцем разлучиться.
Не жалел, что не приказал силой доставить. Много ли радости от женщины, заливающей подушку слезами? Да ведь и сам не домосед, поход за походом.
Повел глазами по заречью, по голубым дальним холмам – тихо. Тихую службу посылает Господь, а вот Ивану Петровичу всю жизнь достается.
Встали перед глазами псковские башни и башни игрушечной крепости в уютной московской горнице.
«Господи!» – помолился об Иване Петровиче и каждою кровинкою своею ощутил, как же он не хочет, чтоб явился сюда хоть один татарин…
Торопясь в Серпухов, к первому в жизни полку, Василий Иванович сгоряча желал себе прихода хоть какого-нибудь мурзы, бея, бека, но в Серпухове эта глупая блажь быстро сошла с него.
Сторожить покой показалось куда как дорого, нежели – пусть со славою – кого-то побивать, гнать, в плен ловить.
Сначала Василий Иванович испугался: неужто он трус? Рисовал себе страшные картины многолюдного свирепого нашествия, сражения в кольце врагов – нет, не чувствовал смертной тоски! И много так себя испытывал, много спрашивал опытных бойцов и согласился наконец признать: благодарность Господу за дарованную тишину и за покой – есть признак возмужания.
– Князь! Князь!
Василий Иванович вздрогнул. Через Оку переправлялись трое всадников. Разведчики.
– За сто верст ездили, о татарах ни слуху ни духу. Донских казаков встречали, говорят, на сакмах пусто. Лето было жаркое, трава выгорела. По такой степи в поход идти – коней потеряешь.
К Василию Ивановичу подъехал второй воевода князь Иван Шестунов, сказал с горечью:
– Чего мы тут стоим? С таким полком ко Пскову надо поспешать, Обатуру бок продырявить.
– Заслонять Москву – дело не последнее, – возразил Василий Иванович.
– Да кабы было от кого!
– Потому и никого, что мы тут есть.
– Не помогли в позапрошлом году Полоцку, не помогли Лукам Великим, а ныне Пскову ниоткуда нет помощи! – в сердцах сказал Шестунов и поглядел на умного Шуйского, словно это он ставил полки в Серпухове, на Волоке Ламском, большую силу держал в Новгороде, в украинных городах, в Ливонии…
– Не горячись! На царя нашего недруга его со всех сторон ныне ополчились. Не слышал ты, что ли, генерал Делагарди Нарву взял. То великий убыток государю. Еще неизвестно, где наш полк будет государю Ивану Васильевичу надобен.
Разговорился и был недоволен собой: молчание – золото. О молчании пространного доноса не составишь.
Горячность князя Шестунова была искренней, стремление идти ко Пскову стало уже общим стремлением русских воевод. Царь знал о нем не от одних шпионов, но прежде всего от сына, от царевича Ивана Ивановича.
Жизнь в Александровской слободе после возвращения государя из Старицы была такая размеренная, молитвенная, обыденная, словно войны в царстве не случалось уж сто лет.
Царевич Иван воспламенялся гневом, приходил к отцу, на коленях просил дать полк, чтоб идти на короля, пока Псков жив.
– Хочешь славой со мной сравняться? – мрачно отшучивался Грозный. – Опоздал. Я Казанское царство покорил двадцати трех лет от роду.
– Государь-батюшка, отец мой милый! Не о славе думаю, о спасении Пскова, о спасении твоего царства! – в отчаянье бился головой об пол Иван Иванович.
– Мое царство Бог спасет.
И однажды царевич не сдержался.
– Трус! – кричал отцу в глаза. – Ты и в Казани был трус, воеводы просили, чтоб ты шел с полком на приступ, а ты Богу молился.
– А я Богу молился, – сказал Грозный, глядя, как яростен его сын и как беспомощен. – Я и теперь помолюсь.
– Но Обатура можно разбить наголову.
– А если он тебя разобьет?
– Отец, польское войско измучено осадой, оно потеряло лучших бойцов. Ведь и нужно-то – показаться. Неужели ты боишься, что слава сыну твоему достанется! Да я всю эту славу положу до единого гроша к подножию трона твоего.
– Пошел вон! – заорал на Ивана-меньшого Иван-большой.
Царевич понял: отец скорее убьет его, чем отпустит на войну с королем. Победа, добытая сыном, государю всея Русии была страшнее падения Пскова. Иван чувствовал: отцова неприязнь обрушилась на головку ласковой, беременной Елены. Так ждал внуков, а теперь на живот невестки смотрит брезгливо, подурневшее лицо юной женщины ему отвратительно. При виде Елены сопит, фыркает, отворачивается…
Уехать бы – не пускает.
34
В конце октября князья Шуйские Василий Иванович да Андрей Иванович воротились с полками в Москву. Государь позвал их в слободу.
Брат Дмитрий встретил царевых воевод радостно, но не мог удержаться от похвальбы. Он и с Богданом Яковлевичем Бельским дружен, а у государя ныне нет человека ближе. И Борис Федорович Годунов его в гости любит звать. Рассказал о своих подвигах в Старице.
– Великий государь поглядел на меня, как волхв, пронзил огненным взором и молвил: быть тебе великим воеводой.
– Вот и будь, – согласился Андрей.
Василий хмурился: пуще огня страшна дружба с любимцами Грозного, но Дмитрий далеко не заглядывал, предлагал старшему брату содействие.
– Тебе скоро тридцать лет стукнет! Приласкай Богдана Яковлевича, приласкай! Он тебе быстро боярский чин добудет! – и добавил простодушно: – Будешь ты боярином, тогда и нас с Андреем пожалуют. Подари Богдану Яковлевичу ружье какое-нибудь немецкое, причудливое. Он – охотник.
– Я ему на охоте дорогу перешел, – сказал Василий, мрачнея.
– Умные люди – незлопамятны, а Бельский Годунова умней и верней. Государь его поставил Аптекарским приказом заведовать.
Главный аптекарь Грозного, оружейничий и советник, на помин оказался необычайно легким. Пришел в гости к Дмитрию вместе с царским доктором Иоганном Эйлофом.
Говорили о ранних холодах, а Богдан Яковлевич рассказал о множестве зайцев, застигнутых нежданной зимой – не успели переменить серый цвет на белый. Об охоте на тетеревов.
Тут князь Дмитрий принес ружье. По ложу узоры из моржовых бивней, по стволу чернь.
– Прими, Богдан Яковлевич! Но первый тетерев из него – мой.
Василий и Андрей переглянулись: ружье-то, оказывается, было приготовлено. Бельскому подарок понравился. Княгиня Екатерина Григорьевна, выходя к гостям потчевать чашею, поднесла доктору кружевное покрывало. И тоже угодила.
– Здесь работы – на год! – изумлялся Эйлоф. – А сколько благородства в этих таинственных и прекрасных узорах! Ваша страна меня постоянно удивляет. Если бы не война, столь тягостная для любого народа…
И доктор принялся тузить словами ненавистного ему иезуита Антонио Поссевино.
– Мне говорили голландские купцы, что, будучи у короля Стефана, эта змея обещала королю именем папы лавры Карла Великого, лишь бы победил московского царя, лишь бы расширил пределы католической веры. А его величеству Иоанну Васильевичу сей Янус обещал славу Александра Македонского, первенство среди всех христианских кесарей, правда, в обмен на принятие русским народом католицизма.
– Государь ухищрениям Антона Посевина не поддался, – возразил Бельский, – принимал милостиво, потому что Антон обещал уговорить короля Стефана на замирение.
– Я думаю, посол папы, пребывая в стане Батория, не о мире хлопочет, а о продолжении войны.
– Ты больно сердит, Иван! – сказал Бельский царскому доктору. – Но я тебя люблю, потому что тебя государь любит. Выпьем же братскую чашу за здравие хранителя драгоценной жизни великого нашего царя!
Пили из братины по очереди, и доктор Эйлоф был доволен близким знакомством с Шуйскими, братья славились родовитостью, а их родственники воеводы Шуйские спасали царя и отечество, обороняя Псков.
На другой день к Василию Ивановичу подошел Борис Годунов.
– С Бельским вчера пировали?
– Борис Яковлевич приходил поздороваться со мной да с Андреем.
– А какие песни пел?
– Не было песен, Борис Федорович, – улыбнулся князь. – На охоту звал, тетеревов гонять.
– Я думал, Богдан одним лосям рога сшибает, а он, оказывается, и до птицы горазд, – взял Шуйского за правую руку, приложил к своей груди. – Мы с тобой молчаливые, но старые друзья. Много страстей пережили, и впереди у нас – много.
После таких разговоров Василий Иванович надолго терял покой.
На охоту Бельский и Шуйские ездили на Иону, пятого ноября.
Отправились затемно.
Снег был неглубок, но возле березовых рощ наметало с полей, и косачи пырхали из снега навстречу заре шумно и беспечно.
Нагляделись на белую красоту молодой зимы, настреляли три дюжины птиц. Воротились радостные. Лучших тетеревов поднесли царю и царевичам.
Обедали у Бельского, тот на тетеревятнику позвал Бориса Федоровича и доктора Эйлофа.
Попировали, разошлись по домам, поспать после обеда. И поспали, не ведая, какое будет им пробуждение.
– Василий! Василий! – тряс брата за плечо царский кравчий.
Василий Иванович вскочил.
– Горим?!
Дмитрий смотрел ему в глаза, приложив палец к губам. Прошептал:
– Царь невестку прибил.
– Ирину?
– Елену.
– Она же на сносях.
– Выкинула.
Василия Ивановича замутило. Сел.
– Эйлоф отхаживать побежал… Делать-то чего? – Дмитрия колотил озноб. – Делать-то чего?
Василий Иванович прикрыл брата одеялом, оделся.
– Сидеть и не показываться… Ничего не знаем, не ведаем.
– Он ее клюкой своей. – Зубы у Дмитрия стучали.
– Ну чего ты? Не тебя же прибили!
– Он в живот ей клюкой тыркал… «Сраму, – кричал, – не ведают!» У царя натоплено – не продохнешь, она, бедная, вышла продышаться в сени в одной рубахе, на лавку прилегла, а он и увидел…
Василий Иванович натянул один сапожок, а про другой забыл.
Так и встало перед глазами: Грозный водит пальцем по книге Иоанна Златоуста: «Почему я жалок, как иудей…»
– Ведь он внука своего убил – вырвалось у Василия Ивановича.
– Делать-то чего?
– Пошли помолимся.
– За… кого же? – Дмитрий побледнел.
– За Иоанна, за Елену, за Василия, за Андрея, за Дмитрия, за Александра и за Ваню нашего, за меньшого.
Дмитрий цепко ухватился за плечо брата.
Они пошли из спальни, к образам.
Перед иконами Дмитрия опять затрясло.
– Боюсь! Молиться боюсь! – и вперился глазами брату в ноги.
– Хочешь, я воды тебе принесу?
– Василий, на тебе сапожок-то… один.
И смотрели оба на босую ногу и никак не могли сообразить, что же сделать-то надо.
35
Шестого ноября приехал, гонец от Антона Посевина: польский король хоть и не оставил мысли взять Псков зимой, но даже неистовый канцлер Замойский в большом смущении, ибо вызвал ненависть войска строгостью и крутостью мер против всякого, кто не желает более пытать счастья. Самое время присылать государевых послов говорить о вечном мире.
Иван Васильевич обрадовался, и тотчас в Москву поехали самые скорые гонцы – звать бояр и дьяков.
Восьмого ноября Дума на заседании в Александровской слободе единодушно согласилась: мир зело надобен, ибо всюду разорение и худоба. Приговорили в обмен на ливонские города требовать от Батория, чтоб вернул царю Великие Луки, Заволочье, Себеж, Невель, Холм, Печоры, псковские пригороды. Иван Васильевич, однако, крепко стоял на том, что всей Ливонии уступить королю невозможно.
– Желаю сохранить для себя и для моих преемников титул государя Ливонского, а по сему хоть самое малое количество городов – пусть хоть с полдюжины – останется под нашею рукою.
Царевич Иван не пришел в Думу – вечером он бесстрашно и жестоко надерзил отцу.
– Ты – волк! – кричал он, не помня себя. – Отнял у меня двух жен и на третью покусился! Умертвил в утробе бедной моего ребенка, свою собственную кровь. Видеть тебя не хочу!
Грозный стерпел правду, но был недоволен самовольством Ивана, не пожелавшего выказать смирения отцу перед лицом Думы.
Как на грех, 9 ноября в слободу прискакал, загнав насмерть не одну лошадь, гонец от воеводы Ивана Петровича Шуйского.
Царь с боярами готовили наказ посольству, и гонца слушали царевич Иван, братья Шуйские да Бельский. Гонец рассказал о последнем жестоком приступе короля Стефана.
– На Параскеву Пятницу, двадцать восьмого октября, перешла венгерская да польская пехота реку Великую по крепкому льду и, закрывшись фурами, принялась подкапывать стену, чтобы рухнула и чтоб стал город Псков как младенец без свивальника. Тогда воеводы Василий Федорович Скопин-Шуйский и Иван Петрович Шуйский, – сказывал гонец, – велели сверлить в земляной стене оконца и бить гайдуков из ручниц, колоть копьями, а под стены велено было кидать зажженное тряпье, чтоб выкуривать гайдуков зловонным дымом, и опускали шесты, имея на них веревки с крюками, и теми крюками гайдуков из-под стен вытаскивали. Гайдуки не стерпели, отступили, и Обатур пять дней и ночей бил из-за реки по стене и по городу из пушек, а на Акиндина и Пигасия, второго ноября, пошел великим приступом, да только людей своих положил. Весь лед трупами, как мостом, накрыло. Тут милостью Божьей, повелением царя Ивана Васильевича прошел сквозь литовское войско невредим большой обоз стрелецкого головы Федора Мясоедова, а с ним три сотни стрельцов. На радостях воевода князь Иван Петрович ходил на вылазку, многих немцев побил, многих взял в плен. И не стало у короля терпенья, в ночь на преподобного Варлама Хутынского все литовские гайдуки и ротмистры из окопов вышли и орудия от всех тур отволокли. Мы думали, король прочь уйдет, но языки говорят: Обатур решил измором сломить город Псков.
Выслушав столь радостное сообщение, царевич Иван Иванович сам отвел гонца в Думу. Бояре известию обрадовались, воздали хвалу славным воеводам псковским, но никаких перемен в наказе послам не сделали. С тем царь и отпустил бояр и думных людей.
А вечером по слободе прошел слух: Иван Иванович занемог. Наутро уже другое сказывали: царь крепко поучил старшего сына. Наследник требовал ко Пскову спешить. Иван Васильевич за ту дерзость угостил его клюкой, а клюка у Ивана Васильевича с копьем на конце.
Приметили – Годунов исчез. Молва объяснила: ему тоже досталось царское угощение. Еще и смеялись:
– Все-то ему хочется быть ближе ближнего. Вот и попал Ивану Васильевичу под горячую руку, изведал, как жжется.
Царь ходил в церковь, слухи о побитом Иване Ивановиче стали увядать, но доктор Иван Эйлоф, встретив князя Василия Ивановича, шепнул:
– Привезите для Годунова доктора, Борис Федорович ранен, а мне от царевича не велено отходить…
Легко сказать: привезите доктора Годунову – уж такую беду на себя накликаешь, но и не привезти нельзя. Князь напился жостеру, чтоб несло, и послал за доктором.
Но Грозный его опередил.
Удивленный отсутствием Бориса Федоровича, царь спросил придворных:
– Куда подевался Годунов?!
Кто знал – молчали, кто не знал – перепугались: не ответишь государю как следует – в немилость попадешь.
Но тут Федор Нагой, отец царицы Марии, смекнул: вот она, долгожданная минута.
– Борис Федорович, государь, брезгует службой у тебя!
– Брезгует?! – Иван Васильевич сломал бровь, и кончик ее трепетал, как трепещет хвост придавленной камнем змеи. – Брезгует… А ну-ка пошли к нему.
Толпа придворных рысцой повалила за государем, он был стремителен, когда кровь ударяла ему в голову.
Годунов лежал в постели. При виде царя поднялся в великом смущении:
– Помилуй, Иван Васильевич! В исподнем перед тобой!
– Почему ко мне не ходишь? Брезгуешь?
– Болею, государь.
– Покажи мне твою болезнь.
Годунов спустил рубаху с плеча – повязка, поднял полу – другая.
Царь вдруг наклонился, рванул – а на боку рана, гноище. Лоб у Бориса Федоровича бисером покрыло.
– Ложись, – сказал Иван Васильевич, – я к тебе Эйлофа пришлю.
Пошел было, но с порога вернулся, поднял рубаху на Борисе, смотрел на раны.
– Три на груди, на боку сколько?
– Тоже три…
– На плече, на руке… – вдруг грозно окликнул: – Нагой! Тестюшка! Поди ко мне.
Федор Федорович подошел.
– Вот почему Борис на службу не ходит.
– Прости, государь.
– Прощу, но прежде тебя отметят теми же заволоками, что у Бориса Федоровича, чтоб одна к одной.
Обнял пострадавшего от царской руки, поцеловал:
– Берег ты моего сына! Себя подставляя, берег! Ты – слуга, Годунов. Воистину слуга!
– Государь, не прогневайся! – Борис Федорович ладони сложил перед лицом, – Дозволь о здоровье царевича спросить.
– Худо, Борис.
Повернулся и прочь пошел, громадный, черный, с клюкой…
36
Царевич Иван Иванович умер в день предпразднества Введения во храм Пресвятой Богородицы. Угодные люди преставляются в большие праздники.
Ночью князь Василий Иванович в свой черед сидел у гроба царевича. Видел следы ран на голове, пробитое ухо. Лицом Иван Иванович был покоен, прекрасен. И, может, таким же покойным и прекрасным стало бы его царствие… Грозный не появлялся, но, выходя из палаты, Шуйский услышал вой. Волк так не воет. Лютой была скорбь царя, такая же лютая, как вся его жизнь. Шуйского вдруг осенило:
«В Старице… Иван Васильевич ведь храм Введения поставил, Старицких поминать. А выходит, сия церковь поминки по сыну. – И снова, в который раз вспомнился поход с царем к Микуле Святу. – Вот когда Иван Васильевич слободку слезами залил!»
И еще одна мысль поразила:
«Ведь он собственной рукой истребил корень своего рода. Внука ли, внучку ли – во чреве сыновьей жены, а потом самого сына… Один блаженный Федор остался».
37
Зима, глядя на дела человеческие непотребные, до того взъярилась, что кресты на церквах от мороза звенели.
В такой-то мороз привезли гроб царевича Ивана Ивановича – в Москву, в соборе похоронить.
На другой же день после похорон царь созвал Думу и явился перед нею, как в опричнину, в черной рясе, с лицом синим, озябшим, с глазами потухшими. Подошел к трону, постоял в задумчивости перед ним, но сел.
– Изнемог я от моего несчастья, – сказал Грозный. – Ничто мне на этом свете не мило, ничто не дорого… Примите золотые вериги власти, вручите их избранному вами. Мономахова шапка тяжела стала для моей головы.
Бояре пришли в великое смятение, пали перед царем на колени, и старший в царском синклите Никита Романович Юрьев сказал ответное слово:
– Государь! Царь великий! Крепость и надежда наша, не мыслим без тебя не токмо, как управиться с государством, но даже дышать без тебя не сумеем.
– Еще как сумеете, – горько усмехнулся Грозный. – Среди вас есть немало людей родовитых, мудрых. Хотя бы и тебя взять, Никита Романович, или Мстиславского Ивана Федоровича, а то и Василия Ивановича Шуйского…
– Ты, ты – господарь навеки! Ты – наше солнце! – закричал чуть не в беспамятстве от ужаса родовитый боярин и готов был голову расшибить, ударяя лбом в пол.
– Думайте, о чем сказано вам, – молвил Грозный. – На то вы и Дума, чтобы думать, а я поеду к Троице, преподобному Сергию помолиться, принести Господу покаяние.
С тем и отбыл.
Снова ждали казней, но Грозный дарил монастыри и церкви деньгами. Приказал составить для вечного поминанья синодик убиенных в опричнину. Издал указ против доносчиков. Холопы за ложь на своих господ – отныне платили головой. За клевету на боярина полагалась казнь самая жестокая. Ябедников из простого народа – пороли и отправляли в казаки.
А между тем из Александровской слободы пришла весть, смутившая многих: царица Мария Федоровна – забеременела.
38
Государевы послы князь Елецкий и печатник Алферьев 15 января 1582 года заключили с поляками в деревне Киверова Гора, возле города Яма Запольного перемирие сроком на десять лет. Из всей Ливонской земли для царя и Московского государства удалось им отстоять единственную крепостенку – Новгородок. Отошли к полякам Полоцк, Велиж, вернулись Великие Луки, Холм, Невель, Заволочье…
Ливонская война, все победы, вся кровь – пошли прахом. Сама жизнь царя Ивана Васильевича, само его царствие обращались в прах. В грамоте замирения его уже не величали царем, не были помянуты титулы царя Казанского, царя Астраханского, – как был с младенческих лет великим князем, так и стал.
Занемог Иван Васильевич. Душевная немочь передавалась телу, и, чувствуя, как берет над ним верх злое лихо, позвал дьяка Андрея Щелканова, велел завещание писать. Оставлял свое царство Иван Васильевич скорбному здоровьем и умом сыну Федору, в совет ему написал ближних людей: князя Ивана Федоровича Мстиславского, князя Ивана Петровича Шуйского, истинного воеводу, Никиту Романовича Юрьева и своих любимцев – Бельского, Бориса Годунова…
– Себя тоже припиши, – приказал Грозный.
Тайны из своего завещания царь не делал, и не много понадобилось времени, чтобы двор превратился в омут, полный бесами.
В ту пору, после славной победы князя и воеводы Ивана Петровича, все Шуйские были в славе и у народа на языке.
Богдан Федорович Бельский позвал в гости Василия Ивановича и подарил чудесного валашского коня.
– Скакать тебе, князь, далеко и скоро!
На пиру никаких особых слов не сказывал, но провожал задумчиво.
– Боюсь за царевича Федора Ивановича, ангельская душа, но как бы сам черт не оказался возле его уха.
Шуйский перекрестился, и Бельский перекрестился, и спросил:
– Хочешь, с Нагими тебя сведу ближе? Вернее, чем они, у государя ныне слуг нет… – и шепнул, поблескивая глазами: – Я у волхвовицы Унай спрашивал о царице, сказала: родится сын.
На другой день князь Василий Иванович ездил в Симонов монастырь. Выходя из храма, нос к носу столкнулся с Борисом Федоровичем Годуновым.
– Бельский, говорят, коня тебе подарил?
– Уж очень хороший конь! – Василий Иванович изобразил расстроенную озабоченность. – Подарки любят отдарки! У меня таких лошадей не водится.
– Держись старых друзей – и будут, – посоветовал Годунов.
– Истина глаголет твоими устами! – вдохновенно сказал Шуйский, помаргивая глазками.
Дома разгоревался: в какую сторону позволить перетянуть себя?
Бельский ныне ближе к царю, обошел Годунова, но ведь они – старые приятели. Им сговориться недолго.
Решил повременить: не показываться ни царю, ни его близким слугам.
Вот тогда и громыхнули небеса над его головой. Так громыхнули – звоном уши заложило, глаза – тьмой.
В обеденный час явился в дом к Василию Ивановичу Шуйскому дьяк Фролов с дюжиной детей боярских и отвез на Пыточный двор.
Огонь в застенке не горел, палачей не было, но князя оставили здесь, пока одного.
Сидел перед дыбой, возле которой на двух столах лежали клещи, иглы, молотки для дробления костей, ножи, от крошечного до чудовищных тесаков, набор пил.
Страха Василий Иванович не чувствовал. Он ничего не чувствовал: не метался даже мыслями, ища спасения. Пришел его черед.
Солнце перебирало лучами в высоких, под самой крышей, оконцах, минул час и другой. Никто не приходил. Знать, это тоже пытка.
Василий Иванович, прикрыв глаза, читал молитву Богородице, не крестясь, не считая. Читал и читал, то поражаясь словам, то теряя в них смысл…
Засовы разомкнулись стремительно. Стремительно вошел дьяк Фролов. Василий Иванович торопливо договорил про себя молитву до конца, поднял глаза. Рядом с Фроловым стояли братья: все четверо.
– Государь налагает на тебя опалу, – сказал Фролов, – но по милости своей отдает тебя на поруки твоим братьям.
Василий Иванович, слушая приговор, встал. И продолжал стоять.
– Берите же его! – сказал Фролов братьям.
Андрей и Дмитрий подошли, помялись, но взяли его под руки, повели, Александр с Иваном семенили с одной и с другой стороны. Василий Иванович повернулся к Фролову.
– А можно мне в Шую поехать?
– Ты в полной воле своих братьев, – сказал дьяк.
…Отчего прогневался великий государь, братья угадать наверняка не умели. Годунов оговорил, Бельский?.. А может, ни тот, ни другой, а донесли Грозному со стороны, дескать, оба его любимца ищут в Шуйском опору, для будущей дворцовой собачьей грызни. Но, может быть, царь вспомнил, что назвал князя Василия претендентом на великокняжеский стол?
Братья решили – безопаснее всего сесть в московском дворе, молиться да нищих кормить.
39
А война между тем никак не кончалась! Шведы, завидуя Баторию, спешили прибрать к рукам русские города, но князь Дмитрий Хворостинин разбил шведских генералов и уже собирался идти на Нарву и взял бы, да король Стефан пригрозил войной.
Пришлось отвести войска к Серпухову, хана тоже в гости ждали.
Большая ногайская орда прорвалась за Волгу, взбунтовала казанских татар.
Скребла, грызла душу царю Ивану Васильевичу уж такая серая мышь, серее не бывает.
«Неужто отнимут и Казанское царство и Астраханское?» – От таких мыслей государь стонал, как от боли.
Строгановы покоряли сибирские городки, но Сибирь земля далекая…
Вновь объявился премудрый Антон Посевин, почитавший себя главным устроителем мирного договора с королем. Все желал о вере толковать с новым митрополитом московским, с Дионисием, но толковать пришлось с одним только царем, ибо митрополит не пожелал видеть папского посла, а Грозный Посевину так сказал:
– Нам с вами, с латинянами, не сойтись в вере: наша вера христианская с издавних лет была сама по себе, а римская церковь сама по себе. Мы в христианской вере родились и Божиею благодатию дошли до совершенного возраста, нам уже пятьдесят лет с годом, уже не для чего переменяться… Папа – не Христос, престол, на котором его носят, – не облако, те, которые его носят, – не ангелы. Ты скажи ему, папе Григорию, – не следует Христу уподобляться, да и Петра-апостола равнять Христу не следует же… Который папа не по Христову учению и не по апостольскому преданию станет жить, тот папа – волк, а не пастырь.
Посевин обиделся: папу волком назвали. Иван Васильевич тоже сообразил – лишнее слово сорвалось. Послам, отправленным к Григорию XIII вместе с Посевиным, было наказано: «Если папа или его советники станут говорить: государь ваш папу назвал волком и хищником, то отвечать, что им слышать этого не случалось».
Об эту пору князь Василий Иванович Шуйский слухами жил. В июле царь крепко уязвил его, отправил в Великий Новгород воеводой большого полка «для походу» Андрея Ивановича. Князь Андрей не сплоховал, поспел на судах к осажденному городу Орешку, нанес полку Делагарди столь значительный урон, что шведы бежали.
Князю Андрею царь пожаловал золотой – высшая награда воеводам, а Василию Ивановичу позволили поехать в Шую, привести в порядок хозяйственные дела.
Проводить старшего брата явился князь Дмитрий. Рассчитал тонко. Не открестился от опального, но и особого внимания не выказал. Вошел в дом, когда все садились перед дорогой.
По лицу Дмитрия бродила таинственная, блудливая улыбочка, Василий эту улыбку приметил, но не мог сообразить, что непристойного нашел брат в доме. Дмитрий сам не утерпел, придержал Василия в сенях и шепнул на ухо:
– Царь послал Федьку Писемского в Англию – сватать дочь графа Гастингского.
– А что с Марией Федоровной? – вырвалось у Василия.
Дмитрий прикрыл ему ладонью рот.
– Слава Богу, здорова. Скоро родит.
В великом изумлении садился князь Василий в карету. Лошади тронули, провожающие замахали платками, руками, кто-то из дворни плакал, нищие кланялись, крестили карету, благословляли путника. Князю прешли на ум стихи, читанные прошлым вечером:
Аще хочеши победита безвременную печаль,
Не опечалися никогда же за кою-либо временную вещь.
Аще и биен будеши, или обесчестен, или отгнан,
Не опечалися, но паче радуйся…
– И не погибнеши! – сказал вслух Василий Иванович, и стало ему смешно: Грозный царь – скоморохом кончает жизнь.
Удивился не мысли, но само собой сказавшемуся – «кончает жизнь». Ивану Васильевичу пятьдесят два года. Десять раз еще успеет жениться.
А перед глазами уже стоял счастливый семик да летунья с берез…
Приехал князь в Шую тихо. В город был послан гонец предупредить власти и домовитых горожан, чтоб встречу не устраивали, ибо царю торжество в честь опального не понравится.
Дворня сбежалась поклониться своему господину.
– Сытно ли живете? – спросил князь.
– Сытно!
– Богу молитесь?
– За тебя молимся, князь!
Кто был ближе, кинулись к ручке, и Василий Иванович, никого не отталкивая, поспешил в дом.
Прошел сенями, где под потолком сохли веники да калина с черемухой, бегом одолел прихожую, и в первой малой горнице увидел… ее.
Василиса стояла перед божницей, на его шаги повернулась, вскрикнула легонько.
И тут кто-то стремительно протопал через горницу и схватил князя за ногу.
Ребенок. Мальчик.
Сердце рванулось из груди, застряло в горле, и умер бы – слезы спасли. Полились столь обильно, что сердце поплыло в соленом потоке, покачиваясь. Он и продохнул.
Мальчик тянул к нему руки, и он взял его, поднял, а крошечка щекою припал к его щеке и затих.
Василиса обмерла, не зная, что и делать, князь сам сообразил. Подошел и свободною рукой обнял.
– Господи, ты будто день ясный! – и спросил, оробев: – Зовут… как?
– Смилуйся, князь!.. Василием наречен.
– А знаешь, что это за слово такое – Василий?
– Не знаю.
– Василий – василевс. Это значит царственный.
– Ты и есть наш царь.
Две недели прожил князь Василий Иванович в Шуе, не в силах расстаться с Василисой, незаконнорожденным сыном, рабом своим…
Наконец собрался, поехал в починок.
Осень распожарилась, но от хладного огня пламенеющих дубрав, лиственного бора, березовых рощ по сердцу сквозило тревогой. Василий Иванович, сам не ведая почему, проехал мимо Горицы, мимо дома вдовы Марьи. А спешить-то было уже не к кому: дедушка Частоступ умер, Агий с острова скрылся.
На обратной дороге Василий Иванович разглядел приятное для себя: возле вдовьего дома Марьи стоял еще один дом, новехонький. Знать, старший сын вдовы женился.
В Горице князь развалюх не увидел. Опросив жителей села об их достатке, о настроениях, дал денег обедневшему мужику на подъем, с отдачей, а сильно постаревшего управителя Елупку наградил лисьей шубой и двумя рублями денег.
Время было неспокойное. На Волге шла война. В Нижнем Новгороде, в Муроме, в Кинешме стояли царские полки. Василий Иванович знал, не худо бы и в Шуе собрать добрую дружину на случай прихода казанских бунтовщиков, но царь ведь Бог знает что подумает…
Долгая зима промелькнула для Василия Ивановича как один день. Ему было уютно да ласково с Василисой. Жил бы и жил в милой Шуе, но братья позвали его строгим письмом в Москву, и поехал он, спеша обогнать половодье.
Поспел к радости своей. Государь Иван Васильевич гнев сменил на милость: указал быть на берегу, в Серпухове. Большой полк государь поручил боярину Федору Ивановичу Мстиславскому, а князю Василию дал полк правой руки, передовой – князю Андрею.
40
В январе 1584 года царь Иван Васильевич заболел. Дыхание его было смрадно, опухли ноги. Лежа в постели, он отвлекал себя от мрачных дум игрой в шахматы с Родионом Биркиным. Биркин любил нападать неистово, государь заманивал его фигуры в ловушки и пожирал.
Биркин, старый опричник, был не только удобным партнером для игры, но имел наитайнейшее поручение и привилегию знать, что говорят о царе среди бояр и среди народа.
– Ну что, Родион, – спрашивал государь, – Федора моего дураком небось величают?
– Блаженным, государь.
– Никак не хотят его в цари?






