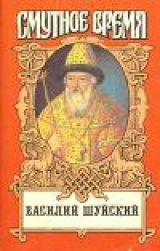
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
V
Вести с базара
Пан Бронислав Здрольский, мелкий шляхтич, владевший клочком земли около Самбура, уже с самой ранней юности рос и жил в доме Мнишков. Это был веселый, неглупый и недурной малый, большой охотник пошутить и приволокнуться при случае, отличный рубака на палашах и саблях, добрый товарищ и на пиру и в бою – один из типичных представителей мелкой польской шляхты начала XVII века. В доме Мнишков он был издавна «своим» человеком, и ему не раз, еще и до появления царевича Дмитрия в Самборе, давались различные, довольно трудные и щекотливые поручения, которые он всегда выполнял толково и добросовестно. Когда панна Марина Мнишек была помолвлена за московского царевича, пан воевода включил пана Бронислава Здрольского в число тех первых головорезов, которые стали под знамена Самозванца в Польше. Здрольский неотлучно находился при царевиче во всех битвах, был отличен им и награжден, по воцарении в Москве зачислен в отряд его телохранителей, а при самом начале резни 15 мая обезоружен толпой народа, хлынувшего за боярами в Кремль, и отведен в тюрьму.
На глазах Здрольского и других телохранителей Дмитрий Басманов был растерзан бессмысленною чернью, которая решительно не понимала, куда ее ведут и зачем привели в Кремль, в царские палаты. Но затем обо всех остальных убийствах, как и об убийстве самого Дмитрия, Здрольский имел только самые смутные, самые сбивчивые сведения и весьма охотно поверил тому известию, которое вчера под вечер перелетело через тын власьевского дома и произвело переполох между стрельцами.
Когда Здрольский вошел в приемную Мнишков, у него было такое страшное, необычайное выражение лица, что и Марина и сам пан воевода посмотрели на него с недоумением.
– Что там у вас за шум? Кричат, гвалт?.. Уж не опять ли хотят вас загрызть московские псы?
– Не знаю, право, как и сказать!.. Прошу извинить. До нас дошел слух, что светопреставленье начинается…
– Что за вздор!.. Где ты успел напиться пьян, пан Бронислав? – сердито сказал воевода, бросая на Здрольского гневные и недоумевающие взгляды.
– Клянусь Маткой Боской Ченстоховской! – заговорил в волнении шляхтич. – Начинается светопреставленье, потому что мертвые встают из гробов!.. Потому что наияснейший пан Дмитрий, царь московский, не убит, а жив!..
Марина вскочила с места и выпрямилась во весь рост.
– Кто вам это сказал? – строго произнесла она упавшим, дрогнувшим голосом.
– А я и сам не знаю… Кто-то громко крикнул из-за забора по-польски… И я слышал, и пан Михольский слышал, и пан Вонсовский, и пан… А тут как раз стрельцы и стали отгонять нас от забора…
– И пан Михольский, и пан Вонсовский, и пан Бронислав слышали?.. Ха-ха-ха! – рассмеялся воевода. – А бабы и верить станут!.. Ха-ха-ха!
– Дайте мне слово сказать наконец! – громко и строго произнесла Марина. – Пан Бронислав! – обратилась Марина строго и серьезно к Здрольскому. – Завтра утром я вам приказываю отправиться на базар и разузнать подробно…
– Отправиться на базар… Ха! Ха!.. Как это он отправится на базар, желал бы я знать? – продолжал смеяться и докучать воевода с каким-то детским задором.
– Я сумею это устроить, – твердо сказала Марина. – Пан Бронислав! Вы все исполните, как я приказала… Вы разузнаете и, возвратись с базара, все мне расскажете. Мне, а не батюшке… Можете идти.
Все это было произнесено с таким самоуверенным величием и такой привычкою к повиновению окружающих, что пан Здрольский даже и забыл, где происходит его беседа с «наияснейшею панной», – во дворце ли или в плену, под затворами проклятых москалей?
* * *
Прошло два дня после этой беседы. Степурин по-прежнему являлся каждый день в приемную Мнишков и проводил с ними большую часть дня в качестве немого наблюдателя их жизни. По-видимому, жизнь пленников текла по-прежнему обычным порядком: та же общая молитва поутру, то же чтение Библии, те же нескончаемые жалобы и сокрушения пана воеводы… Но в Марине Алексей Степанович заметил какую-то странную перемену: она точно как будто ожила, как будто просияла каким-то внутренним светом, какой-то трудно скрываемой, радостью. Она даже терпеливо сносила слезливые жалобы отца, грубые выходки его против «всяких баб» и, не удаляясь в свою комнату, терпеливо все выслушивала.
– Что это с ней? – невольно спрашивал себя Степурин, внимательно вглядываясь из своего угла в тонкие, красивые и выразительные черты Марины. – Кажись, все та же, а как будто и не та…
За обедом в тот день случилась между отцом и дочерью такая сцена, которая до некоторой степени объяснила Степурину перемену, происшедшую в Марине.
Когда все сошлись к обеду, сели за стол, неугомонный Мнишек начал сокрушаться и вспоминать о том, как он, бывало, сладко ел и пил у себя в Самборе или в королевском замке, в Кракове. При этом он принимался беспощадно ругать и русскую кухню, и всю «московщину», и «пшеклентных схизматиков» [14]14
«Проклятых раскольников» ( польск.).
[Закрыть]. Он, видимо, никак не ожидал, что за «московщину» вступится Марина. Спокойно и твердо она остановила его и сказала:
– Батюшка! Вы забываете, кто я! Вы должны были бы понимать, что я не должна слушать ваших речей!..
Но в ответ на это замечание прихотливый и раздражительный старик начал кричать и браниться, поминая «вшицких дьяблов», сокрушаясь о своих потерях и убытках.
– Замолчите! Я не позволю вам оскорблять память моего мужа! Не забывайте, что вы всем ему обязаны! И если еще раз вы решитесь повторить ваши слова, вы не увидите меня здесь более.
Растерявшийся Мнишек не знал, что и сказать, как извиниться, как замять разговор, а она перед ним стояла твердая, величавая, и глаза ее сверкали гневом и решимостью.
– Рано или поздно, – продолжала она, все более и более воодушевляясь, – правда восторжествует! Вы слабы, вы малодушны, вы не можете этого постигнуть; но я, я твердо верю в то, что Бог, спасший его в детстве от руки убийц, спас его и теперь! Я верю в то, что мы с торжеством выйдем из бездны зол и бедствий!..
И все ее слушали, и все смотрели на нее с изумлением и надеждой. Слушал ее и Алексей Степанович и, невольно поддаваясь обаянию ее мужества и нравственной силы, подумал:
«Поскорее надо увезти их из Москвы: и Марину Юрьевну, и воеводу, и всю их челядь! От соблазна подальше… И то вчера Томила говорил, что надоть их в Ярославль отправить, – надо попросить, чтобы скорее, до греха».
Когда он вечером пришел в свою горенку, в нижнем жилье власьевского дома, загадка отчасти объяснилась. К нему пришел стрелецкий голова и встал, переминаясь, у двери с видимым желанием что-то сказать ему наедине.
– Есть дельце – надо бы поговорить с тобою по душе.
– Говори, в чем дело?
– Да вот, товарищ-то твой, господин стольник… Душой кривит, лукавит… Вот что! – шепотом добавил голова.
Степурин потребовал доказательств, и голова подробно рассказал ему, как Иван Михайлович допустил свидание Здрольского с Мнишками и как потом отправил этого шляхтича с провожатым стрельцом на базар, как будто для закупок, а тот оттуда таких вестей нанес, что не только ляхов, а и стрельцов-то всех перебаламутил.
Степурин выслушал и задумался.
«Что же это за испытание, Господи Боже! Как быть? Как выйти из вражеских тенет?.. Как душу спасти от клятвопреступления и плевел дьявольских? Если точно царь Дмитрий жив, как же стану я царю Василию служить и прямить?» – подумал он.
– Ну хорошо! – проговорил Степурин, обращаясь к голове. – Присматривай, да будь на страже, а я с Иваном Михайловичем завтра поговорю… Да благо нам в Москве-то с полонянниками быть недолго… Завтра же доложу Томиле-Луговскому – пусть он рассудит!..
VI
Кому прямить
Третьего июня 1606 года с самого раннего утра вся Москва пришла в движение. Толпы народа валили по улицам и площадям к выезду из города на Троицкую дорогу, где уже чуть не с рассвета толпились десятки тысяч людей, выжидавшие приближения торжественного шествия, сопровождавшего нетленные мощи младенца-царевича Дмитрия, обретенные в Угличе. Всему городу было известно, что и царь Василий с братьями и царица-инокиня, мать несчастного Дмитрия, выехали накануне для встречи мощей на два стана от Москвы, и всем хотелось посмотреть, как царь Василий, его братья и знатнейшие из бояр и духовенства повезут на себе повозку с носилками, на которых были поставлены мощи, и как будет ехать за гробом и причитать царица-инокиня, вдова Грозного, так много натворившая бед своим слабодушием. Вместе с толпами народа от всех церквей московских навстречу ожидаемого торжественного шествия спешило духовенство и клиры московских церквей с крестами, иконами и хоругвями, и все колокола московских церквей наполнили воздух громким, радостным перезвоном, не смолкавшим ни на минуту. Солнце, движение, оживленный говор и пестрые праздничные одежды толпы и этот громкий гармоничный благовест – все, по-видимому, должно было бы располагать всех горожан московских к радостному, праздничному настроению… Но на деле оказалось иное: толпа смотрела хмуро и невесело, на всех лицах была написана либо тревога, либо забота; на всех устах были толки о близком будущем, довольно ясно выражавшие недоверие к новому царю и к ближайшим его пособникам – боярам.
– Не очистить царю Василию того греха, что он на душу взял, – говорил на ходу какой-то бодрый и высокий старик, который шел в толпе, окруженный своими шестью внуками-подростками.
– Какого греха, дедушка? – спросили у старика двое ближайших к нему внуков, поспешно шагая о бок с ним.
– Вестимо какого! Душой кривил при покойном царе Феодоре, Годунову в руку налаживал – убийц младенца царевича Дмитрия оправил, а невинных осудил и самого царевича-младенца оклеветал, будто младенец, с ребятками в тычку играючи, в падучей немочи на нож и обрушился… А сколько из-за этого народу пострадало…
– Вот то-то «много», а кровь-то эта да слезы-то и не простятся ему. Годунову отмстилось на его детках, а бездетному царю Василию на нем самом отольются.
– И чего он лукавит? – слышалось в другой толпе. – Бога не проведешь! Теперь он хочет как Лиса-Патрикеевна хвостом следочек замести, да где уж!
– А разве точно правда, что Демьянушка-то говорит?
– Как же не правда? По Божьему велению мертвые из гробов раньше второго пришествия встают – чего уж больше!
– Да полно, не врет ли твой Демьянушка-то? Ведь на глазах у всей Москвы расстрига-то лежал на площади, ведь все видели.
– Да как же это теперь в толк-то взять? – рассуждал в толпе посадских степенный и пожилой уже купец. – Как это в уме вместить? И там настоящий Дмитрий проявляется, и убит настоящий, и навстречу настоящему идем. Вот тут и суди: кому душу нести, за кого голову класть. Вот и Демьянушка тоже говорил, а он человек умный, бывалый, из семи печей хлеб едалый, а говорит: в потемках бродим – кому прямить, кому служить, и сами не знаем!
И в ответ на эту речь отовсюду слышались самые искренние сокрушения, глубокие вздохи и скорбные возгласы:
– Просвети, Господи!.. Настави нас, грешных!.. Не отврати лица Твоего – помилуй нас!
* * *
Между тем как толпы народа в бесчисленном множестве, при общем колокольном звоне, с духовенством и властями во главе, шли навстречу нетленным мощам нового угодника, в одном из дальних и укромных уголков Москвы, в приходе у Николы в Воробьине, на мельнице у дворянина Истомы Пашкова, происходило тайное совещание. В пустом мельничном амбаре, построенном на самом берегу Яузы, собралось человек десять именитых граждан, между которыми были и сам Истома Пашков, и князь Трубецкой, и Михайло Татищев, и еще шесть человек дворян из числа возвышенных при царе Дмитрии и все утративших с воцарением Шуйского. Все они расположились на кулях с мукою, прикрытых пестрыми бухарскими и кизилбашскими коврами, и все насупились, все нахмурились, обсуждая и обдумывая свою тайную думу.
– Так вот, друзья мои, – говорил Истома Пашков, – все вы от меня слышали. Вот и судите теперь, как нам быть?
– Что говорить? Знаем, – перебил его Михайла Татищев. – А смута все же будет, и надо бы принюхаться к ней… Что там у них на рубеже затеяно? Какой еще Дмитрий отыскался?
– Ходоков туда послать бы надежных, – вступился князь Зацепин-Стрига.
– И ходоки такие есть у меня, – самые настоящие, сказал, хитро подмигивая, Истома Пашков. – Один – Демьянушка, подьячий, приказная строка, у-ух, тонкий да зоркий! Другой ему под стать, вдовый поп Ермила, который всю Северщину как свою ладонь знает. Одно слово: два сапога – пара!.. Да вот постойте, я вам их покажу… И коли любо вам, так с ними и по рукам ударим.
– Эй, Демьянушка, ступай сюда, да и товарища с собой прихвати!
Через минуту в дверях амбара показались знакомый нам площадной подьячий Демьянушка и поп Ермила, громадного роста мужчина, рыжий и ражий, с веснушчатым лицом, с окладистой бородой, прикрывавшей широкую богатырскую грудь. Обтрепанный и засаленный подрясник его был подтянут кожаным ремнем, голова была прикрыта скуфейкой, а в руках была такая толстая суковатая палка, которая скорее напоминала шелепуху Ильи Муромца, нежели пастырский посох.
Когда ходоки переступили через порог амбара и отвесили поклон хозяину и его гостям, все гости переглянулись между собой и невольно улыбнулись: поп Ермила всем им по вкусу пришелся.
– Пошлем, пошлем, чего же медлить! – заговорило разом несколько голосов.
– Ну, так вот, Демьян да Ермила! – обратился к ходокам Истома Пашков. – Ступайте вы чем свет из Москвы; идите вы в Северщину, присматривайтесь да прислушивайтесь, какие там ветры дуют, какие грозы надвигаются, где вороны хищные на падаль слетаются. А коли придется вам на пути прознать, где живет новоявленный Дмитрий, уж вы и до него доходите и от нас, от верных его холопей, челом ему бейте.
– Не рано ли челом-то бить, Истомушка? – заметил Михайла Татищев. – Не знаем ведь еще, каков он будет, новоявленный-то?
– А каков бы ни был, для нас хуже Шуйского не будет! – отвечал Истома и продолжал свою речь к ходокам. – Так, значит, челом ему от всех нас имянно бейте и назад поспешайте. Вернетесь сюда целы – ни казны, ни даров для вас не пожалеем; не вернетесь, сложите в пути буйные головы – будем по вас панихиды петь.
– Рады служить! – пробасил поп Ермила.
– Целуйте же крест, что нам не измените и дело наше по совести справите, а мы вам крест целуем, что вас в беде не покинем и без награды не оставим.
Все вынули кресты-тельники из-за пазухи и поцеловали их в подтверждение своих слов.
– Ну, теперь, хозяинушка, надо бы крестное целованье медком запить, – заметил Демьянушка, – тогда и зарок-то наш крепче будет, и дорога пылью глаза не запорошит.
– Ладно, ладно! Дело немалое, запить его беспременно требуется! – сказал князь Зацепин-Стрига, и когда по приказу хозяина принесен был из погреба жбан пенного меда, все выпили молча из одного ковша и передали его, до краев налитый, попу Ермиле с Демьянушкой.
Демьянушка в том ковше только усы помочил, а поп Ермила сгреб его в свои лапищи, обвел всех присутствовавших одним общим взглядом и произнес густым басом:
– Новоявленный царь Дмитрий да здравствует, а клятвопреступник Шуйский да погибнет!..
– Да погибнет! – подхватили князь и дворяне.
Ермила молча поклонился им и осушил ковш единым духом.
VII
Под строгим началом
Зимнее, скудное и светом и теплом солнышко, багрово-красное, без лучей, словно раскаленный шар, поднялось из-за речки Которости над славным Ярославлем-городом, обдало красноватым светом дома города, монастыри и церкви его и отбросило длинные тени башен и колоколен на занесенные снежными сугробами улицы, переулки и площади ярославские. Город давно уже в движении. Народ идет от ранней обедни; горожане и приехавшие в город крестьяне толкутся на базарной площади; отряд городских стрельцов под начальством полуголовы нога за ногу плетется к городской ограде на смену караулов, таща на плечах своих фузеи [15]15
Ружья.
[Закрыть], подпертые тяжелыми бердышами.
Только один уголок Ярославля, близ Ильинской площади, как будто замер, затих и не очнулся еще от глубокого сна, тот уголок, в котором из-за высокого тына выглядывают только коньки да верхи крыш десятка высоких двойных и тройных изб и вышка обширных хором, отведенных на житье воеводе Юрию Мнишку, дочери его Марине и всей их польской челяди и служне. В высоком тыну, окружающем жилые постройки, заселенные польскими полонянниками, прорублены только двое ворот: одни – лицевые, на Ильинскую площадь; другие – черные, в переулок. У первых ворот день и ночь неотлучно стоит стрелецкий караул, вторые наглухо запираются на ночь засовами и цепью с пудовым замком. В просторной и светлой избе, приставленной к лицевым воротам, живут приставы и стрелецкий голова, которым поручено ведать нужды полонянников и зорко за ними присматривать. Приставы давно уж на ногах: Иван Михайлович обходит двор, осматривает тын и расставляет дневальных стрельцов по местам; Алексей Степанович сидит в избе за столом и сводит счеты по списку, который ему представил голова.
– «А на Юрия Мнишка за неделю издержано, – читает Степурин в списке, – по два крупитчатых каравая хлеба на день, да куря, да гусь, да рыбы-судачины волжской по судаку…»
Степурин положил список на стол и обратился к голове, насупив брови.
– Уж это что-то больно много, господин голова! – заметил он строго. – Этак на воеводу наших кормовых денег не хватит.
– Стараюсь, Алексей Степанович, стараюсь, батюшка, по всякий час как бы поменьше издержать… Да очень уж ломлив он, воевода-то! Все, вишь, не по брюху ему! Вечерось квас выплеснул ключнику в лицо, а намедни мясо на землю бросил, пятой топтал… ей-Богу!
– Так ты бы мне об этом озорстве его сказал! Я унял бы его честь!
Голова запустил руку в затылок, почесываясь и переминаясь с ноги на ногу… он хотел что-то ответить, но не успел и слова проговорить, как дверь в избу распахнулась и Иван Михайлович, нагнувши голову и отряхая с кафтана иней, перешагнул через порог. Видимо чем-то взволнованный, он, сняв шапку и перекрестившись на иконы, тотчас подошел к Степурину и, строго взглянув на голову, сказал:
– Вот он каков, смотрильщик! Поди-ка, доверься ему! Ведь я там, за поварней, на подкоп наткнулся! И такой, что здоровенный мужичина через него на четвереньках пролезет!
– Должно быть… это точно… свиньи наши подкопали, – оправдывался голова, как-то растерянно разводя руками.
– Так, так! Свиньи подкопали! – передразнил голову Иван Михайлович. – Они подкопали, они и винище этим подкопом носят да полонянникам продают, и ножи-засапожники для них на базаре покупают, и пивом своим допьяна угощают!..
– Напрасно меня корить изволишь, Иван Михайлович! – огрызнулся голова. – Я этому всему не потаковник, не повадчик! На себя бы лучше оглянулся…
– Как ты смеешь! – закричал Иван Михайлович, – Разве я таюсь, разве обманываю, разве…
– Постойте! – крикнул Степурин. – Мне ваши перекоры приелись! Я вас сразу разберу… Коли точно есть подкоп под тыном, так ты сам, господин голова, головой своей ответишь! Ступай немедля засыпь, каменьем заложи, кольем забей, чтоб не было его!.. Приду в обед взглянуть и если хоть какую лазейку увижу – несдобровать тебе! Ступай! А ты, Иван Михайлович, Останься здесь: надо мне и с тобой поговорить…
Голова опрометью бросился вон из избы, ворча что-то себе под нос, а Иван Михайлович, молча и хмуро посмотрев на Степурина, опустился на лавку. Он знал, о чем с ним будет говорить его старший товарищ…
– Вы все меня извести собрались! – взволнованно заговорил Степурин, плотно притворяя дверь избы и шагая по избе из стороны в сторону. – Что ни день, то ссора да перекоры! И между полонянниками – содом содомом! Каждый на каждого с жалобой… Так-то мне тошно от всех от вас, что вот бежал бы, кажется, на край света!
Степурин смолк и еще несколько раз прошелся по избе, потом, остановившись перед товарищем, сказал ему тихо и ласково:
– А ты свою повадку, Ваня, брось! Это он тебя недаром вздумал корить… Ведь сам ты знаешь, что не к добру это затеял… По дружбе говорю, брось!..
– Не могу! Видит Бог, не могу! – мрачно проговорил Иван Михайлович. – Либо одолею ее, либо – нож ей в сердце…
– Да полно, полно, беспутный! Опомнись! – сказал Степурин, положив руку на плечо товарища. – Ну, что в, ней такого? Околдовала она тебя, что ли?.. Лучше отчурайся… А то долго ли до греха?
– Околдовала ли, нет ли, – сам не знаю… Только вот она где у меня засела! – проговорил полушепотом Иван Михайлович, ударяя себя в грудь крепко стиснутым кулаком. – Иссушила меня, извела… И пока я не натешусь над ней, во всю свою волюшку не натешусь… не очнуться мне, не выйти из-под ее власти…
– Говорю тебе, Ваня, брось! Уезжай в Москву, либо к себе в поместье… Другого в товарищи к себе возьму… А то, коли огласка какая выйдет или кто донесет, – тут беды не оберешься! И вот тебе мое последнее слово: три дня тебе даю на размышленье… Уезжай отсюда! Не уедешь – видит Бог и крестная сила – я тебя из товарищей отчислю и в хоромы Мнишков на порог не пущу…
– Все это в твоей воле, Алексей Степанович!.. Знаю, что говоришь ты это мне, добра желаючи, жалеючи меня… Подумаю, погадаю…
И он поднялся с лавки, уныло понурил голову и вышел из избы.
По его уходу Степурин вдруг поник головой и задумался. И перед ним живой вереницей пронеслись последние два года, проведенные им в приставах у Марины, которую он и в Москве и здесь, в Ярославле, видел каждый день, и все такою же неизменно твердою, неколебимо спокойною, невозмутимо величавою. Все кругом стонало и хныкало, роптало и жаловалось то на лишения, то на всякие нужды и невзгоды, а она одна всех поддерживала и утешала, всех пристыживала своим самообладанием. Она проводила дни в молчаливом и сосредоточенном созерцании, в глубокой думе, устремив свои строгие, прекрасные очи куда-то вдаль, и вдруг, словно спохватившись, словно стараясь отогнать от себя свои неотвязные думы, брала с окошка свой молитвенник, раскрывала его и тихо, никому не слышно, шептала про себя молитву. И никогда ни слезы, ни вздоха, ни жалобы, никакой уступки своему слабому женскому существу.
Степурин следил за ней изо дня в день и сначала только изумлялся ей; потом стал более и более проникаться к ней уважением и наконец стал ощущать в своем сердце какое-то странное чувство… вроде сострадания, вроде жалости к этой «убылой царице московской». Присматриваясь к ней ближе и ближе, оценивая ее высокое самообладание, Степурин в то же время сердцем угадал, что она носит в себе внутреннюю муку и бережет, и тщательно укрывает ее от всякого нескромного глаза.
«Иной раз и посмотреть-то жутко на нее! – думал Степурин. – Щемит ей сердце горе лютое! А она хоть бы словечком обмолвилась, хоть бы сердце на ком сорвала! Худеет, сохнет – инда жалость вчуже берет… Так бы вот, кажется… ну, попроси она чего – и отказать бы не под силу!»
В это самое время дверь скрипнула и в избу вошел один из воеводских челядинцев – седой, желтый и худощавый старик.
– Пан пристав! – сказал он, обращаясь к Степурину. – Наияснейшая панна Марина просит пана зайти к ней, в ее покои… Есть дело до пана пристава.
– Хорошо. Скажи, сейчас, мол, буду.
И тотчас после ухода челядинца Степурин поспешил одеться в становой кафтан, подтянулся шелковым поясом, взял в руку трость и, нахлобучив шапку, вышел из избы.
Степенно перешел он двор, поднялся на крыльцо хоромной постройки, в которой, в верхнем жилье, были отведены покои для Марины и пана Мнишка, и, миновав сторожевых стрельцов у входа в сени, вступил в комнату, где обычно сидела Марина со своими женщинами.
Он застал ее, как и всегда, с панной Гербуртовой и с Зосей за утренним чтением Библии, при котором пан воевода уже несколько дней сряду не присутствовал, потому что страдал жестокой подагрой. Марина, скромно одетая в темное, простое и сильно поношенное платье, сидела, как и всегда, на своем кресле у окна, подернутого узорами инея, чинная и величавая, с тем же молитвенником в руках, с тою же Библией, развернутой на столе. Она была очень бледна; темные круги окружали ее впалые глаза, горевшие каким-то лихорадочным блеском.
– Пан пристав! – произнесла она слабым голосом, звучавшим как надтреснутое стекло. – У меня до вас есть просьба… Первая и последняя просьба. Я узнала, что сюда явился ксендз, духовник мой из Москвы… и что вы его ко мне не допустили.
– Я не смел ослушаться наказа, который мне дан, и отправил в Москву нарочного с запросом…
– Пан пристав! Я больна, я очень больна, – сказала Марина. – Я, может быть, не доживу до возвращения вашего нарочного…
При этих словах Марины обе женщины, и пани Гербуртова и Зося, бросились целовать ей руки и залились слезами.
– А потому я вас прошу допустить ко мне каноника… Я не хотела бы умереть без покаяния…
Она просила просто и смиренно, но взор ее, устремленный в лицо Степурину, повелевал ему, господствовал, властвовал над ним… Он сам не знал, не отдавал себе отчета в том, что с ним сталось, сам не мог понять, почему и как это случилось – против воли его случилось, что он ответил Марине не отказом. Он поклонился ей и произнес чуть слышно:
– Исполню просьбу… Допущу ксендза, когда придет…
И, быстро повернувшись к дверям, он поспешил выйти из комнаты.






