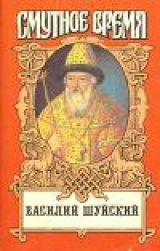
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
– Коли за столько месяцев истинный государь не пришел к Туле, и к Москве он тоже не пришел, значит, и нет его! Нет уж боле в России истинного, природного царя! А коли нет, чего упрямиться? Поклонимся скорее царю Шуйскому, и бедам конец. Надоела война. Царь Шуйский милосерден, голов почем зря не рубит.
– Зато в прорубях топить горазд! – закричали казаки и ратники. – Отворить ворота – все равно что голову положить на плаху.
– Пусть царевич к народу выйдет! – потребовали горожане.
«Царевича», однако, вывести перед людьми было нельзя – опух от пьянства и снова пьян.
Привели Шаховского.
– Я обещал вам прибытие государя Дмитрия Иоанновича, ибо сам его жду, затая нетерпение в сердце. Но государские дела есть тайна. И не вам, собакам, хватать государевых людей за грудки и к ответу водить! – Князь ненавидел толпу и не сдержал себя. – Вы и государей ставите ни во что. Помню, как грабили царские палаты, тащили и стар и млад. Святыни и те разворовали.
– Не ври! – рассердились туляки. – Мы ничего у царя не крали. То московские люди. Зазря ты нас собачишь, Григорий Петрович!
– Неучи вы! Лопари! Глядите на меня так, словно сожрать хотите.
– Так мы и впрямь голодны. За дохлую лошадь по пяти рублей берут. За царя истинного хорошо стоять, когда он жив-здоров. А коли его и в могиле нет? Каково?
– Вот и сами вы говорите. Нет государя в могиле. Ныне он в Брянске или в Козельске. Знать, и к нам придет.
– Когда? Когда попередохнем, поперетонем?!
– За государя помереть не страшно. А кто за шкуру свою дрожит, тот и есть собака! Ишь скалятся! Собачье племя! Так бы и перепорол бы вас всех, собак!
То ли стих ругательный нашел на князя Григория Петровича, то ли умысел у него был… Но играл с огнем. Туляки ощетинились оружием. Шаховского напоказ грубо поволокли в тюрьму. Держать ответ вышел Болотников.
– Вода затопляет дома и губит съестные припасы. Но ведь октябрь на дворе, вода скоро спадет, а потом в замерзнет…
Народ шумел. Клики «Отвори ворота!» становились гуще, дружнее. Тогда Болотников тоже рассердился:
– О том, какой он добрый, царь Шуйский, сказали бы вам крестьяне, брошенные в проруби на Москве-реке. Мы четвертый месяц сидим в осаде, и у Шуйского на каждого туляка припасена веревка. Говорите, что вам голодно, но и нам, казакам, не сытно. Хлеб делим поровну… Одно знайте: осаждающим тоже приходится не сладко. Они домой хотят… Морозы ударят – Шуйский не удержит войска. Само разбежится. Потерпеть надо. Вот уж и вода почти не прибывает.
Люди молчали, и у Болотникова горло сжалось вдруг и слезы покатились по щекам.
– Если вам есть будет нечего, нежели сдаваться, я сам себя зарежу, а труп свой отдам вам на съеденье. Ради вас и прошу – не сдавайте город. Шуйский всегда стелет мягко, да только постель его обманная – жестка и кровава.
– Мочи нет! – заголосила вдруг женщина.
Толпа загудела, подалась на атаманов, и Болотников поклонился людям и сказал:
– Нынче же пошлю к Шуйскому говорить о сдаче города. Пусть клятву даст, что всем от него будет милость и прощение. Не отворяйте ворот, пока на кресте не поклянется, иначе худо будет.
Согласились, успокоились, плоты и корыта поплыли по дворам.
К Болотникову подошел атаман Федор Нагиба.
– Через Крапивенские ворота от нас убежали три сотни…
– Вчера сотня, нынче три сотни… Плохи наши дела.
…На первые переговоры в стан Шуйского поехал Федор Нагиба с горожанами. Ударили царю челом, молили о пощаде. Шуйский хоть и суров был с виду, но обещал всех простить и помиловать.
– А не то будем драться до последнего казака! – сказал Федор Нагиба. – Друг друга съедим, а не сдадимся.
– Мое слово царское, – сказал Шуйский. – А царское – значит крепкое. Я крест поцелую, что не трону тульских сидельцев. Мне не дорого за обиды мои царские смертью мстить, мне дорог покой моего государства.
И были еще послы из Тулы, и целовал Шуйский крест, поклявшись всех простить, ибо от доброго дела доброму царю прибыль на земле и на небе.
…10 октября горожане, оттеснив казаков, отворили ворота и пустили в Тулу боярина Ивана Крюка-Колычева с царскими стрельцами.
«Царевича» Петра схватили, схватили Шаховского… Болотников хоть и помышлял об ударе по царским полкам, о прорыве, но поглядел со стены на своих, поглядел на огромное, изготовившееся к схватке царское войско и понял: не пройти. Куража в казаках нет.
Велел подать боевой доспех, облачился, вооружился и один поехал на коне к Шуйскому. Перед царским шатром под взглядами всего войска сошел с коня, вытащил из ножен саблю, поцеловал, положил на шею и, как в прорубь, шагнул в царский чертог.
Охрана царева ощетинилась бердышами, но Иван Исаевич стал на колени, ударил лбом о цветной царский ковер и, не снимая сабли с шеи, сказал:
– Я дал клятву служить верно тому, кто в Сандомире назвал себя Дмитрием. Царей я ране не видывал, потому и не знаю, царь это был или не царь. Может, и обманщик. Я свою клятву сдержал, бился честно, а вот он предал меня. Я в твоей власти, государь, и вот тебе моя сабля. Хочешь головы моей – руби, подаришь жизнь – буду усерднейшим тебе рабом и умру в твоей службе.
И так легко стало на сердце, хоть песни пой. Ни страха, ни жалости к себе: кончилась жизнь.
«А ведь он впрямь честный человек», – подумал Шуйский.
От радости трясло и кривило губы. Зарыдал бы, обнявшись с Болотниковым. Господи, такой ужас кончился! Ведь заупрямься казаки – и недели через три разбежалось бы дворянское войско по домам.
– Я тебя милую, – сказал Шуйский гетману. – Я тебя награжу. Не хуже воевод моих награжу.
– Великий государь! – не сдержался думный дьяк Андрей Иванов.
Шуйский повернул голову к дьяку.
– Я спрашиваю, великий государь, какую награду в столбцы записать?
Шуйский опамятовался.
– Оставить казаку Болотникову саблю. Вот какая моя милость к нему. Он мой слуга. А будет в службе усерден, еще награжу.
Услышав о наградах, царский синклит встрепенулся, придвинулся к государю, оттесня Болотникова.
До поздней ночи жаловал Василий Иванович воевод и воинство. Кому золотой на шапку и поместье, кому двойной оклад, кому город на кормление. Дарил деньги, материи, шубы, кафтаны, кубки, лошадей, панцири, ружья, саадаки, сабли… На следующий день царь отдавал вины сдавшимся на его милость. Даже разбойника атамана Юрия Беззубцева, изменившего клятве, государь великодушно простил и взял опять на службу. С атаманом ударили челом четыре тысячи казаков, тех самых, что присягали в Заборье и предали воеводу Мстиславского под Калугой. Умилосердясь, Шуйский простил казакам их прежнее зло. И те на радостях обещали взять Калугу и положить к царским стопам.
Казак, может, и сам себе верит, когда в глаза глядит. Но с глаз долой – и все слова ветром высвистывает. Одна у казака голова, да кормится казак войной. Потому и крепок в слове и деле не навек – на один день. Сегодня царь заплатил короля побить, завтра король дал денег побить царя.
Не желал Василий Иванович не верить, кому верить было ну никак нельзя. Не желал он и войны. Если она и есть – так нет ее! Не желал знать о Самозванце. Если он и есть – так нет его! Не желал признать врагов врагами, завистников – завистниками, злобу – злобой. Нет их! Одни друзья кругом. Тишина в царстве.
А потому тотчас отпустили с миром на все четыре стороны войска Болотникова, едва не погубившие царство и его, государя. Все по домам! Землю пахать, о стариках печься, жен любить…
Распустил и свое войско. Сто тысяч.
Самозванец, потрепанный под Брянском, убежал царствовать в Орле. Но неужто венчанному государю, помазаннику Божию, только и есть дела, что за ворами гоняться?
Довольно войны! Все по домам! Война сама собой кончится, как чума.
Но война не кончалась.
Под Калугой дважды помилованные казаки атамана Беззубцева напали на царский отряд и соединились с калужскими ворами.
Василий Иванович узнал о трижды изменниках, подходя к Москве. Вздохнул, покачал головой и попросил дьяка Иванова:
– Больше не тревожь меня дурными вестями. О разбойниках пусть воеводы думают. Царю – дела царские, воеводам – воеводские.
И забыл о невзгодах.
Победа переполняла царскую грудь. Ходил по земле, будто на крыльях пролетывал. Взоры посылал орлии, говорил умно. Впервые за всю свою жизнь не остерегался умного слова.
На одном из станов приходил к Василию брат Иван.
– В изумление повергаешь! Многие и сказать не знают что.
От напряжения мысли пуговка носа у Ивана Ивановича была бела, лоб просекали глубокие борозды морщин, под нижней губою мокро от пота.
– Ваня! Что так напугало тебя? – улыбнулся царь.
– Так ты же ни единого разбойника не казнил! Ни топором, ни кнутом, ни высылкой.
– Я клятву дал, Ваня, всех миловать.
– Ты – царь! Твои клятвы Бог простит.
– Бог простит, а люди – простят? Как царь, так и люди. Я обману нынче – меня обманут завтра.
– Тебя одни казаки сто раз надули. Ты сам поваживаешь преступать клятвы. Хорошая нынче у разбойников жизнь! Поклялся – и воруй. Царь простит. Неужто и впрямь не видишь: слабеет царство, людей шаткость одолела!
– Царство будет стоять до тех пор, покуда есть в нем хоть один человек, ради которого совестятся. Силой царство живо до поры, совестью живо вовеки.
Тут Пуговка и позабылся ненароком:
– Да кто ж на тебя станет оборачиваться, когда об одном царевиче Дмитрии ты клялся трижды, и все наоборот предыдущему?!
Василий Иванович поник плечами.
– Старое как локоток. Разве мог я взаправду думать, что царский венец будет впору мне? Мог Ваське Голицыну дорогу перейти, Романовым, Воротынским? Но Бог то ли наградил, то ли наказал – свершилось по моему тайному хотению… И то скажу: я клятвами сыпал в боярах. Царское мое слово, сам знаешь, – царское.
– Помилуй тебя Господи! Петрушку тоже в живых оставишь? Нынче таких Петрушек двое, а завтра уж будет вся дюжина.
О Петрушке промолчал государь, но промолчал, прищуря глаза, потирая рукой сердце.
41
Дорогой к Москве, под колокольные звоны всей земли, царь неустанно творил добро.
Увидал убогую, сожженную наполовину деревушку, велел стать войску и каждому крестьянину срубить тотчас добрый сруб для просторной избы. И было сделано. И все умилились на царя, на себя, на само дело: войско, оказывается, не только жечь умеет, разорять, потоплять, но и строить… Да как быстро!
За Окой, перед Серпуховом, царь увидел на обочине коленопреклоненного крестьянина. Ради этого крестьянина вышел из кареты. Достал кошелек. Посчитал деньги.
– Тут сорок рублей с алтыном. Даю, но с условием: ты должен разбогатеть на эти деньги. Как будет у тебя тысяча, придешь ко мне в Москву и отдашь мне сотню, чтоб оба мы были в выгоде. С Богом, добрый человек! С Богом в сердце и с царем в голове!
Мужик кланялся и кланялся, и государь спросил его:
– Тебя что-то тревожит, добрый человек?
Мужик согласно закивал.
– Говори.
– Говори! – ткнул мужика нетерпеливый Пуговка.
– Не смею, – прошептал мужик. – Прикажи, коли тебе надо.
Царь удивился, но приказал:
– Велю тебе говорить!
– Я был вольный, а жена моя беглая. Теперь и меня, по твоему царскому указу, лишили воли, записали за ее господина… И детей моих.
– Лаптю ли судить о государевых указах?! – закричал Пуговка.
Но царь взял мужика за руку, отвел в сторону и сказал:
– Один Бог волен, а царь – нет. Дворяне обнищали, войско разбрелось, а как быть царству без войска? Крестьяне все к боярам ушли, где людей больше, земли много… На Соборе с патриархом, с духовными людьми, со всем синклитом составили мы в марте Соборную грамоту. Клянусь тебе: ничего от себя не придумали, подтвердили грамоту царя Федора Иоанновича, чтоб возвращать беглых крестьян прежним владельцам. Год сыска – тысяча пятьсот девяносто третий – не мы назначили, но Годунов, бывший правителем у царя Федора.
– Так мне на деньги твои откупиться, что ли, у господина? – спросил совета мужик.
– Как сам знаешь. Но жду тебя с тысячей. Будет у тебя тысяча – будет и Россия богата.
Встретила Москва победителя-царя дрожанием небес – от звона колокольни клонились, – крестным ходом длиною в пять верст. Патриарх Гермоген ради великого дня совершил вокруг Москвы шествие на осляти, как на Вербное воскресенье, в память пришествия Иисуса Христа в Иерусалим.
Были пиры, пожалованья, награды… Народ, однако, быстро нагляделся на ликование, стал посмеиваться:
– Самих себя утопили, самих себя порезали, а радости – будто заморского царя на веревке привели.
В шумные эти дни казнили «царевича» Петра. Его повесили вблизи Данилова монастыря, при дороге. Василий Иванович, отдавая вора Собору и палачам, руки, как Пилат, умыл.
Болотникова, от греха, отправили в Каргополь, во владения Скопина-Шуйского. Да мало кто поверил, что на спасение. По тайному ли указу, но, может, и самовольством владетеля Каргополя свершилось подлое: казаку выкололи глаза и, подержав в слепоте, натешившись немощью некогда могучего предводителя народной вольницы, утопили.
Охоч был царь Шуйский до прорубей.
42
День свадьбы назначили на 17 января 1608 года. За неделю до торжества царь не утерпел и пришел под колокольню Ивана Великого, где в землянке жила пророчица Алена. Ради царя все замки царства отворяются, но Алена хлопнула дверью перед государевым носом и ни единого слова в ответ на мольбы не проронила.
Перепугавшись, Василий Иванович послал к Алене своего духовника. Смилостивилась, сама позвала. Два часа пробыл царь в Алениной убогой келье. Вышел светлый лицом, тихий.
Венчался государь с Марьей Петровной, как и положено царям, в Успенском соборе, но при закрытых дверях. Не пожелал Василий Иванович, чтоб сличали без толку его старость с нежной юностью. Венчание не зрелище – обет Богу.
Марья Петровна, счастливая, что ее невестиным бессчетным дням пришел-таки конец, только радовалась.
Свадьбу праздновали в кремлевском тереме. Были на той свадьбе одни родственники, и Марья Петровна опять не огорчилась, поверила словам супруга, шепнувшего ей, как близкой советнице:
– Ну их! Чем больше людей, тем лжи больше.
– И сглазу! – поддакнула Марья Петровна.
Радостно соглашаться с самим-то царем! Господи! Не больно верилось, что вчера была девица, а сегодня царица.
Все ей было хорошо, все в новость. Одно, может, и цапнуло за сердечко куриной лапой: взоры Екатерины Григорьевны – супруги Дмитрия Ивановича.
Подарок от нее был самый богатый – крест в рубинах. Ведь крест! Слова говорила ласковые, заботливые. Шепнула уж совсем тайное:
– Ты сначала в постели постыдись, да недолго. Немолодому (не сказала «старику») без погляду любовью не разжечься. – И, увидев, как хлопает Марья Петровна глазками, сказала откровеннее: – Ты в постель ложись в рубахе, а потом, вроде жарко тебе, сбрось ее прочь…
Старшая сестра такое разве посоветовала бы? Но вот взоры! И раз и другой перехватывала Марья Петровна Екатеринины взоры. Черные, без блеска. Тьма. И тьму эту, как воду в омуте, крутит. Попадись на погляд в недобрый час, так и хлюпнешь на дно, – дочка Малюты Скуратова.
…После ночи своей заветной, брачной ждала Марья Петровна любопытства и стыдных вопросов. Но кто же станет спрашивать царицу о царе?
Спросили-таки. В бане. Луша спросила:
– Чего было-то?
В голове у Марьи Петровны закружилось, глазки закатились, правду сказала:
– Сладко в женах. Василий мой Иванович несказанно хорош. До третьих петухов не спим.
Василий Иванович и впрямь лет на сорок помолодел.
– Ах, как царствовать хорошо! – говорил он, любуясь Марьей Петровной. – Затворить бы Кремль от всего царства, от всего мира и жить бы для самих себя, для одной своей радости.
И гуляли царь с царицею по царским палатам, взявшись за руки.
Угощал Василий Иванович Марью Петровну красным яблочком. Глядел, радуясь, как она кушает. Ради радости супруги и ей на удивление повелел собрать в комнату зеркала, поставить их так, чтоб одно стало тысячью, а тысяча соединялась в одно.
– Боже ты мой! – всплеснула ручками Марья Петровна. – Василий Иванович, душа моя! Сколько нас с тобою! Несчетно. И все-то они – мы! И все, как мы, радуются!
А как изумилась Марья Петровна, когда увидела себя со всех четырех сторон.
– На затылке-то у меня волосы кучерявочкой. Ишь спинка-то какая прямехонькая!
– Лебедь ты моя гордая! Пава величавая, вальяжная! Гляжу не нагляжусь! – трепетал от счастья Василий Иванович.
Пировали вдвоем! Слуги поставят на стол яства, меды, вина и уйдут. Василий Иванович сам свечи зажжет, и станут они с Марьей Петровной наливать в хрустальные бокалы заморское питье и глядеть на огонь, на чудное сияние волшебного кристалла.
Любил Василий Иванович наряжать ненаглядную. Поставит ее, царицу, в прелести природной, наглядится, а потом все-то сам и наденет на нее, и нижнее и верхнее, и нарядит жемчугом и всяческими каменьями. А она его – в доспехи или тоже в царское платье. Станут они, нарядясь, в комнате, где зеркала, и горит та комната, как жар. Уж такой праздник глазам, какой мало кто видывал в целом свете.
И ходили они – царь с царицею – в лунные ночи в кремлевские сады глядеть на белые снега, на лунные алмазы, на голубой иней.
Правду сказать, дела свои царские государь выгнал все из головы прочь. И хоть сиживал в Думе, да не подолгу. В Думе только и разговоров что о Самозванце. Вот пришел к нему какой-то Рожинский… Адам Вишневецкий явился…
Швед Петрей, допущенный к царской руке, не только на Сигизмунда кивал, но и на папу римского. Самозванец – их дитя. Склонял Петрей Василия Ивановича соединить силы с королем Карлом IX, чтоб развеять напасть.
– Бог поможет, – ответил посланцу царь, но, однако ж, встревожился.
На Самозванца послал он брата Дмитрия Ивановича, князя Василия Голицына, князя Бориса Лыкова. Войско это, соединясь с Куракиным и с татарской конницей, гулявшей по Северской земле, должно было навсегда покончить не только с самозванцами, но и с самозванством. Собралось больше семидесяти тысяч, но из-за глубоких снегов рати остановились в Волхове, ожидая крепкого наста, а лучше всего – весны. Оно и правда, большому войску тяжело снега топтать.
Зато малым отрядам легко! Шайки казаков и поляков брали город за городом.
Куда денешься! Чем погореть али помереть – лучше Дмитрию Ивановичу присягнуть. Вот и таяла земля Шуйского, а земля Самозванца все разрасталась, подтекая день ото дня к Москве.
Впервые прозвучало имя пана Лисовского. Воевода Рязани князь Иван Хованский вместе с Прокопием Ляпуновым пошли освободить от мятежников Пронск. И уж были в городе, но Ляпунова ранили до беспамятства, а Хованский отступил к Зарайску. Здесь и настиг его пан Лисовский. Князь спасся, отряд же его не только был разгромлен, но истреблен.
То каркнула первая черная ворона, из новых, пролетевшая над бедной Россией, над кремлевским холмом.
Пал город Волхов. Воеводы князья Дмитрий Шуйский, Василий Голицын знатностью да спесью польских шляхтичей не устрашили, не изумили. Спасибо, Куракин бросился на выручку разбитому Голицыну – все бы войско его под саблю легло.
Превосходя поляков и казаков числом, царская рать, может, и устояла бы, но Дмитрию Шуйскому пришло в голову пушки спасать. Увидали ратники, что пушки увозят, – и кто куда, у кого ноги резвей!
43
Марья Петровна сняла с себя и надела на Василия Ивановича свой крестик.
– От странницы, освещен на Гробе Господнем.
– Спасибо, голубушка! – Царь поцеловал жену в лоб. – Жить бы и жить нам в тихой радости. Не дают. Бог им судья.
– Не печалься, государь, – утешила Марья Петровна. – Восстань на супостатов. Моему животу ныне покой надобен. Я, супруг мой, тяжела.
– Благодатная! Голубушка! – Слезы так и полились из глаз Василия Ивановича. – Ах, как стану я теперь на вражескую сыть! Помолимся, голубушка. Помолимся Владимирской иконе Божией Матери – хранительнице моей.
И помолились, и попели перед иконой, и приложились, припадая всей душой к Великой Заступнице.
Повелел государь мамкам да нянькам беречь государыню как зеницу ока, сам же в дела встрял, зоркий и быстрый, не хуже сокола.
За неделю собрал новое большое войско. Воеводами поставил Михайлу Васильевича Скопина-Шуйского да Ивана Никитича Романова.
На берегах реки Незнани дожидались воеводы Самозванца. И дал им Бог открыть измену. Воеводы князья Катырев-Ростовский, Троекуров, Трубецкой сговорились перейти под знамена Дмитрия Иоанновича.
И снова был милостив царь Василий Иванович. Не казнил изменников, не проклял на всю Россию, всего наказания – из Москвы прочь! Троекурова – в Нижний Новгород, Трубецкого – в Тотьму, Катырева – в Сибирь.
Войскам же царь приказал отступить за московские стены.
44
То ли петухи под утро кричали, то ли был тот сон вещим, но Марья Петровна увидела себя курицей. Уж такая пеструшка, уж такая чистенькая – сама себе понравилась. А вокруг, как на хорошем дворе, – солома, мякина мягонькая, теплая пыль. И села она в гнездо, на яйца. А яиц дюжины три, не меньше. Греет свое потомство и сама же улыбается: «Вот сколько у нас будет детишек по милости Господней! Вот вам и старенький!» И во сне погордилась супругом Марья Петровна. Знала про шепотки приезжих боярынь. И вдруг свиньи захрюкали. Глаза красные, щетина черная, стоймя стоит. Хотела Марья Петровна крикнуть, а вместо голоса куриная бестолочь: «Куд-куда! Куд-куда!» Смотрит Марья Петровна, а свинья-то – Екатерина Григорьевна. Она и есть! Пятачком склизким, ледяным в бок сунула – Марья Петровна и слетела с гнезда. А свинья ножки подогнула, боками поерзала и легла на яйца.
«Мое гнездо! Мое!» – закричала Марья Петровна в голос, и слышит: по-человечески получилось.
«Коли твое, сама и сиди», – тоже по-человечески ответила свинья и сошла с гнезда, а в гнезде – яичница с кровавыми насиженными желтками.
Проснулась Марья Петровна сама не своя, а Василий Иванович тоже в тоске. И ему нехороший сон был. Приснился царевич Дмитрий. Принес в горстях свет. Василий Иванович сам видит – тот светлый свет в горстях святой, да такой от него пыл, такой жгучий жар – хуже раскаленного железа. Прыгнул Василий Иванович вверх, как какой-нибудь колдун, а царевич уж на облаке. Взял солнце, как блюдо, и Василию Ивановичу подает. А Василий Иванович и впрямь себя колдуном чует. Пал с неба в прорубь, лег камнем на дно. Лежит в прохладе и радуется. Не распознает царевич, где он. Камень и камень. Только воды все меньше, меньше. И уже сухо кругом. Трава желтая, в траве саранча. Трещит, перелетывает, крылья красные. И все горячей, горячей, и уж не саранча летит – искры. Взялась огнем земля, а над ним, над колдуном, над камнем горючим, – ласточка. Порхает, а улететь ей некуда, и пала на него лапками кверху. Тут Василий Иванович и узнал ту ласточку – Марья Петровна.
«Неужто старая боярская ложь пересилила царскую мою правду?» – подумал этак и проснулся.
И жить не хочется – страшно.
Сидят они бок о бок, Василий Иванович и Марья Петровна. Сидят и заговорить друг с другом опасаются. Тут и прибежали от воеводы, от Михайлы Васильевича Скопина-Шуйского:
– Самозванец пришел! В двенадцати верстах стоит.
– А день-то у нас какой? – спросил, не зная зачем, Василий Иванович.
– Агапита Печерского, врача безмездного, – ответил гонец. – Первое июня, стало быть.






