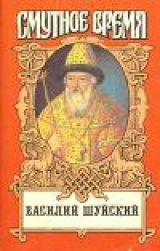
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Справа и слева – длинный ряд кресел, соединенных в единое целое. В каждом кресле сенатор. За спинками кресел многие ряды лавок, и на них сплошь головы – шляхта. В конце «избы», как на краю земли, – возвышение, сверкающий трон, длинные лучи алмазов с короны короля, толпа вельмож, и все это на фоне ковра, уж наверное, из самого рая.
Жолкевский, выставляя грудь колесом, прошествовал со своими лжепленниками к подножию Сигизмундова трона.
Царь Василий склонил голову, Дмитрий отдал поясной поклон, Иван коснулся рукой пола.
Сенаторы зашептались, обсуждая, достаточно ли смиренно ведут себя пленные.
Жолкевский выступил вперед и, обращаясь к королю и к сейму, звенящим голосом произнес первую фразу хорошо заученной речи.
– Вот он, великий царь московский! – указал на Василия Ивановича обеими руками. – Вот он, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшны и грозны польской короне и ее королям, турецкому падишаху и всем соседним государствам. Вот брат его, Дмитрий! – Снова взлет рук и указание на вспыхнувшего, опустившего голову князя. – Се – предводитель шестидесятитысячного войска, мужественного, храброго и сильного. Недавно еще они повелевали царствами, княжествами, областями, множеством подданных, городами, замками, неисчислимыми сокровищами и доходами, но, по воле и по благословению Господа Бога над вашим величеством, мужеством и доблестью польского войска, ныне стоят они жалкими пленниками, всего лишенные, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии.
Жолкевский умолк, давая время жалким пленникам упасть на землю. Пленники не шевелились, пауза затягивалась. Лица зрителей вытягивались. Василий Иванович видел это краем глаза, посмотрел на братьев, улыбнулся, переложил шапку из правой руки в левую, неторопливо нагнулся, достал пальцами земли, поднес руку к губам, поцеловал.
Дмитрий на колени пал нетерпеливо, ткнулся головой в пол, вскочил.
Иван заплакал вдруг, отбил три смиренных поклона.
– Ваше величество! – воскликнул Жолкевский, переведя дух. – Я вас умоляю за них! Примите их не как пленных, окажите им свое милосердие. Помните, счастье непостоянно! Никто из монархов не может назвать себя счастливым, пока не окончит своего земного поприща.
– Я жалую стоящих передо мною! – сказал Сигизмунд. – Пусть подойдут.
Дал целовать руку всем трем Шуйским.
Следующим говорил канцлер Крыский. Растекся речью витиеватой, восхваляя Сигизмунда, но более Жолкевского.
– Ум гетмана, доблесть польского войска, счастье короля дали плоды изумительные! – восклицал на каждом слове Крыский. – К королевским ногам рыцари Речи Посполитой не раз бросали знамена посрамленных врагов, хоругви покорившихся народов, но пленный царь – первый в истории державы. Слава королю Сигизмунду! Слава коронному гетману Жолкевскому!
Канцлер кончил речь, обращаясь к Шуйским:
– Радуйтесь! Вы в руках не жестокого варвара, но монарха просвещенного и набожного, доброго христианского короля. Да хранит его Господь!
И тут поднялся воевода сандомирский Юрий Мнишек. Метал в московского царя громы и молнии, требуя казни за вероломное убийство Дмитрия, царя коронованного, всеми признанного. За убиение панов, приехавших на свадьбу. За слезы коронованной царицы Марины, за поругание, за ограбление, за неволю, какие претерпел сам он, сенатор Речи Посполитой, от похитителя московского трона, от исчадия ада, называющего себя царем московским.
Речь Мнишека была выслушана, но оставлена без внимания. Сигизмунд отпустил братьев Шуйских с миром. Их отвели в одно из помещений дворца, оставили в покое до вечера.
Жолкевский не случайно помянул в своей речи турецкого падишаха: на Сейме присутствовал посол Порты.
Вечером король давал пир в честь турецкого гостя, и тот вдруг пожелал видеть бывшего московского царя Василия Ивановича одели в вишневый бархатный кафтан, в золотой парчовый охабень, привели на пир, посадили напротив турка.
Этот азиат, сверкая черными глазами, долго рассматривал Шуйского, потом посол поднял кубок и сказал здравицу королю. Говорил по-польски, слова произносил старательно, и Василий Иванович понял сказанное. Речь шла о счастье Сигизмунда. Бог давал ему императора Австрии Максимилиана, а ныне послал московского царя. Такому можно только дивиться да славить Аллаха.
– Не дивись моей участи! – вдруг ответил турку Василий Иванович. – Я был сильный государь, а теперь – пленник. Но попомни мое слово: если король овладеет Россией – твоему государю не миновать моей участи. У нас, русских, так говорят: сегодня мой черед, а завтра твой.
Глаза турка вспыхнули гневом, но ничего не ответил. Во время пира все взглядывали на Василия Ивановича, призадумываясь, а русский царь кушал, пил вино и не горевал, что это его последнее царское застолье.
19
Праздники поношения закончились. Шуйских отвезли за сто тридцать верст от Варшавы, в заброшенный Гостынский замок, под стражу почетную, свободную.
Имена новых постояльцев замка держали в секрете, называя князьями Левиными.
Старостой гостынским и правителем замка король прислал Юрия Гарвавского, стражей командовал пристав Збигнев Бобровницкий.
Василия Ивановича поместили в комнатке над воротами замка. На окнах железные решетки, стены высокие, серые – каменный мешок.
– Вот ты какое, последнее прибежище! – сказал Василий Иванович, окидывая рассеянным взором свой каземат.
– Здесь светло и тепло, ваше величество! – поклонился государю пан Збигнев. – Прислуживать вам будут шестеро слуг, ваших, русских.
Слуг вывезла жена Дмитрия Екатерина Григорьевна, всего их было тринадцать.
Дмитрию с супругой назначили жить в первом этаже замка, с окошком на мост и на рощу причудливо разросшегося неухоженного виноградника.
Ивана устроили во флигеле, большую часть которого занимала семья пристава.
Василий Иванович установил складень со Спасом в Силах, с Богородицей да Иоанном Крестителем на столике в красном углу. Слуга по имени Втор сказал:
– Я угольник сделаю.
– Лампадку бы добыть.
– Не сыщем, так соорудим, – пообещал слуга.
Василий Иванович подошел к окну, сел в деревянное, ласково скрипнувшее, креслице.
Прямая как стрела дорога светилась среди пирамидальных, очень высоких тополей. Далеко Василий Иванович не видел…
– Поглядим, сколь много у нас свободы, – сказал государь и пошел из комнаты, спустился по лестнице во двор.
Не остановили.
Тогда он отправился смотреть, как устроился Дмитрий.
Комната была занята кроватью, комодом для платья, столом.
– Скажи мне, Екатерина Григорьевна, – спросил Василий Иванович, смущенно улыбаясь. – Пока нас везли сюда и, знаешь, даже во сне, хотел я вспомнить себя ребенком и не мог. К чему бы это?
– Наверное, ты не был ребенком, вот и не можешь вспомнить, – в сердцах сказал Дмитрий: ему не нравилась теснота жилища.
В глазах Екатерины Григорьевны тоже мерцала ненависть. Василий Иванович удивился.
– За что ты на меня в обиде, Екатерина Григорьевна?
Она молчала, но злые огни засверкали чаще в ярче. Василий Иванович вздохнул.
– Напрасно гневаешься. Твой супруг погубил меня в Клушине. Но я не виню Дмитрия. Мы – дети греха. Мой отец водил дружбу с опричниками, о твоем же батюшке, Екатерина Григорьевна, умолчим. Не станем поминать и наши вины перед людьми, перед Богом. Их много, – вдруг поклонился Екатерине Григорьевне до земли. – Прости меня! Ах, если бы я только вспомнил себя ребенком!.. Тогда бы я жил…
– Зачем?! – крикнула, как сорвалась, Екатерина Григорьевна.
– Ради жизни. Мне шестидесяти нет. Навуходоносор семь лет травой питался, а потом Господь вернул ему величие и царство.
– Тебя не вернут! Тебя вся Москва ненавидит! – закричала Екатерина Григорьевна.
– Неправда, – сказал Василий Иванович. – Нам другого надо опасаться. Как бы в Москве не пожелали моего возвращения.
– И что тогда? – спросил Дмитрий насмешливо.
– Тогда нас убьют… Сеном удушат…
20
Дома земля давно белая. Лес, как царь-государь, в горностаевой шубе. А здесь одно небо в пороше, зима в воздухе тает.
Запестрело, наконец побелело. Потом сыпало, сыпало. Гостынский замок стал ниже, меньше.
У Василия Ивановича кружилась голова, даже по утрам. Однажды, поднявшись с постели, он упал.
Приезжал доктор, важно чмокал губами, пустил кровь и приписал лежать.
Василий Иванович лежать не захотел. Одевался, молился, смотрел в окно, ожидая, когда подадут кушанья.
Ему хотелось веселой трескучей зимы, но более всего он ожидал тепла. Да только мысли о тепле день ото дня становились холоднее, оборачивались сосульками.
И приснился сон Василию Ивановичу. Годунов младенца несет.
– Меня! – обрадовался князь.
Подошел к Борису Федоровичу, развернул пеленки, а это – другой.
– Сынишка! – сказал Годунов. – Первенец. Помнишь, я носил его в храм Василия Блаженного, святой водой поил, а он – помер.
– Это было в семь тысяч сто девяносто шестом году от сотворения мира, – сказал Василий Иванович.
– В тысяча пятьсот восемьдесят восьмом, – согласился Годунов. – Я еще не был в царях.
– Борис Федорович! – поспешил Василий Иванович поделиться радостью. – Ты не знаешь, а я ведь тоже!..
– Что тоже? – Годунов завернул пеленки и быстро пошел прочь.
– Я тоже был царем! – закричал Василий Иванович изо всей мочи, потому что Годунов был уже очень далеко.
Не услышал. Услышал бы – обернулся.
Пробудившись, Шуйский лежал в изнеможении, в отчаянье.
«Сам ему скажу! – пришло вдруг на ум. – Был я в царях! Был!»
Торопливо принялся вспоминать, что сделал доброго для царства. Мысли рассыпались, как пшено, и ни одну из пшенинок не удавалось взять пальцами, поднести к глазам, рассмотреть. Ну никак, никак нельзя было ухватить. Ни единого зернышка.
«Да ведь опять сон, – успокоился Василий Иванович. – Птицей надо обернуться, чтоб поклевать пшено».
…В тот разъяснившийся день царица Марья Петровна сидела возле окна в келии своей, во граде Суздале, за стеной Покровского Девичьего монастыря. Вышивала серебряной крученой ниткою ангела на плащанице.
Синицы на голеньких вишнях свистели. Тонко, чисто. В небесных полыньях являлось солнце, и Марья Петровна чувствовала, как лучи прикасаются к щеке, и, радуясь ласке, думала о муже.
– Пусть и тебя согреет, как меня.
Вдруг потемнело, сильный грубый удар потряс окно.
Марья Петровна вскрикнула. Подбежала келейница.
– Что, государыня? Снежком, что ли, в окно попали? Птица.
Марья Петровна тоже посмотрела: в оконном углублении, склонив голову на раскрытое крыло, лежал белый мертвый сокол.
– Как же это он разбился? – удивилась келейница. – Откуда взялся?
– Издалека, – сказала Марья Петровна и до того побледнела, что и губы у нее стали белы. – Это он. Его не стало.
– Господи, о ком ты?
– О муже, о государе Василии Ивановиче.
Последнее
Прах великого государя царя и великого князя Василия Ивановича Шуйского, всея России самодержца, покоится в Архангельском соборе Кремля. Перенесение гроба совершено по договору между королем Речи Посполитой Владиславом Вазой и государем всея Руси Михаилом Федоровичем Романовым.
На гробнице начертали следующую надпись: «Лета 1612, сентября 12 день, на память святого священномученика Автонома преставись благоверный и христолюбивый великий государь царь и великий князь Василий Иванович, всея Руси самодержец, в Польском королевстве в 70 лето живота своего, а в Польше лежало тело его 23 года». Вот и верь старым сказаниям.
В Энциклопедии другое прочитаете: «Василий Иванович Шуйский (1552–12.9.1612), русский царь в 1606–1610). Дата смерти указана по старому стилю. 12 сентября – память епископа Италийского Автонома.
На гробнице Шуйскому прибавлено целых десять лет жизни. А между тем неутомимые историки, покопавшись, нашли в Гостынском архиве акты о смерти князей Шуйских. Читаем: «Состоялось в Гостынском замке в субботу, на следующий день после праздника св. Матфея, апостола и евангелиста Господня тысяча шестьсот двенадцатого.
В царствование светлейшего Сигизмунда III, короля польского и шведского.
Славной памяти высокородный покойный Василий Шуйский душу свою Господу Богу отдал в субботу после праздника св. Матфея, апостола и евангелиста, в своем помещении, в каменной комнатке над каменными воротами».
Память евангелиста Матфея приходится на 16 ноября старого стиля. Значит, умер царь Василий Иванович Шуйский 17 ноября? Но польские исследователи относят дату смерти русского царя на 26 февраля.
В исторической литературе датой смерти Дмитрия Ивановича Шуйского принято считать 17 сентября 1612 года, через пять дней после смерти старшего брата. Прибавляют, что случилось это в день Михаила Архангела. Но «Воспоминание о чуде Архистратига Михаила» празднуют не 17, а 6 сентября.
Запись же нотариуса Гостынского замка гласит: «Славной памяти покойный высокородный Дмитрий Шуйский, великий гетман московский, скончался и Господу Богу душу свою отдал в четверг перед праздником св. Михаила 1612 года, в присутствии высокородной Екатерины княгини, своей супруги, и московских слуг».
Выходит, день смерти Дмитрия Ивановича Шуйского и впрямь приходится на 5 сентября.
Существует «акт» и о кончине Екатерины Григорьевны.
«Высокородная покойная Екатерина Шуйская, супруга покойного Дмитрия Шуйского, скончалась сегодня, т. е. в воскресенье, в праздник святой Екатерины девы и мученицы, в половине второго часа пополудни, в присутствии высокородного Иоанна Шуйского (называемого «князь Иван Левин»), деверя своего, а также прислужниц и своих служителей, одержимая болезнью, значительною опухолью, благословляя оставшихся в живых». Великомученицу Екатерину поминают 24 ноября.
Один князь Иван Иванович Шуйский Пуговка остался жив. В грамоте московским послам он так объяснил свое спасение:
«Вместо смерти наияснейший король дал мне жизнь и велел служить сыну своему Владиславу».
Только в 1619 году послал Господь Ивану Ивановичу целовать родную землю. Вернули ему боярство, вотчины, но особых служб царю Михаилу Федоровичу он не служил, а сидел себе в Думе да иной раз местничался.
Умер в 1638 году, бездетным.
На нем, на Пуговке, древний род князей Шуйских, Рюриковичей, родни святому князю Александру Невскому, род, давший России царя и многих славных великих воевод, – прервался.
Царица Марья Петровна, принявшая иночество с именем Елена, умерла в 1625 году, в Новодевичьем монастыре.
Господи, Господи! Да не судить нам, грешным, прежних царей, не судить пращуров наших, но помнить!
П. Н. Полевой
Маринка-безбожница
Исторический роман из Смутного времени
I
Царь Василий и его заботы
Москва еще не успела оправиться от страшных и кровавых майских дней 1606 года, не успела еще прийти в себя от того переполоха, который произведен был нежданным возмущением бояр против Лжедмитрия, как уже началось новое царствование…
Следы убийства и грубых насилий толпы, бушевавшей во время расправы с клевретами Самозванца в Кремле и с поляками в Китай– и в Белом-городе, еще не были изглажены ни людьми, ни временем, а уж в кремлевских теремных палатах поселились царь Василий Шуйский и вся родня его, жадная до власти и до всяких теплых и доходных местечек.
В народе еще живы были рассказы о поруганиях и бессмысленном глумлении, которым подвергся труп бывшего «законного и прирожденного Дмитрия» сначала на площади, потом в убогом доме и, наконец, на Болоте, где его прах был развеян по ветру выстрелом из пушки, а в московских кремлевских соборах уже начались приготовления к царскому венчанию и другому великому торжеству – к перенесению мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву. Гонцы то и дело скакали из Белокаменной во все города Русской земли; бояре и служилые люди съезжались из поместий в Москву – одни для того, чтобы снискать у нового царя новых милостей, другие – чтобы новыми услугами, загладить перед царем Василием свое прежнее усердие на службе царю Дмитрию, которого теперь величали не иначе как «вором и обманщиком»; третьи – просто для того, чтобы почуять, в которую сторону ветром тянет, и по ветру направить свою ладью.
А между тем положение царя Василия было далеко не завидное и не радостное. Польские королевские послы, знатные паны Олесницкий и Гонсевский, задержанные в Москве вместе с Юрием Мнишком, с его дочерью Мариной и со всею польской свитой Самозванца, настоятельно требовали свободного пропуска обратно в Польшу и для себя, и для своих земляков. Из Польши доходили недобрые вести о том, что Сигизмунд собирается воевать с Московским государством. Большая часть северских и украинских городов еще не присягала новому царю; в самой Москве было очень неспокойно, и начинали бродить в народе такие слухи, которые царь Василий не без причины считал для себя опасными. Недаром собирал он каждый день боярскую Думу на чрезвычайные заседания; недаром до поздней ночи сидел у себя в покоях и совещался то с братьями, Дмитрием и Иваном, то с небольшим кружком своих надежнейших приверженцев.
Вот и сегодня, после целого дня хлопот, забот, приемов и продолжительного заседания в Думе, царь Василий, несмотря на поздний час ночи, все еще не спит: он сидит в кресле у кровати в своей царской опочивальне и ведет тайную беседу с братьями и с разрядным дьяком Василием Осиповичем Яновым, родичем царя Василия по жене, который с первых же дней царствования стал пользоваться большим доверием царя и большим значением при дворе.
– Так, значит, теперь все грамоты боярские и записи присяжные разосланы уже? – говорил, озабоченно хмуря седые брови, царь Василий, обращаясь к дьяку, почтительно стоявшему у порога дверей со связкой столбцов [1]1
Свитков.
[Закрыть]под мышкою.
– Не все еще, государь всемилостивый, день-деньской пишем, от зари утренней до зари вечерней, великий государь; всех подьячих с ног смотали… Да государство-то твое столь велико, что еще три дня писать придется.
– Ну, а ты чем утешишь, Дмитрий Иванович? – с недовольным видом обратился царь Василий к одному из братьев, сидевшему на скамье около стены. – Что порешили вы с послами?
– Да только еще начали… И по началу-то не видно, что будет… Стоят на том, чтобы отпустить и их и всех их земляков, пана Юрия Мнишка и Марину, всех разом, в Польшу и за убытки вознаградить…
– Убытки вздумали на нас искать! – продолжал вслух рассуждать царь Василий, ни к кому не обращаясь лично. – Сами не знаем, как пополнить казну государскую, а они – убытки! И теперь ведь сколько денег нужно на все?.. И на венчание, и на перенос мощей царевича Дмитрия из Углича… О-ох, Господи! Угодник Божий, – спохватился царь Василий, опасливо оглядываясь на иконы и крестясь.
– Князь Мстиславский да Трубецкой с Голицыным, – вступился князь Иван Иванович Шуйский, – говорили мне сегодня, что по великой радости венчанья надо бы народ на площадь собрать да угостить из царских погребов, как допрежь того бывало…
– Хорошо им щедрить из чужой мошны! – озлобленно окрысился царь Василий. – Народ поить и угощать! Еще, значит, вали и сыпь из мешков! Да что они, в уме рехнулись, что ли? Не дам на это ни алтына, так им и скажи, чтобы не совались по-пустому с советами!
И он замолк, насупившись. Две-три минуты прошли в молчании.
– А что же, Дмитрий Иванович, ты не доложишь мне о московских слухах? Ты посулился мне вчера, что все будешь знать? – снова обратился царь Василий к брату.
– Слухов много, государь. Да правду-то сказать, не знаешь, верить ли им?
– Про то уж пусть я знаю: на то и царь я, чтобы знать! А ты обязан все мне передать, как есть!..
– Да вот, великий государь, в народе ходит слух, что будто… окаянный расстрига жив…
Царь Василий всем тучным телом так быстро повернулся к брату, что кресло затрещало.
– И не токмо что жив, а что он и за рубеж бежал и войско там в Литве сбирает… на тебя же.
– Да что ж они все очумели, прости, Господи, а? – с изумлением спросил царь Василий брата. – Ведь, кажется, уж видели – три дня лежал на площади! А там в убогом доме… а там не сами ли они его стащили за Серпуховскую заставу, сожгла аки волшебника и пушку не его ли пеплом зарядили? А?
– Им все это нипочем! Так пряно и говорят, что, мол, его подручника убили, а сам он накануне еще ушел… и был таков! Рассказывают под великой тайной, что даже письма от него в руках у Мнишка и Марины…
– Вот что! – перебил брата царь Василий. – Надо поскорее отца свести под одну крышу с дочкою и держать их за тремя замками, да назначить им в приставы кого-нибудь порасторопнее да подельнее из молодых, кто бы и по-польски разумел… для тайного надзора… Такого, чтобы мог их речи слышать и понимать… Кого выбрать?
– Да чего лучше? – сказал Иван Иванович Шуйский. – Вот сегодня дьяк Томило-Луговский мне говорил, что видел на площадке стольника Степурина, вернулся из побывки, вишь…
– Какой этот Степурин?
– Непригоден он, слишком молод, – вкрадчиво я язвительно заметил Янов.
– Молод, да толков, – возразил Иван Шуйский. – Бывал уж в приставах при польских послах, живал в Смоленске и по-польски говорить горазд.
– Непригляден, – продолжал утверждать Янов, – он из романовской родни… Ведь и Томило-Луговский затем и говорил о нем, что он тоже друг Романовых.
– Так что ж, что друг Романовых? – неожиданно перебил дьяка царь Василий. – Да и Романовы теперь нам нужны! Я знаю, что на их присягу можно положиться. Недаром я Филарета отправил в Углич за мощами новоявленного угодника… и…
Царь Василий вдруг остановился на полуслове, как бы сам испугавшись своей излишней откровенности.
– Иван Иванович! – обратился он к брату. – Пошли сказать Томиле, чтобы зашел ко мне пораньше завтра во дворец, и проводи его ко мне в комнату. Ну, а теперь – все с Богом ступайте, доброй ночи; да зовите спальников сюда.
Полчаса спустя царь Василий лежал в постели, на лебяжьих пуховиках, уткнувши седую, плешивую голову в мягкую подушку и натянув на себя камчатое соболье одеяло. Он закрыл глаза и усиленно старался заснуть… Но это было нелегко. Не шли у него из головы московские слухи и всякие думы, омрачавшие блеск того царского венца, который так прельщал и манил его издали. И царь видит, как на него живою стеной идет все море лжи, среди которой уже так много лет сряду он живет и действует. Вон, вон собираются на него эти тяжелые, мутные, грязные волны, и нет от них спасенья… Тяжкое сознание беспомощности овладевает на минуту всем существом царя… Он теряется, он ищет спасенья в молитве. Торопливо крестясь под одеялом, он шепчет про себя:
– Да воскреснет Бог и расточатся врази его! И да бежат от лица его…
Но это шепчут только уста Василия. Молитва не просветляет, не возвышает его излукавившейся души, привязанной к земле крепкими узами мелких расчетов, ненасытной корысти и жажды величия.
А между тем пронырливый, изворотливый ум старого и опытного дворского дельца уже старается подыскать и утешение для грозного будущего и оправдание для темного минувшего.
– Да, да!.. И то сказать надо: кругом меня немного верных да надежных… Лыков Борис, Куракин, Голицыны князья, да разве Хворостинин… Пожалуй, и обчелся! А тут еще и патриарх мне этот навязался… Да! Гермоген не Иову чета! Тот был Борису верным другом… А этот, чуть что не по уставу, – не дозволю! Так и отрежет – там поди, считайся с ним. Романовы мне нужны, и если этот Степурин мне пригодится, я подниму его и… этим угожу Романовым…






