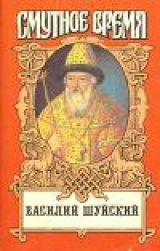
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Служба государя Василия Ивановича Шуйского царству и чести
1
В Москве было страшно. Москву одолели слухи. Некому человеку был пророческий сон. Вот стоит он на холме, на белой на женской груди, и на том холме, на той белой женской груди – сам-де собор Успенский. И вот сошла с черного неба звезда и, войдя через Царские Врата, озарила храм светом великим, чудным, и в том свету явился Иисус Христос, а стены храма заговорили, ужасая каменными словесами: «О московский лукавый народ! Ты есть новый Израиль, и дела твои подобны делам Иудиным: на словах одно – на деле иное, на груди крест – в груди же святотатство. Всяк от малого до старого сквернословит, бороды мужчин бриты и стрижены, всякий чужой обычай – лучше своего. Нет истины ни в царе, ни в патриархе, ни в церковном чине, ни в целом народе. Правда – в тюрьме и на плахе, ложь – за столами, ухоженная, наряженная. Посему – царю и патриарху за их немочь духовную будет казнь. Всему же царству Русскому – истребление и погибель».
Сие видение на исповеди поведал благовещенскому протопопу некий человек, заклявший протопопа Господом не называть царю его имени.
Царица Марья Петровна, прослышав про тот вещий сон, плакала.
Государь же Василий Иванович ни страха, ни гнева не выказал. Не чужие сны его заботили, но казна. Дабы одолеть ее печальную пустоту, повелел он вынести на московский торг все царские, все царицыны старые вещи, всю рухлядь – меховую, парчовую, сапоги, чоботы, шапки, рукавицы. Кто хочет в царском платье хаживать – плати!
Многие пришли на небывалый торг и брали рухлядь, прибавляя цену, вдвое и втрое, по грехам своим, Ибо государство впадало в нищету.
Спросил Василий Иванович деньги с монастырей, и монастыри дали ему, не отказывая.
На те деньги собрал Василий Иванович войско.
Когда полки выходили из стен Москвы, направляясь к Волхову, чтобы остановить Самозванца, ударили колокола, и у самого большого, у самого громогласного кремлевского колокола отвалился язык, колокол стал нем. Не гул, но вихрь вылетел из его огромного чрева. Немой, крутящийся вихрь.
2
Вор и Самозванец привык не столько воевать – хлеб-соль отведывать. В Козельске его почтили, в Калуге, в Борисове. Можайск только день воевал против «истинного царя». А в Тайнинском иное встретил.
В ночь на 24 июня пушкари залили орудия свинцом, позабивали затравки гвоздями и бежали к своим, в Москву. Бежали, да не убежали. Пытали бедных, казнили. Кого на кол, кого саблями посекли.
Нет имен у тех пушкарей, не поминают их в церквах, не тратят на них слов историки… Простые пушкари, не пожелавшие смерти Руси. Из-за этих пушкарей чрезмерная близость к Москве показалась и Вору, и его гетману Рожинскому опасной. Встали табором в Тушине.
Село Тушино названо по имени хозяина своего. Боярин Тушин получил сельцо в 1536 году в княжение Василия III. Помирая, завещал дочери, княгине Телятевской. Место было красное, обжитое с давних пор. Еще в 1382 году московский князь Иван Данилович одарил этим селом боярина Родиона Несторовича Квашню за спасение жизни в жестокой сече.
Заботясь о вечной жизни отца и матушки, детей, родичей, о себе, грешной, княгиня Телятевская подарила Тушино Спасо-Преображенскому монастырю.
Вечность у Бога. Бог же за посягательство на тайну Свою наказует. Коли света хочется, учителю внемли. Учитель за спиной. Он – наше вчера. Помнить бы всем русским людям хотя бы одно Тушино. Много стыдного пережили предки, а Тушино все же особняком стоит. Тушино – позорный крест России. Крест надо нести, беречь как зеницу ока, дабы не повторилось…
Чужие шатры покрыли Тушино, будто слетелись птицы с железными когтями, чтобы ранить русскую землю, чтобы русских людей склевать железными клювами, чтобы размести, развеять пепел русских городов серыми крыльями, что ни взмах – столбы гари да вихри огня.
Снова пришел царь Василий Иванович к провидице Алене. Алена уж совсем усохла, стала махонькая, темная, как кринка, в которой молоко оттапливают.
Увидев царя на пороге землянки своей, всплеснула Алена ручками, тонкими, как ивовые прутики, припала головой к животу его – выше уж не доставала – и заплакала. По нему ли, царю, по России ли, по народу ли нашему пропащему. Не решился Василий Иванович спрашивать, утер старушке слезы, умыл мокрой рукою свое лицо. И вот уж и чудо – перестала голова дрожать, глазки снова стали махонькими, поросячьими. И походка переменилась. Стал бочком ходить, видя впереди и позади. Так неслышно наступал на землю, что стража и та вздрагивала, когда являлся он вдруг будто из-под полу, из-под каменных плит.
Василию Ивановичу было чего опасаться. Лжецари и лжецаревичи уж на двух руках не умещались: Петр, Август, Лаврентий, Федор, Василий, Симеон, Клемент, Савелий, Гаврилка, Мартынка, Ерошка…
За три года русские люди до того издурили друг друга, что полподлости уж принимали за полправды.
Москва на тушинцев взирала благодушно. Знали, хорошо знали москвичи – враг на выдумки горазд. И проморгали… Толпа поляков каждый день вступала в Москву, царские люди ехали в Тушино. Тушинские ополченцы из крестьян перекликались с московскими стрельцами. И те и другие грелись на солнце, теряя боязнь. Разговоры шли пресоблазнительные. Кто он там, главный тушинец, вор ли, истинный ли царь Дмитрий Иоаннович, простому народу от него одна только прибыль. Поместья господ, служивших Шуйскому, крестьянам роздал. Где прошел истинный государь – всем воля, всем земля.
…Гетман вора Рожинский поднял войско в последнем часу короткой июльской ночи, подкрались к городу, ударили, когда ни света нет, ни тьмы.
На правом крыле царского войска стояли татары. К ним подобралась конница донских казаков, которых вел атаман Заруцкий. Заруцкий изготовился для атаки, но тут запели молитву муэдзины, и атаман дал время татарам, чтоб, помолясь, успели заснуть сладким утренним сном.
Первым на московские таборы напал конный полк Валевского.
Спросонья, в полутьме, среди пальбы, воплей раненых, бьющихся в ужасе лошадей кинулись, себя не помня. Все огромное войско бежало, бросив обозы, пушки, походные церковки…
Рожинский, торопясь сокрушить московские полки, послал всю конницу, всю пехоту… Гоня бегущих, можно и в Москву войти. И взять.
…Царица Марья Петровна разбудила Василия Ивановича в самую полночь.
– Ворохтается во мне, государюшко! Уж так ворохтается!
Василий Иванович перепугался. Побежал к лампадке, запалил от огонька свечу.
– Дохторов покликать? За Вазмером разве послать?
– Ой, не надо бы, Василий Иванович. Ты прости меня! С непривычки страх нашел. Знак дите наше подает.
– Знак? – Василий Иванович погладил Марью Петровну. – Сына мне роди! Царь без наследника – царь не надолго. Значит, и служить ему можно вполдела, вполсилы. Завтра иному придется поклоны отвешивать.
Нежно прикоснулся к подрастающему животу царицы.
– Драгоценна твоя тяжесть! Всему Московскому царству она во спасение.
– Ох ты как! – тихонечко засмеялась Марья Петровна. – Ножками толкается… Может, и не ножками, а как ножками. Ой, шалун! Ой!
И вдруг заснула. Так вот сразу и заснула, радостно улыбаясь.
Василий Иванович набрал воздуха задуть свечу и не посмел. Хорошо ли свечу гасить, когда о ребеночке говорили? Тревожно сделалось. Какой знак дитя подает?
Василий Иванович прочитал молитву, вышел в соседнюю комнату, к спальникам.
– Одеваться! Поедем на Ваганьково. Поглядим, как стережется войско от неприятеля.
Василий Иванович выезжал через Никольские ворота, когда на Ходынке пошла пальба.
Ваганьковское поле, где стояли дворцовые полки, было обведено рвом, и по всему рву стояли пушки.
Пока бегущие, гонимые, скатывались в ров, пушкари изготовились. Словно огромный, до небес, огненный бык боднул ужасным лбом польскую и казацкую конницу. Было поле зелено – стало красным. Еще скакали лошади с оторванными головами, еще кричали усатые человечьи головы, кубарем катясь по скользкой от росы мураве, но ужас уже бил крыльями за спинами наступавших.
Развеянные полки строились, а царские давно уже стояли наготове, и теперь пошли. И пошли злые за испытанный позор бежавшие полки. Пошли по Ваганькову, по Ходынке, через реку и дальше, до самых Химок.
Здесь уже Рожинский собрал в кулак войско, повернул на москалей их пушки, лучшие в мире пушки.
И снова перекрутился вихрь, помчал, кровавя землю, в обратную сторону, до Ходынки, где и опал, обессилев.
3
Государь держал, как перышко, у груди своей царевну свою ненаглядную.
– Ах, не дал Бог мальчика! Не ропщу, Марья Петровна, радуюсь. А о наследнике молюсь.
– Я рожу тебе, государь, миленький! Мальчика рожу! Пусть десять воров придут – рожу и выпестую, – Марья Петровна горела отвагою, хотя после тяжких родов никак не могла оправиться, все мерзла, все давала Василию Ивановичу ладошки свои ледяные, чтоб согрел.
Жизнь дочки трепетала, как пламя крошечной свечи, уж очень слабенькая уродилась.
– Минул бы этот год, а там было бы много иных лет, покойных и добрых, – сказал государь, передавая свое перышко в руки пышнотелой мамки.
Поспешил в Грановитую палату.
Дума сидела, словно у погасшего, у холодного очага, Василий Иванович, садясь на трон, даже плечами передернул.
– Печи, что ли, не топили?
– Тепло еще на дворе, – отозвался дворецкий. – А впереди зима…
Призадумались. Перекроют тушинцы все дороги, без дров Москва насидится.
Первым о делах заговорил государев свояк князь Иван Михайлович Воротынский.
– Вчера на ночь глядя бежали к Вору двумя толпами, через Заяузье и через Серпуховское ворота.
Государь слушал, уткнув глаза в ладони, и будто прочитал по ним нечто утешительное.
– Господи, убереги от срама русский народ! – сказал он голосом ровным, разумным. – Ладно бы холопы бежали, люди обидчивые, зависимые. Князья бегут. От кого? От России? От царя Шуйского? Но к кому? К человеку безымянному, бесчестному, ибо имя у него чужое… В казаки всем захотелось? Но от кого воли хотят, от гробов пращуров? Кого грабить собираются? Свои села, крестьян своих?
Замолчал, слеповато вглядываясь в сидевшее боярство, в думных.
– Вот что я скажу, господа! Не срамите себя и роды свои подлой изменой. Я всем даю свободу. Слышите, это не пустое слово, в сердцах сказанное, а мой государев указ. Не желаю вашего позора в веках! С этой самой минуты все вольны идти куда угодно. Кто хочет искать боярства у Вора, торопитесь! Кто хочет бежать от войны и разора в покойные места, если они есть на нашей земле, – торопитесь! Я хочу, чтобы со мной остались верные люди. Я буду сидеть в осаде, как сидел в приход Болотникова, – снова обвел глазами Думу. – С Богом, господа! Я удалюсь, чтобы не мешать вам сделать выбор.
Шуйский поднялся с трона, но к нему кинулись Мстиславский с Голицыным.
– Остановись, государь!
Послышались возгласы:
– Евангелие принесите! Дайте Крест!
И поставили патриарха Гермогена с Крестом и Евангелием возле престола русского царя, и прошли всей Думой, целуя Крест и целуя Евангелие, и каждый восклицал от сердца свои хранимые слова.
– Умру за тебя, пресветлый царь! – ударил себя в грудь Иван Петрович Шереметев, а брат его Петр Петрович расплакался, как дитя.
Воодушевление Думы разнеслось ветром по Москве, крася лица отвагой, ибо все глядели прямо и не отводили глаз от встречного вопрошающего взора.
А наутро хуже разлившейся желчи, жалкая, позорная весть. К тушинцу бежали Иван Петрович да Петр Петрович – Шереметевы, те, что вчера выставляли перед царем и Богом верность свою, – краса дворянства русского.
В тот же день царь Василий Иванович приказал все войска, стоящие вокруг Москвы, собрать за городскими стенами, не проливать крови своей и своей же, ибо в бесчисленных, в бессмысленных стычках с той и с другой стороны гибли русские.
– Не надеется царь на войско, – сообразили умные.
4
23 сентября после тяжелых сражений с московскими воеводами литовский магнат Ян Сапега пришел с отрядом вольной шляхты под стены Троице-Сергиева монастыря. Началась долгая, длившаяся полтора года осада.
Вот свидетельство очевидца этого испытания. 29 марта 1609 года царевна Ксения – инокиня Ольга – писала своей знакомой: «Государыне моей свету тетушке кн. Домне Богдановне Борисова дочь Федоровича Годунова челом бьет. Буди, государыня, здорова на многие лета, со всеми своими ближними приятели. Пожалуй, государыня, пиши ко мне о своем здоровье, а мне бы про твое здоровье слышав, о Господе радоватися. А про меня похочешь ведати, и я у Живоначальные Троицы, в осаде, марта по 29 день, в своих бедах чуть жива, конечно больна, со всеми старицами; и впредь, государыня, никако не чаем себе живота, с часу на час ожидаем смерти, потому что у нас, в осаде, шатость и измена великая. Да у нас же за грех наш, моровое поветрея: всяких людей изняли скорби великия смертныя, на всякой день хоронят мертвых человек до двадцати и по тридцати и больши; а которые люди посяместо ходят, и те собою не владеют, все обезножели. Да пожалуй отпиши ко мне про московское житье, про все подлинно, а яз тебе, государыне своей, много челом бью».
В Троице-Сергневом монастыре терпели, а в Грановитой палате царь Шуйский сидел с боярами, думал и о Троице, и о других делах.
Слушали патриарха Гермогена.
– Мне отовсюду говорят, чтобы я осудил и проклял митрополита Филарета за его самозванство. Вот и здесь, в Думе, подали мне сегодня грамоту высокопреосвященного Филарета, которая подписана: «Митрополит ростовский и ярославский, нареченный патриарх Московский и всея Руси».
Борода патриарха уже потеряла цвет и почти вся была серебряная, но черные глаза его не утратили ни света, ни блеска. Он поставил свой пастырский посох перед собой, и рука его, ладная, сильная, покоилась на посохе с державной уверенностью.
– Нет! – сказал Гермоген. – Я не стану проклинать Филарета, ибо он – в плену. Не перелетел, как иные, с гнезда на гнездо, а пленен. «Не судите, и не будете судимы, – заповедал нам Иисус Христос. – Не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете». Что же мы забываем божественный урок, как только нам представляется истинная возможность исполнить заповедь?
Гермоген поклонился Шуйскому.
– Прости, государь. Я, недостойный, не раз согрешил перед тобою, желая, чтобы ты взялся за кнут, когда ты уповал на слово, чтобы ты призвал палача, когда ты взывал к совести. Я и теперь хотел бы, чтоб ты, царь, взял метлу и подмел Тушино. Однако ты ведаешь нечто иное, чем мы, государственные слепцы. Ты терпишь, и вся Москва и вся Россия принуждена ждать и терпеть. Но, может, довольно с нас смиренности? Молю тебя! Вызволи из плена владыку Филарета! Вызволи всех заблудших, спаси от соблазна сомневающихся.
Все смотрели на Шуйского. Царь был бледен, но лицом и глазами смел, как никогда.
– Можно ли вылечить расслабленного кнутом? Измена – это болезнь. Ее можно загнать вовнутрь страхом, но страх – не лекарство. Как человек бывает болен, но вновь обретает здоровье, так и царство. Сегодня оно немощно, а завтра будет на ногах, радуясь труду и празднуя праздники.
– Государь, надо спасать Троице-Сергиев монастырь! – сказал князь Михаил Воротынский.
– Надо, – согласился Василий Иванович и поглядел на патриарха. – Молитесь, святые отцы, молитесь! Из Москвы нам послать к Троице большого войска нельзя, а послать малое – только потерять его. Подождем прихода князя Скопина-Шуйского. Может, ты, князь Михаил Иванович, укажешь нам иных, не ведомых нам, но верных людей, иные края, где ждут не дождутся подать нам помощь, лишь бы мы попросили этой помощи?
– Государь, – смутился Воротынский. – Сидя в Москве, ни своих, ни заморских доброжелателей не найдешь, но я боюсь, что твоя царская грамота в северные города, которую нам зачитали сегодня, не соберет всех вместе, но еще более разъединит. Ты, великий царь, не грозой грозишь отступникам, но тихо увещеваешь. В грамоте твоей, государь, написано: «Коли можно вам будет пройти к Москве, то идите не мешкая. А если для большого сбора захотите посаждаться в Ярославле, то об этом к нам отпишите». Скажи ты нам, государь: «Можете идти на Вора войной, а коли боитесь битыми быть, повремените». Так мы хоть и сильны будем, а тотчас усумнимся в себе.
– То вчера можно было грозить, – ответил Василий Иванович, – вчера, когда города стояли заодно. Теперь как узнать, что у людей на уме, какой русский с русскими, а какой русский с поляками? Всякому известно, что Вор – это Вор, только совесть нынче на торгу. Прибыльнее совести товара нынче нет. Скажи-ка мне, Нагой, так ли твой государь размышляет или старец Василий Иванович уж совсем не прав?
Нагой вздрогнул.
– В твоей государевой грамоте, пресветлый государь, все сказано уж так правильно, что вернее нельзя. «Коли вместе не соберетесь, сами за себя не заступитесь, то увидите над собой от воров конечное разорение, домам запустение, женам и детям поругание». Какой еще грозы надобно?
– Вот и слава Богу, – сказал Василий Иванович, ясными глазами глядя то на Воротынского, то на Сашку Нагого. – Слава Богу, что хоть мы-то сами себя не предали. Все плачут о погибели царства, один я, видно, сух глазами. Мы матушку свою не спасем, а Бог спасет. Русь-то святая, спасет ее Господь, спасет, но мы-то все будем каковы, коли не ей службу служили, не Господу, а одной только лжи?
Он поднялся с высокого своего места, поглядел опять на Воротынского, на Нагого и, еще более бледный, но строго решительный, покинул Думу.
Его крошечка дочь умерла на заре.
Он ни с кем не пожелал поделиться горем. Чтобы слух не просочился за стены терема, ни единому слуге не позволяли даже к порогу приблизиться.
Хоронили царевну глубокой ночью, тайно. Будучи свидетелем надругательства над останками Бориса Годунова, Шуйский не хотел, чтобы драгоценные для него гробы кого-то повеселили после его собственной кончины.
Когда измученные второй уже бессонной ночью, осиротевшие, царь и царица легли в постель, Марья Петровна взяла руку господина своего и положила на свой живот.
– Василий Иванович, свет мой, а ведь я опять тяжела.
И они тихо плакали, и слезы их были горячие.
В ту ночь из Москвы к Вору бежал думный человек Александр Нагой и близкий царю князь Михаил Иванович Воротынский.
5
Москва, как и Троице-Сергиев монастырь, была в осаде, а все же на масленицу без блинов не осталась. Но в субботу, что зовется золовкиными посиделками, когда ставят снежные города, берут их с бою и купают воеводу защитников крепости в проруби, в хороший веселый день, а пришелся он в 1609 году на 17 февраля, на преподобного Федора Молчаливого, на Красной площади поднялся большой шум.
Верховодил бунтовщиками Гришка Сунбулов. Три сотни дворян, обросших толпой холопов, охотников пограбить, стали клясть царя, обвиняя во всех бедах, грянувших на Россию.
Толпу в Москве испокон веку принимали за народ. «Народ» этот глотками Сунбулова и дружка его Тимошки Грязного потребовал для ответа бояр.
Бояре, хоть не все, но явились. На Лобное место поднялись князь Мстиславский Федор Иванович, Романов Иван Никитич, князь Голицын Василий Васильевич.
– Сведите с престола Шуйского! – кричали дворяне. – Вы нам Ваську посадили на шею, вы его и стащите прочь! Он царствует, да дела не делает. Страну погубил и нас всех погубит.
Бояре, ничего не отвечая, сделали вид, что отправились за царем, а сами разбежались кто куда и попрятались.
На площади из сановитых остался один Голицын. Ждал, не выкликнут ли его в цари?
Видя, что царя не ведут, бояре упорхнули, Сунбулов приказал охочим людям бежать в Успенский собор, привести патриарха Гермогена.
Гермоген читал молящимся Евангелие, когда в Успенский собор ворвались взбудораженные гилем бесшабашные кабацкие людишки.
– Патриарх! Тебя народ ждет!
Гермоген продолжал чтение, но его схватили за руки, потащили вон из собора.
– Что вы делаете?! – завыли от горя женщины. – Безбожники!
Один детина, окруженный такими же лоботрясами, разбрасывая толпу, вернулся, взошел на алтарное возвышение и крикнул на баб:
– Цыц! Это мы безбожники? Это мы Гришке Отрепьеву кадили или попы? Это мы в Тушине кадим Вору или Филарет с попами? Бояре посадят нам в цари поляка-латинянина или татарина – попы будут кадить и петь татарам и полякам!
Бабы завыли пуще, детина заматерился, загромыхал непотребными словесами, но кровля на его башку не рухнула.
– Погибли! – тихонько плакала старушечка и все тянулась рукой до иконы Божией Матери, чтоб к ризе прикоснуться, но старушку толкали, и рука ее не достигала спасительной святыни.
Гермоген, изумленный грубостью горожан, разгневался, вырвал руки у тащивших его, оттолкнул бунтовщиков и пошел назад, к собору. Но его схватили, потянули, упирающегося, подняли, в воздухе развернули, а потом погнали на Красную площадь тычками в спину; и малые ребята кидали в патриарха замерзшими лошадиными котяхами, а тут еще попалась им куча строительного мусора, бросали песок, глину пригоршнями.
Втащили патриарха на Лобное место растрепанного, в облачении оскверненном, будто служил не в соборе, а на мельнице. На белом клобуке над золотым шестикрылым серафимом грязное пятно, в бороде ком земли, риза заляпана.
Но стал Гермоген перед людьми, и так стал, что смолкли и опустили глаза. Тимошка Грязной, перепугавшись, как бы настроение толпы не переменилось, выскочил на Лобное место и, тыча пальцем чуть не в самое лицо патриарха, заорал:
– Скажи, всю правду скажи! Шуйский избран в цари его похлебцами! Кровь русская рекой льется. А за кого? За него, за блудню, за пьяницу горького, за дурака набитого, за мошенника-казнокрада! Люди, разве я не правду говорю?!
Ожидал одобрительного гула, но услышал звонкий и ясный отклик:
– Врешь! Сажали Шуйского в цари бояре и вы, дворяне-перелеты. Сам собой в цари не сядешь. Пьянства за Василием Ивановичем не знаем. Да если бы и был он, царь, непотребен и неугоден народу, так его одним шумом с престола не сведешь. То дело боярской Думы и Собора всех земель!
Пришлось и Сунбулову поспешить на Лобное место.
– Вы орете по глупости своей! Шуйский тайно сажает нас, дворян, на воду, жен и детей наших терзает и побивает.
– Да сколько же вас побито? – спросил Сунбулова Гермоген.
– С две тыщи!
– Побито две тысячи, и никто об этом до сих пор не знает?! – поднял руки Гермоген, призывая народ к вниманию. – Когда убиты люди? Кто? Имена назови!
– Наших людей и сегодня повели сажать на воду! – брал на глотку Сунбулов. – Мы людей наших послали, чтоб их вызволить.
И, чтоб отвлечь народ, велел подьячему из своих читать грамоту. Грамота была написана от имени городов. Обвиняла Шуйского в государственной немочи, уличала в том, что избран он в цари одной Москвой.
– Не люб нам Шуйский! – крикнул Сунбулов. – Чем больше будет сидеть, тем больше крови прольется.
– Другого в цари изберем! – вторил Гришке Тимошка.
– Ни Новгород Великий, ни Казань, ни Псков, ни иные города – никогда государыне Москве не указывали, – сказал Гермоген. – Москва указывала всем своим городам. Государь царь и великий князь Василий Иоаннович поставлен на царство Богом, властями царства, христолюбивым народом русским. Василий Иоаннович – царь добрый, возлюбленный, желанный всем народом, всеми землями. Вы, дворяне, забыли крестное целование, восстали на Божьего помазанника. Терпеливый и мудрый царь наш, я знаю, и это вам простит, да не простит Бог!
Патриарх покинул Лобное место, прошел сквозь молчащую толпу.
Заговорщики, обгоняя патриарха, кинулись в Кремль, требуя царя. Шуйский вышел к ним без страха и сомнения.
– Вы хотите убить меня? Убейте, я готов принять венец мученика. Но знайте, от царства я не отрекусь, ибо оно держится царем. Без царя Россия разбредется. Хотите иного царя, соберите Земский собор. Ни ваше, ни чье другое своеволие для меня – не указ.
Не имея поддержки в народе, бунтовщики побежали вон из Кремля, из Москвы – в Тушино.
Гермоген послал бежавшим две грамоты. В первой призвал к раскаянью, ибо «Царь милостив, непамятозлобен, вины вам отдал, ваши собственные жены и дети на свободе в своих домах живут». Во второй грамоте воззвал к чувству Родины. «Мы потому к вам пишем, что Господь поставил нас стражами над вами, стеречь нам вас велел, чтобы кого-нибудь из вас сатана не украл. Отцы ваши не только к Московскому царству врагов своих не припускали, но и сами ходили… в незнаемые страны, как орлы острозрящие и быстролетящие… и все под руку покоряли московскому государю царю».
Часть беженцев, вняв голосу патриарха, вернулась.
От царя вышло напоминание прошлогоднего указа от 25 февраля 1608 года. Холопы, добровольно перешедшие на сторону законного, избранного Собором государя, получают волю, а взятые в плен подлежат наказанию и возвращаются к прежним господам, в вечное холопство.
6
Дворянский бунт обошелся без крови, без казней. Марья Петровна даже не поплакала. Может, напрасно не поплакала, в сердечке страх утопила. На первой неделе поста приключилась с ней болезнь нежданная, жестокая. Выкинула царица. Не стало у нее радости, а у царя не стало опоры.
С грачами, с ветрами принесло в Москву слух: Бог смилостивился, грядет России избавление.
Войско Скопина-Шуйского явило себя победами. Как просохнут дороги, будет Скопин-Шуйский в Москве.
Но юный воевода, а ему весной 1609 года шел двадцать третий год, проявил хоть и чрезмерную осторожность, но мудрую. Понимал: гибель его отряда обернется гибелью царства.
Сила Скопина-Шуйского была наемная. За пятитысячный корпус шведского генерала Якова Делагарди царь отдал королю Карлу IX город Корелы, по-шведски Кексгольм. Солдатам и офицерам приходилось платить по сто тысяч ефимков в месяц. В бою наемники были хороши. Скопин-Шуйский освободил от войск Вора Торжок, Тверь, поволжские города. Однако стоило задержать выплату жалованья, как наемники оставляли воеводу и шли в Новгород; один генерал Зомме с тысячью солдат не капризничал и, бывало, спасал стойкостью от поражения русские полки. Делагарди Скопина полюбил. Когда-то его отец много досаждал воеводам Грозного, одному Андрею Шуйскому удалось побить генерала.
Но судьба изменчива.
Теперь Скопин и Делагарди стояли в Александровской слободе, примериваясь, как вернее побить воинственного Сапегу.
В конце декабря собрали Совет. В Совете Скопин занимал первое место, но умел до поры до времени потеряться, помалкивать, поддакивать, хотя среди советников своих был он очень даже приметен. Ни бороды, ни усов у Михайлы Васильевича по молодости не росло. Вернее, росло, да так редко, что он брился, впрочем скрывая это заморское заведенье, такое обычное при дворе Самозванца. Про этот грех своего полководца воеводы и вся высшая власть знали, но не судили. Скопин-Шуйский был многим люб. Он покорял даже противников царя, которому был предан сам и в других не допускал ни малейшей шаткости. Духовенство, бояр, воевод, дворян, ратников едино восхищало в Скопине непостижимое по летам его непоспешание. Семи раз не отмерив, князь не то чтобы шага ступить – колыхнуться не позволял ни себе, ни войску. Воистину сын отечества и русский человек.
На Совете речь шла о продовольствии: кто, сколько и откуда доставил и доставит. Были укоризны в сторону пермячей, которые не поторопились во спасение отечества ни единым человеком, ни единой копейкой.
Ради дружбы с Делагарди и ради скорейшего прибытия еще одного шведского войска была зачитана грамота, направляемая шведскому королю. Писал ее Скопин от имени Василия Ивановича. «Наше царское величество вам, любительному государю Каролусу королю, за вашу любовь, дружбу и вспоможение… полное воздаяние воздадим, чего вы у нашего царского величества по достоинству ни попросите: города, или земли, или уезда».
Ради победы над польским королем Сигизмундом, осадившим Смоленск, ради устроения тишины на Российской земле царь и его воеводы были готовы потесниться, пожертвовать толику от своих просторов.
С насущными делами Совет покончил, пришел черед выслушать рязанцев, присланных думным дворянином Прокопием Ляпуновым с какой-то особой надобностью. Надобность сию рязанцы заранее объявить никак не захотели, а только чтоб самому князю Михайле Васильевичу с его преславными воеводами, да чтоб во всеуслышание.
И такое рязанцы сказанули, что Скопин-Шуйский обомлел.
– «Могучий витязь святорусский, душою и умом краше всех, кого родила и носит ныне русская земля! – восклицая на каждом слове, читал посланец Ляпунова. – Истинным благородством благородный, возлюбленное чадо Господа Иисуса Христа, царь отвагою, царь государственным разумением, царь любовью к отечеству и народу! Прими же ты, свет наш, царский венец, ибо ты есть во всем царь! Не твой дядя, дряхлый и ничтожный, но ты сам – первый спаситель России. Не лжесвидетель государь Василий Иванович, который грехом своим губит всех нас, россиян, но ты, чистый и светлый, спасешь и возродишь православие и православных…»
Князь Михайла Васильевич вскочил, зажал уши, вырвал из рук рязанца грамоту, разодрал надвое, еще разодрал.
– Взять изменников! В цепи! В Москву их! К государю! К великому и славному царю Василию Ивановичу на суд, на жестокую казнь!
Рязанцы повалились в ноги воителю:
– Не мы сие говорим! То – Ляпунов! Мы люди маленькие! Что нам сказали читать по писаному, то и читаем. Смилуйся! Князь Михайла Васильевич, пощади! Мы верные слуги царя Шуйского.
– Увести их! – приказал Скопин, отирая пот с лица. – Прочь с глаз! На хлеб да воду!
И, огорченный, удрученный, прекратил Совет, поспешил в Троицкий собор всенощную стоять.
На молитве поутих сердцем: «Не будет казни, не будет суда над слугами злых и глупых господ. За свои писания пусть Ляпунов перед царем отвечает».
Утром рязанцев выпроводили прочь из Александровской слободы, их следы метлами замели.
7
Решиться воевать, имея восемнадцать тысяч русских да более пяти тысяч шведов против четырех тысяч Сапеги, все-таки можно было. И, собравшись с духом, 4 января 1610 года в разведку к Сапегиному лагерю был отправлен воевода Валуев, и с ним пятьсот человек конных. Валуев ночью проник за стены монастыря, а рано утром, соединясь с отрядом Жеребцова, ударил на польский лагерь и, захватив пленных, возвратился в Александровскую слободу, убежденный, что поляки слабы и развеять их возможно, хоть завтра.
Князь Скопин, однако, и теперь не торопился. И победил без войны.
12 января Сапега, рассорившийся с гетманом князем Рожинским, бросил свой обустроенный лагерь, который превращался в смертельную ловушку, и бежал к Дмитрову.
Только через несколько дней в саму собой освобожденную Троицу пришло войско победителей князя Скопина-Шуйского и генерала Делагарди.
Одно сражение все-таки произошло, и шведы оценили отвагу и сметливость русских. Зима выдалась снежная, дороги засыпало, но воевода князь Иван Куракин, поставив на лыжи и своих ратников, и приданных ему шведов, напал на Сапегу под Дмитровой и в кровопролитной, упорной схватке взял знамена, оружие, пленных, взял Дмитров и гнал пустившихся в бега поляков до Клина.







