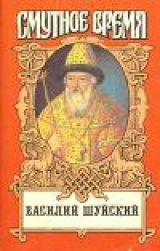
Текст книги "Василий Шуйский"
Автор книги: Владислав Бахревский
Соавторы: Петр Полевой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
– А куда денутся?
– Боярский ум изворотлив, как глист. Глист в утробе сидит, света страшась. Да ведь потому и жив, что во тьме… Ох, уж я им устрою напоследок!..
Биркин, глядя на бедную свою туру – приходилось менять на простого солдата, – положил короля на доску.
– Сдаюсь!
– Нет, уж ты играй! – не согласился Иван Васильевич.
– Чего тут играть?!
– Да вот чего! – Грозный повернул доску и фигурами Биркина в пять ходов поставил мат своему же королю.
– Я этого не видел! – изумился наитайнейший царский наушник.
– А что о младенце говорят, о Дмитрии?
– Дмитрия в счет не берут. От седьмой жены.
– От седьмой? – Грозный засмеялся. – Дума заседает нынче?
– Заседает, государь. Шлют твою грамоту в Сибирь князю Семену Волховскому.
– Зови слуг! Одеваться, быстро! Пусть отнесут меня в Думу.
Печальное то было пришествие великого государя к своим боярам. У князя Василия Шуйского дух перехватило, когда слуги чуть ли не свалили царя на другой стул, называемый троном. Царь не захотел переменить неловкой позы, отмахнулся от помощников.
– Недосуг! – Виски у него были белые как снег, и губы белые. – Я знаю, вы почитаете сына моего Федора за дурака. Он – не дурак. Он – ангел, а потому земная жизнь ему тягостна. Он не сможет управлять государством. За него будут править… Я грешен перед Богом и перед вами. От моей руки пал во цвете лет наследник царства.
Грозный замолчал, облизал языком сухие губы, смотрел на руку свою, убийцу.
– Государь, мы любим доброго царевича Федора! – поднялся с лавки, поклонился Никита Романович Юрьев.
– Его нельзя не любить, – согласился Грозный. – А токмо не царь он! Господи, не царь! Я знаю, младшего моего сына младенца Дмитрия вы наследником не признаете. Седьмой брак, беззаконное венчание. Остается одно: найдите себе царя среди вас. Я же удаляюсь в монастырь. Мне есть что замаливать.
Бояре, как один, повалились с лавок на пол, кланялись и кланялись, крича:
– Смилуйся, не покидай нас – пропадем. Царство пропадет!
– Никого, государь, не желаем, кроме тебя и сына твоего Федора! – подполз к трону боярин Никита Романович, и все за ним приползли.
– О Господи! – воскликнул Грозный. – Ты видишь Сам, не я желаю, но меня, грешного, желают, сына моего, скорбного умом.
Воротился Иван Васильевич из Думы успокоенный, ободрившийся. Позвал Федора.
Федор пришел, поддерживаемый под руку Борисом Годуновым.
У постели царя собрались самые ближние люди: Богдан Бельский, кравчий Дмитрий Шуйский, доктор Иван Эйлоф, Родион Биркин, дьяк Андрей Щелканов, Афанасий Нагой…
– Сядь на постель, – сказал царь, улыбаясь Федору, – Ты здоров?
– Здоров, батюшка! О твоем же здравии денно и нощно молюсь.
– Я знаю: ты меня жалеешь.
– Жалею, батюшка, великий государь.
Грозный взял сына за руку, приложил руку к голове своей.
– Хорошая у тебя рука. Мне вот полегчало.
– Ах, батюшка! Иисуса бы Христа к тебе. У Христа рука исцеляющая.
– Господь ко мне, грешнику, не пошел бы.
– Пошел бы, батюшка! Пошел бы! – У Федора лицо осветилось верой и любовью.
– Я позвал тебя ради напутствия, – сказал царь. – Ты послушай меня со вниманием.
Федор склонил голову набок, нахохлился воробушком. Годунов чуть приметно тронул царевича, и тот согласно закивал Борису, выпрямил спину, голову поставил прямо.
– Я прошу тебя, Федор Иоаннович, когда станешь государем, будь милосердным ко всем, ибо все грешны. Всех люби! Без царской любви люди сироты. И упаси тебя Боже – воевать с христианскими государями. То – великий грех.
Федор тревожно повернулся к Годунову.
– Ты запоминай, потом мне скажешь.
– Да ты сам все запомнил! – сказал Иван Васильевич с ласковой настойчивостью.
Федор наклонил голову, сдвинул брови и улыбнулся.
– Запомнил! Всех любить! Не воевать с царями, кто крест носит.
– Моя наука, сын, не трудная, – обрадовался царь. – Еще прошу тебя помнить о простых людях. Я все воевал, воевал и довел мужика до сумы. Освободи народ от налогов. Во всякой избе тогда о тебе молиться будут. Как я помру, всех пленных отпусти, все двери тюремные открой.
– Батюшка! – догадался Федор. – Да ты сам всех отпусти.
Иван Васильевич вздохнул.
– Мне отпустить нельзя: я – Иван Грозный. Если я их отпущу – они мне в сердцах проклятие пошлют, а если отпустишь ты – они о тебе помолятся и меня, тебя ради, помянут. Я ведь хитрый.
– Я знаю, батюшка!
Все заулыбались, царь умиротворенно откинулся на подушки.
– Посплю.
Царевич поцеловал батюшке руку, на цыпочках пошел из спальни, и все на цыпочках же поспешили за ним, а с царем остались Бельский да Эйлоф.
Грозный открыл глаза, сел.
– Что сказать хочешь, Богдан?
– Ты сам все видел.
– Что я видел?
– Федор Иванович глядит на Бориса, как зверь ученый.
– Дурак он, твой Годунов! Почитает себя за умного, но дурак! – притянул Бельского к себе. – Желаю, Богдан, чтобы царевич Дмитрий, жизнь которого вручаю тебе, любил тебя не меньше, чем Федор любит Бориса. А теперь позови Щелканова, завещание перепишу. Не быть Годунову среди ближних людей Федора.
41
Явилась звезда, посланная Господом, стала над Москвой. Вид пришлой звезды – сияющий крест. Ивану Васильевичу сказали о чуде. Царю было лучше, приказал одеваться, вышел на крыльцо без помощи слуг.
На дворе стоял март, небо сияло, как драгоценный кристалл. Посреди небесного купола, между церквами Ивана Святого и Благовещенья, блистала крест-звезда.
Царь долго смотрел на пришелицу, сказал:
– Вот знамение моей смерти.
Воротившись к себе, упал, не раздеваясь, в постель, хотел позвать митрополита – не позвал, приказал отнести себя в сокровищницу – забыл о приказании, наконец поманил Бельского и шепнул ему:
– Мчись, как ветер, к лапландцам, хочу знать день и час моей смерти.
Утром, проснувшись, Иван Васильевич вспомнил о сокровищнице и приказал отнести себя к целительным каменьям.
В сокровищнице хранилось все самое драгоценное из наследства, купленное за долгие годы царствования, взятое как военная добыча, присланное в подарок от королей и падишахов, отнятое у изменников, награбленное в неистовых походах на свои же города, похищенное у своих же подданных.
Иван Васильевич прикладывал к телу магнит, осыпал себя кораллами, держал во рту по очереди алмаз, рубин, изумруд. Приказал налить в чашу из оникса воды, пил маленькими глотками, умылся.
– Мне лучше! – обрадовался государь, но, вернувшись из сокровищницы, позвал дьяка Щелканова и велел остановить королевского посла Сапегу в Можайске. – Поправлюсь, тогда пусть едет. Так и отпиши ему: остановись ради недуга государева.
Наконец Иван Васильевич решился позвать Бельского. Медленно, молча поднял на него глаза.
– Государь! Они сказали, что ответ будет готов нынче, а может, и не ранее, как взойдет звезда-комета.
Царь потихоньку перевел дух.
– Поезжай! Что ты здесь толчешься? Поезжай!
Шестьдесят могучих волхвов и волхвовиц из самоедов, лапландцев, из северных русских людей жили за Москвой-рекой в царевом саду.
Волхвы обещали дать ответ не ранее восхода звезды, и Богдан Яковлевич, убивая время, поехал к Василию Ивановичу Шуйскому.
Князь Василий к этому приезду готовился заранее, поднес Бельскому персидский нежно-розовый халат, шитый золотом, усыпанный розовыми драгоценными каменьями, а по вороту розовым жемчугом.
Этот очень дорогой халат был не только отдарком за валашского коня, но соглашением на союз и дружбу.
– Я тебя обещал с Нагими поближе свести, – сказал Бельский. – Что откладывать, поехали теперь к Афанасию. Он – добрый слуга государю.
– Афанасий Федорович у крымского хана в заточении сиживал?
– Сиживал?! Семь лет цепь таскал на ноге. Справлял посольство, да не угодил хану.
Рождение царевича Дмитрия спутало карты играющим на власть. Мария Федоровна Нагая, хоть и была седьмой, а может, и восьмой женой Грозного, но ведь венчанная! Дмитрий – кровь Ивана Васильевича, кровь князя Рюрика, а стало быть, и Прусса, о котором любил помянуть великий государь. Сей былинный Прусс, брат цезаря Августа, соединял родством русских царей с римскими императорами.
Во дворе Афанасия Нагого Бельский и Шуйский застали множество вооруженных людей. Гостям об этом войске было сказано коротко:
– Жизнь царевича Дмитрия нуждается в охране.
– Здоров ли Федор Федорович? – спросил Бельский о батюшке царицы.
– Здоров, – ответил Афанасий.
Приезд Шуйского хозяина обрадовал. Угощая князя, он поглядывал хоть и дружески, но лед затаенного вопроса в глазах так и не растопился во время пиршества – с кем ты, приятель?
От Нагого Богдан Бельский повез Василия Ивановича к волхвам.
Едва переступили порог темного дома, метнулась по сеням тяжелая черная птица. Василий Иванович вздрогнул, а Бельский засмеялся:
– Глухарь! Это же глухарь!
К ним вышла высокая красивая женщина, повела через комнаты. Василию Ивановичу чудились пронзающие взоры. Позади что-то ворочалось, косматое, впереди что-то топотало, убегая.
Наконец они очутились в просторной сводчатой палате. Возле стен было темно, однако ж по дыханию, по шорохам поняли – людей здесь много.
Бельского и Шуйского посадили на скамью в переднем углу. Тотчас дунуло сквозняком, то ли дверь распахнулась, то ли стена надвое разошлась – в палату влетела та самая черная птица. Лет глухаря был медленный, шел у самого пола, и на его спине стоял… мужик. Глухарь опустился в дальнем углу от гостей. Разом загорелись свечи, и стало видно: на лавках мужчины и женщины. Но разглядеть, что да как, не пришлось. С визгом из-под ног к центру палаты выкатились… крысы. Образовали ровный круг, хвостами к центру. Мужик, прилетевший на глухаре, пронзительно свистнул, крысы подпрыгнули, кинулись россыпью прочь, но одна осталась на месте.
Сидевшие по лавкам поднялись, подошли, поглядели и вернулись на свои места.
– Взошла ли крест-звезда? – спросил мужик.
– Взошла, – ответили ему.
Свечи погасли, и женский голос сказал:
– Царь умрет в Кириллов день.
– Когда?! – закричал Бельский.
– В Кириллов день.
– Да когда же это? – спросил Бельский у Василия Ивановича.
– Восемнадцатого марта, – сказала невидимая женщина.
– Через неделю… Господи!
42
Расставшись с Бельским, князь Василий в крытых, простеньких санях поехал к Никите Романовичу Юрьеву. Боярин с недавних пор был в родстве с Шуйскими, женился вторым браком на княжне Шуйской-Горбатой.
– Никита Романович, – прошептал князь Василий, едва приоткрыв лицо перед боярином. – Нагие раздали холопам оружие. Волхвы нагадали царю смерть на Кириллов день.
– Не верю бесам, – твердо сказал боярин.
– Да ведь и я не верю, – ответил Василий Иванович, немедленно откланялся и поспешил домой, готовить дворню к худшему.
Но утро вечера мудренее.
Сияло солнце, сверкали последние сосульки.
В царстве был покой. Царь проснулся в добром настроении и приказал Бельскому сказать правду о гадании. Бахнул Богдан правду – как обухом по голове. Иван Васильевич огорчился, но духом не пал. Велел составить и без всякого промедления разослать по монастырям просительную грамоту:
«Святым и преподобным инокам, священникам, дьяконам, старцам соборным, служебникам, клирошанам, лежням и по кельям всему братству: преподобию ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет, молясь и припадая преподобию вашему, чтоб вы пожаловали, о моем окаянстве соборно и по келиям молили Бога и Пречистую Богородицу, чтоб Господь Бог и Пречистая Богородица ваших ради святых молитв моему окаянству отпущение грехов даровали, от настоящие смертные болезни свободили и здравие дали. И в чем мы перед вами виноваты, в том бы вы нас пожаловали, простили, а вы в чем перед нами виноваты, и вас во всем Бог простит».
Прочитав грамоту, пришла к постели болящего, принесла нежные слова и чистые слезы свои царевна Ирина Федоровна.
– Иди к груди моей! – потянулся царь к невестке.
Ирина, исполняя просьбу свекра, подошла ближе, он вдруг схватил ее, опрокинул на постель, поволок к себе.
Чудом извернулась, выскочила из лап паука. Поклонилась до земли и ушла, давясь слезами отчаянья.
Грозный порычал, как пес, оскорбил уста скверным словом и приказал нести себя в сокровищницу. Единственная осталась ему утеха. Для чего покусился на честь Ирины, он и сам не знал. Половые органы у него распухли, тело покрылось язвами.
В сокровищнице Иван Васильевич приказал быть Федору – поглядеть, не пыхтит ли на отца за Ирину – и всем ближним. Среди придворных оказался англичанин Горсей, который и сохранил миру рассказы Грозного о врачующих свойствах драгоценных камней.
– Возьмите в руки кораллы и бирюзу! – попросил Иван Васильевич придворных. – Как ярок их природный цвет! Это цвет вашего здоровья. Теперь дайте мне. Вы видите?! Вы видите, как потускнела бирюза, как помертвели кораллы?! Все предсказывает мою скорую смерть: Бог и дьявол, в небе – звезда, на земле – каменья. Я отравлен болезнью! – закрыл глаза, молчал, и все молчали. Затаил дыхание, и все перестали дышать. Улыбнулся: – Принесите мой царский жезл. В его основе – бивень единорога. Что за дивное чудо! Какой огонь в рубинах! Какие лучи от алмазов! А мои любимые сапфиры? Этот жезл мне стоил семьдесят тысяч марок. Эйлоф! Иван! Возьми жезл и обведи круг на столе.
Доктор исполнил приказание.
– Теперь наловите пауков! Их много здесь, хранителей казны. Теперь бросайте пауков в круг… Дохнут! Бегут! Какая сила! Но меня ничто уже не спасет.
Грозный взял огромный рубин.
– Сей камень очищает испорченную кровь. От него память проясняется. Он врачует сердце и мозг. А мне уже не помощник.
Потянулся к изумруду. Ему подали.
– И этот камень враг нечистоты. Он произошел от радуги. Если мужчина и женщина соединены вожделением, то он растрескается… Но я больше всего люблю сапфир. Сапфир сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем жизненосным чувствам, полезен в высшей степени для глаз, очищает их, удаляет приливы крови к ним, укрепляет мускулы, нервы… Все эти камни – чудесные дары Божьи, друзья красоты и добродетели, враги порока, – побледнел, уронил руки. – Мне плохо, унесите меня отсюда.
Грозного положили в постель, дали лекарства, и он заснул.
В положенное, в обеденное время кравчий Дмитрий Шуйский со слугами принесли царю кушанья.
Ивана Васильевича корчили судороги, он бредил.
– Казнить! Всех казнить! Бельского первого! Годунова? Первей Бельского!
Князь Дмитрий приказал слугам выйти, позвал Бориса Федоровича, Богдана Яковлевича и доктора Эйлофа.
– Дайте мне голову Богдана! – приказывал Грозный. – Ну, какова власть на вкус?! Дайте в другую – Бориса! Хотели быть умнее царя… Желали смерти моей… Я вас опередил. Я всех опередил, кто желал моей гибели… Бог не оставит меня. Я – помазанник! – и завыл, завыл: – Иван! Ива-аан! Зачем ты так далеко? Ива-нушка-а-а!
Бельский и Годунов посмотрели друг другу в глаза, потом на Дмитрия. Доктор Эйлоф положил смоченное уксусом полотенце на лоб бредящего.
– У меня есть хорошее лекарство… От судорог и опухоли – следует испробовать баню и теплые ванны.
43
Баня, трехчасовые ванны, питье помогли. Царь начал поправляться.
Однажды кравчий князь Дмитрий подал кушанья в постель, но государь за трапезу не принимался, медлил и наконец устремил глаза на Шуйского.
Князь охнул, схватил ложку и отведал стерляжьей ухи. Грозный все смотрел на Дмитрия, смотрел.
– Государь! – взмолился кравчий. – Несоленая ушица! Доктор не велит солить.
– Ах, несоленая! – засмеялся царь и отведал ухи. – Впрямь несоленая… Нет! Вы уж давайте соль. Велика ли радость есть с такой рожей, как у нашего кравчего?
Все смеялись, подали царю солонку, князь Дмитрий отведал соли.
А назавтра пришел день святого Кирилла.
Иван Васильевич проснулся бодрым, сила духа вернулась к нему. Позвал сначала дьяка Андрея Щелканова и велел отправить гонца в Можайск, разрешая королевскому послу Сапеге поспешить в Москву.
– А теперь совершим главное и тайное, – сказал Иван Васильевич Щелканову. – Вот мое окончательное завещание, данное перед Богом в ясном сознании. Совершено ради пользы государства и русского народа.
Престол царь оставил Федору, но правителем назначил не Годунова, не Мстиславского с Никитой Романовичем, а, к изумлению Щелканова, чужеземца – эрцгерцога австрийского Эрнеста, сына императора Максимилиана II. Эрнест получал в удел древние русские города Тверь, Вологду, Углич. Оговаривалось: если у Федора Иоанновича наследников не случится, умрет бездетным, престол переходит к Эрнесту, ибо он родня Рюриковичам по пращуру Пруссу, наследник Священной Римской империи, в которой родился и прожил земную жизнь Иисус Христос.
С дьяка Щелканова Иван Васильевич взял клятву – молчать – и, закончив государственные дела, позвал Бельского, стал спрашивать о волхвах.
– Был у них ночью?
– Был, государь.
– Как стоят звезды?
– Говорили – худо стоят.
– Поезжай к ним и скажи: я их всех, лжецов, сожгу в большом костре. Но прежде уж так истерзаю, как никого не терзал, небось признаются, кто их научил царя пугать насмерть.
Богдан Яковлевич поспешил к волхвам, ибо после обеда ему, начальнику Аптекарского приказа, нужно было смотреть за приготовлением бани для царя.
Воротившись во дворец, Бельский передал Ивану Васильевичу нижайшее челобитие волхвов.
– Просили сказать тебе: не гневайся, господин. День окончится, когда солнце сядет.
44
Василий Иванович Шуйский метался весь день по дому. Наконец нашел занятие: сел читать житие святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Родился Кирилл в 315 году, а в 350-м, пройдя испытание монашеством и пресвитерскою службой, был избран архиепископом Иерусалима. Святителя трижды прогоняли с его кафедры: при императоре-арианине Констанции, при Юлиане Отступнике, при Валенте. Поставил Господь Кирилла свидетелем чудесных знамений. При нем землетрясение разрушило в прах стены иудейского храма, сдвинуло с места основание этого храма, построенного Соломоном, пожгло небесным огнем инструменты иудеев, принявшихся восстанавливать святыню. При Кирилле среди дня являлся на небе Честной Крест, сиявший ослепительным светом…
Василию Ивановичу показалось поразительным совпадение. Тогда Крест стоял над Святой землей, теперь же осеняет Москву, блистая всю ночь над храмами Кремля.
Вошел слуга, доложил:
– Господин, к тебе приехал царский доктор Иван.
– Эйлоф?! – изумился Василий Иванович и поспешил хотя бы в сенях встретить угодного царю человека.
Доктор Иван Эйлоф, не отвечая на торопливые приветствия князя, прошел, куда ему указано было, а указано было сесть на самом почетном месте, под образами, – строго и серьезно посмотрел на Василия Ивановича и сказал:
– Полчаса тому назад схимонах Иона преставился.
– Иона? Да кто ж таков?
– Государь царь Иван Васильевич, великий князь всея Русии.
Шуйский попятился, оглядываясь на дверь.
– Нет больше Грозного! Его нет! – сказал Эйлоф. – А теперь, князь, садись со мною рядом и выслушай со вниманием.
Василий Иванович сел, но тотчас вскочил, перекрестился, опять сел.
– Я прошу тебя, князь, посодействовать мне при отъезде… Государь давал мне хорошее жалованье, был щедр на подарки. Я хочу, чтобы меня при отъезде не ограбили. И не убили. А теперь выслушай, почему тебе следует всячески помогать мне. Бельский и Годунов сумели уговорить меня, грешника, спасти бояр от новых казней. Я был им послушен, давал царю яд в еде, в лекарствах. Твой брат, князь, кравчий Дмитрий, как ты знаешь, должен отведывать царские кушанья и царские лекарства. Чтобы не погубить твоего брата, я пользовал князя Дмитрия противоядием, тотчас после царской трапезы поил рвотными снадобьями, делал клистиры, промывая кишечник… Я не отваживался предлагать государю смертельные яды, это было опасно. И открою тебе – государь умер не от яда и не своей смертью. Ответь же, князь, исполнишь ли ты мою просьбу?
– Исполню. – У Василия Ивановича тряслись губы и руки.
– Все позади, – сказал Эйлоф. – Я тебе верю, но прошу, скрепи свое обещание крестом перед святыми иконами.
Князь перекрестился, поцеловал образ Спаса Нерукотворного.
– Я спокоен, – сказал Эйлоф, – поспешу обратно в терем… Впереди, князь, трудные дни.
Ударил колокол.
– Так все это явь? – побледнел Шуйский.
– Это явь, и мы остались живы. – Доктор Иван поклонился и быстро ушел.
Скорбно бил большой колокол. Его скорбь подхватывали другие колокола…
– Одеваться! – закричал слугам Василий Иванович.
К приходской церкви спешил народ. Слышались глухие рыдания, голосила, заливалась на всю улицу баба.
– Господи! – изумился Василий Иванович. – По кому же они так сокрушаются? По злосчастию своему, по своему бичу. Господи! Что же ты за народ такой – русский народ!
А перед глазами стояла черная бесконечная вереница людей на белом снегу. На плечах несли гроб царевича Ивана от Александровской слободы до Архангельского стольного собора.
И видел иную вереницу, когда Москва спешила поклониться и присягнуть младенцу. Не нынешнему, не последышу, но первенцу Грозного Дмитрию…
Василий Иванович вдруг сообразил: этого поклонения он не мог видеть. По крайней мере, помнить, ему шел тогда первый годок.
Перекрестился на храм, на кресты. Пора в Кремль поспешать, на присягу.
И заплакал. Слезы катились безудержно, горло корчило судорогой.
К нему подошла старуха, сунула в руки платок.
– Жалко царя-батюшку? Ох, жалко! Ты утрись да в церковь ступай. О царе-батюшке всем миром надо помолиться! Господь Бог увидит наши общие слезы да и смилостивится.
Князь покорно пошел к храму, потом позволил старухе обогнать себя. Трусцой вернулся к возку, приказал кучеру:
– За Москву-реку гони, в царские сады! С полдюжины в санках поместится?
– Вся дюжина, Василий Иванович, поместится.
– Ну, так дюжину и заберем.
Его трясло, как в лихорадке; с присягой нужно час-другой пообождать. У весов две чаши: на одной дурак, на другой – младенец, какая перетянет…






