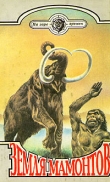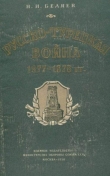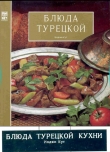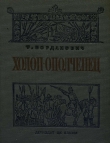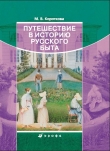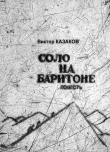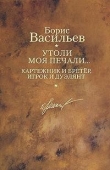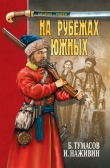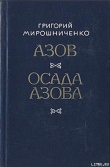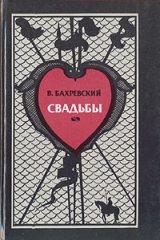
Текст книги "Свадьбы"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Крымцы проникли в Орловский уезд – триста человек полона. Медленно, с опаской двинулись к Туле.
А Москва жила под мирный звон колоколов. Сентябрь – месяц богомольный, государь, как всегда, собрался в Троице-Сергиевскую лавру.
Перед отъездом Михаил Федорович сделал два больших дела: принял-таки посольство донского казачества и утвердил на год воевод.
В Казани сидел Иван Васильевич Морозов, в Нижнем Новгороде – Андрей Сатьевич Урусов, в Астрахани – Федор Васильевич Волынский, в Новгороде – Петр Александрович Репнин, любимец государя из молодых.
В Тобольске оставались Михаил Михайлович Темнин– Ростовский да Андрей Васильевич Волынский, в Томи – Ивап Иванович Ромодановский да Андрей Богданов, на Таре – Федор Петрович Борятинский да Григорий Кафтырев.
Приказом большой казны по-прежнему ведал Иван Борисович Черкасский. Разбойным – Михаил Михайлович Салтыков. Судным – Дмитрий Михайлович Пожарский.
Никто из близких да знатных людей государства не был обойден или забыт.
20 сентября Михаил Федорович наградил великой своей наградой легкую донскую станицу атамана Осипа Петрова и отпустил ее на Дон со своей государской грамотой.
В грамоте к Войску Донскому было писано: “Предосудителен буйный поступок ваш с послом турецким. Нет случая, который бы давал право умерщвлять послов. Худо сделали вы, что взяли Азов без нашего повеления, не прислали старейшин своих, атаманов и казаков добрых, с которыми бы можно было посоветовать, как тому быть впредь. Исполните сие немедленно, и мы, дождавшись их, велим выслушать ваше мнение и тотчас с ними же пришлем указ – как поступить с Азовом”.
За бережение границ государства московский царь казаков хвалил и обещал пожаловать по службе и радению.
На словах атаману Осипу Петрову было сказано, что вслед за его легкой станицей на Дон будет послано сто пудов зелья ручного, сто пудов зелья пушечного и сто пятьдесят пудов свинца.
В тот же день, 20 сентября, государь отправился на богомолье.
Веселый, он пришел проститься с сыном Алексеем. И у сына весело – потеха. Накрачеи113 в бубны бьют, на канате пятеро метальников пляшут, кувыркаются и не падают! Алексей так и бросился к отцу.
– Батюшка, гляди! У меня теперь пятеро метальников! Было два, а теперь пятеро. Видишь, как искусно обучились.
Накрачеи в лазоревых своих кафтанах на заячьем белом меху при государе пустились колотить по барабанам что есть мочи.
– Славно! Славно! – сказал государь, наклонился к уху сына, шепнул: – Казаков-то я на Дон отпустил.
У царевича руки так и взлетели, так и потянулись к отцу: обнять хотел, да сдержался. Слуги кругом.
– Батюшка, господь наградит тебя! – только и сказал.
А отцу радостно: сын – дитя совсем, а умеет держать себя по-государственному.
*
На Москве остался у дел Федор Иванович Шереметев. В помощь ему назначили хранителя государственной печати, старика Ивана Тарасьевича Грамотина и думного дьяка Федора Лихачева.
День 21 сентября прошел обыденно и скучно.
Федор Лихачев, сидя в своем Посольском приказе, к делам не притрагивался. Тут бы, пока государя нет, пока привычная монотонность деловой жизни нарушена, и закрутить бы что-нибудь значительное. Господи, да хотя бы главные улицы в самой Москве начать мостить. Ведь, коли начали, пришлось бы и закончить. Так нет! И Шереметев и Грамотин не то чтоб развернуться, притормаживают колымагу российской государственности. Им удобнее жить в старом, привычном миру. Они старого мира хозяева. А ведь умны оба. И весь этот ум идет на то, чтобы отживающее удержать. Неужто сие в обычае у старости? Весь бы день просидел думный дьяк перед чистым листом бумаги, да протиснулся к нему дотошный подьячий Тимошка Анкудинов. Молодой, в Москве без году неделя – выкормыш Вологодского митрополита. Учен! А все равно глуп. Приехал в Москву судьбы мира вершить, подьячишка несчастный! Судьбы мира… Знал бы, дурашка, что твой величайший начальник, сам Федор Лихачев хочет да не может замостить московские улицы. Послы со всего света грязь московскую месят! Стыдобушка!
Ни ростом, ни статью, ни красотой лица господь Тимошку не обидел. Был бы княжеского рода – рындой при государе бы состоял. А все равно дурак. На ум свой полагается.
– Что тебе? – намолчавшись, спросил Лихачев Тимошку.
– По сибирским вестям…
– Ну, что по сибирским вестям?
– Полгода дело лежит… Решить бы надо.
– Ну и как бы ты его решил?
Лихачев нарочно не глядел на Тимошку: попадется на крючок или нет.
– Я думаю…
“Попался! “Я думаю”. Много ли ты надумать можешь, червяк? Вот коли я надумаю… Не место тебе в Посольском приказе”.
Однако прислушался.
– …дьяк Савва писал о сибирской земле, – говорил Тимошка, – “И быть реки пространны и прекрасны зело, в них воды сладчайшие и рыбы различные многие”. По этим рекам казаки выходят к студеному морю. Казна от них бесценна и бессчетна! Соболь, зуб морского зверя, русское золото… И всего-то на Лене крошечный острог. Поставлен пять лет тому назад, а казаки уже покорили на реке Вилюй тунгусские племена. Из городка Жиганска, который поставлен на Лене же, казаки ходили на Яну, на Собачью реку…
– Что же ты хочешь, Тимошка?
– На приказчика Парфена Ходырева, который сидит на Лене, жалобы страшные. Ходырев творит зло. Он мешает притоку сибирской казны и своей злобой и алчностью может иссушить источник. На Лене нужна сильная государственная власть. Нужен большой город. Нужно создавать Ленское воеводство.
“А ведь все правильно надумал, бумажный червяк!” – зло отметил себе Лихачев.
– Уж не хочешь ли ты воеводой поехать?
– Я бы поехал, да родом не вышел.
“Ишь ты как! Гордыня-то какая непомерная”.
– Вот и знай свой шесток, Тимошка. Воеводства создавать – дело государя, а твое дело – бумаги переписывать. И гляди у меня, за каждую кляксу головой будешь отвечать. Ступай.
Тимошка, бледный, улыбнулся-таки побелевшими глазами…
“От страха или злости?” – с тоской подумал Лихачев.
И вспомнил вдруг библиотекаря Никиты Одоевского. Сбежал, говорят.
“Умники! Кланяться бы сначала научились. С наше бы спины погнули, чтоб “Я думаю”! – И совсем уже с яростью решил: “А ведь город на Лене давно пора ставить. И без воеводства нового не обойтись”.
Торопливо набросал черновик государева указа. Запер бумагу под замок и уехал домой пить водку.
А ночью его поднял с постели гонец.
– Татары в Новосиле!
– Какие татары?
– Войско ведет нуреддип.
– Если в походе нуреддин, значит, большой набег. С нуреддином ходят и десять и все сорок тысяч.
На самых легких дрожках помчался через всю Москву к дому Шереметева.
– Нуреддип в Новосиле? Духов монастырь разорил? – Шереметев в исподней рубахе, в шубе, накинутой на плечи, стоял посреди горницы, не приглашая сесть.
Пожевал тяжелыми губами, медленно поглядел на Лихачева, на гонца, и вдруг на серые щеки его вспорхпул румянец. Хлопнул в ладоши и стал сыпать на головы набежавших подьячих приказ за приказом.
– Гонца к государю! Втолковать – опасность великая. Государь должен вернуться в Москву. К государю поедешь… ты поедешь, Лихачев.
– Собрать Думу! Чтоб все бояре утром были в Кремле.
– Найти стольника Телятевского. Это самый расторопный воевода. Пусть готовится в поход, в Тулу, на место Ивана Хованского.
– К Хованскому гонца! Пусть едет в Москву.
– Москву приготовить к осаде. У Серпуховских и Калужских ворот быть Ивану Андреевичу Голицыну и Федору Андреевичу Елецкому.
– За Яузою будет стоять окольничий и воевода князь Семен Васильевич Прозоровский.
– За Москвой-рекой деревянный город ставить боярину Андрею Васильевичу Хилкову, ему же вести земляной вал от Яузы по Чертолскую башню.
– За Чертолскими воротами встанет Михаил Михайлович Салтыков. Как вернется с государем, так и встанет.
– За Яузой деревянный город будет ставить Дмитрий Михайлович Пожарский.
– Поднять стольников, стряпчих, жильцов, стрельцов. Всем быть готовыми к походу.
– Назначения предварительные, покуда Дума и государь не укажут.
Государь повернул к Москве из Братовщииы. Всю дорогу молчал, молча сидел в Думе и произнес лишь два слова:
– Все так.
Назначения Шереметева были приняты.
*
Стольник Телятевский с небольшим конным отрядом на вторые сутки прибыл в Тулу. Здесь ему надлежало объединить местный полк с полками городов Дедилова и Крапивны, преградить татарам путь к Москве.
Большой кровопролитной битвы Телятевскому надлежало избегать, но зато велено было искать мелких стычек, чтобы татары не знали покоя, чтобы сбить их с толку, выиграть время.
В Москве спешно собирали большое войско. Воеводами государь назначил самых родовитых: Черкасского, Львова, Стрешнева.
Большой русский полк в походы ходил не торопясь, а потому на помощь Телятевскому решили отправить еще один конный отряд. Воеводами назвали князя Трубецкого, окольничего Литвинова-Мосальского и сына князя Шаховского Федора. Для приходу крымцев в порубежные города назначались самые опытные воеводы.
В Крапивну посылали князя Федора Куракина и Никифора Плещеева. В соседний городок Вену – Василия Ромодановского да Ивана Еропкина.
И вот здесь-то и случилась заминка: князья подняли местническую свару. Федор Шаховский бил челом на Мосальского. Ему-де с ним быть воеводой в одном полку невместно. Куракин ударил челом на Трубецкого: почему князя посылают в Тулу, а его в Крапивну. Трубецкой ударил на Куракина: оскорбился. Плещеев на Мосальского. Еропкин – на Ромодановского.
Война, а вести войско некому. Боярам нет дела до грабежей и разора русской земли, им важнее собственная спесь.
О татарах позабыли, засели в Думе разрядные книги листать.
По челобитной Куракина нашли: в 1604 году на приеме посла из Ватикана за Большим столом глядел брат князя Трубецкого, а за Кривым столом – служба это меньшая – глядел дядя князя Куракина. Этот дядя по боярским делам был выше отца, Федора Куракина, а сам Федор – второй сын. И выходит, ему можно быть ниже Трубецкого, челом бил не по делу.
Дума надумала, государь указал:
– Князя Куракина – в тюрьму, а потом выдать головой Трубецкому.
Еропкину было сказано: “Твой род в дворянстве молодой, и тебе не только с сынами Ромодановского, но и с внуками его можно быть в службе. А посему – в тюрьму”.
И так разбирались с каждой челобитной и потратили на это целый день.
Глава пятая
Ночью Михаил Федорович проснулся от острой жалости к самому себе.
Темно. Лампада погасла.
Жутко, словно во всем белом свете остался он один.
Осторожно, боясь разбудить, подкатился под бочок безмятежной во сне Евдокии Лукьяновне. Она была теплая, домашняя, а вокруг за пологом кровати чудилась каменная ледяная пустота.
“Что это со мной?” – затосковал Михаил Федорович.
Зажмурил глаза – и чуть не вскрикнул: этакая рожа явилась.
Лежал, придерживая дыхание. Вслушивался в дворцовую тишину. Глаза сомкнуть – опять привидится нехорошее, с открытыми лежать тоже не мед. Видение не видение, а коли не отгонишь, так чередой и плывут до смерти надоевшие боярские хари.
Ох эти бояре! Попили они его, царской, кровушки всласть.
Что ни день, то тяжба. Все местничество. Все считаются, кто кого первей, кто кому ровня. Упаси бог, если родовитый исполнит одну и ту же службу с неродовитым. Для древнего рода нет злейшей порухи, все равно что с неба на землю пасть.
Вот и забавляется боярство вечной, бесконечной считалочкой, через силу, но игры оставить не смеет.
Местничество – российская неодолимая трясина, непролазная.
Посла персидского встречали. Назначили рынд для приема, а княжичи бегом из дворца: один спрятался, другой за нуждой побежал – удержу, мол, нету!
Время посла принимать, а как без рынд? Велел Василию Ромодановскому да Ивану Чепчюгову встать, а Чепчюгов челом бьет: ему с Ромодановским быть невместно. А тут князь Дмитрий Михайлович Пожарский рассвирепел: своим воровским челобитьем Чепчюгов позорит его, Пожарского. Он, Пожарский, в родстве с Ромодановскими, а дед у Чепчюгова был всего-навсего татарским головой! Господи помилуй! Для вразумления Чепчюгова батогами били.
Дело не дело – местничаются.
“Мне не успеть, – думал Михаил Федорович, – не наберу такой силы перед боярами, а вот Алеше это будет под стать. Рубить нужно местничество под корень, пока не погубило России, как содомово дерево, рубить!”
Подумал о сыне и улыбнулся. И страх прошел. Поцеловал тихонько Евдокию Лукьяновну в теплую щечку и заснул.
Как бы велика ни была российская дворцовая бестолочь, а дело все же делалось. Большой полк Черкасского шел на Тулу. Уже в пути этому полку было указано: если нуреддин займет тульскую дорогу, отрежет Тулу от Одоева, Крапивны и Мценска, в бой не вступать, а, сохраняя силы, отводить войско под стены Москвы, ибо в поле татары умельцы, а под стенами они вполовину слабее.
Осторожный государь слушал советы осторожного Шереметева.
Но большой битвы боялся и нуреддин Сафат.
Хаи Бегадыр, отпуская брата в набег, дозволил ему быть господином сорока тысяч сабель, но воспретил быть разбитым.
И, как только разведка донесла, что из Москвы к Туле идет воевода Телятевский, а на подмогу ему из Дедилова и Крапивны спешат сильные полки, нуреддин приказал отступать.
Откатываясь, татары попытали счастья в Мценском уезде: осадили Тагинский острог, но и его не взяли. Постояли в осаде двое суток и ушли.
Знать бы нуреддину, как был напуган его набегом боярин Шереметев, знать бы, какие указы посылал он князю Ивану Борисовичу Черкасскому, но нуреддин сам шел в набег с оглядкой.
Москва отделалась легким испугом и потерей двух тысяч, взятых в полон.
Нуреддин Сафат Гирей стоял перед братом ханом Бегадыром Гиреем. В тронном зале тесно. Кажется, весь знатный Крым собрался здесь ради встречи нуреддина, вернувшегося из похода. Но это не торжественная встреча и не страшный суд. Это очередная комедия хана Бегадыра. Он разыгрывает ее шумно и старательно. Пусть в Истамбуле услышат и поверят.
– Как ты посмел без моего ханского ведома сделать набег на земли брата моего, русского царя? – сверкая глазами, кричит Бегадыр.
А понимать это надо так: что же ты, Сафат, столь робко тыкался от городка к городку? Почему ты не одержал ни одной большой победы? Отчего русские не испугались нас и не прислали нам послов, умоляя взять назад Азов? Почему ты, имея сорок тысяч сабель, привел только две тысячи полона? Да и эти две тысячи – только счет, половина рабов – старики и старухи.
– Неужели тебе неведомо, безумный, что султан Мурад IV запретил набеги на русские украйны? Султан Мурад IV в братской дружбе с русским царем, и ты, раб султана, посмел предаться своему безумству, которое грозит нарушить эту дружбу?
Хан Бегадыр визжал от ярости. И тут он не лгал. Он страшился гнева Мурада. Набег – первое большое неповиновение воле Истамбула. Был бы разбой удачным, вернули бы русские, убоявшись, Азов, – султан и не вспомнил бы о своем запрете. Но две тысячи полона слишком малая добыча.
На лицах мурз и беев неподдельная тревога. Многие из них участники набега. Если хан брата не пощадит, чего же ждать им?
– Нуреддин Сафат, – торжественно изрекает приговор Бегадыр, – я повелеваю тебе удалиться с глаз моих.
Толпа шумно перевела дух, головы мурз и беев потупились, скрывая ухмылки и улыбочки, – балаган. Все кончилось балаганом.
Через час в том же зале, опустевшем, душном от недавнего человеческого скопища, хан еще раз беседовал с нуреддином.
Хан все так же сидел на троне, а Сафат стоял, снизу глядя на старшего брата.
– Поди сюда, – позвал Бегадыр.
Сафат нерешительно сделал два шага.
– Иди сюда, ко мне. Не бойся.
Сафат подошел к ступеням трона.
– Садись на мое место.
– Великий хан…
– Садись, я так хочу, Сафат.
Взял брата за руку, усадил возле себя, успокоительно обнимая и похлопывая по плечу. Потом встал и сошел с трона. Занял место Сафата в десяти шагах от престола и спросил:
– Неудобно?
– Неудобно! – поерзав на троне и удивившись своему открытию, согласился Сафат.
– Все ж таки место это очень высокое, Сафат! Погляди-ка получше. Разве ты не видишь из-под этого балдахина Истамбул, Москву, Краков, Яссы, Исфагань, Стокгольм и даже Рим? И не страшно ли тебе с этого высочайшего места услышать свои собственные слова, ибо эти слова долетают до каждой из этих столиц?
Бегадыр вернулся на свое место, Сафат вскочил, но Бегадыр снова усадил его.
– Не сердись на меня, брат. Сегодня я ругал не тебя, а провидение. Нам с тобой не повезло… Если меня с этого места все слышат, то и я слышу многих. В Крыму теперь всякий болтает – поход не удался. Скажи, что бы ты сделал на моем месте?
– Брат мой, ты поступил мудро.
– Мудро? – Бегадыр усмехнулся. – Поступить мудро – это отправить тебя в цепях к пьянице Мураду на съедение. Тогда бы и все мурзы прищемили бы хвосты. Я поступил, Сафат, как любящий брат. Как несчастный старший брат. Запомни это.
Сафат низко склонил голову, но Бегадыр, играючи, толкнул его в плечо.
– Я вот что придумал: ты сегодня же отправишь в Москву гонца. С извинениями. Набег, мол, произведен подневольно, по приказу из Истамбула. А в Истамбул мы отправим подарки Кёзем-султан и Мураду. Тут уж тебе самому раскошеливаться! Кёзем-султан любит драгоценные камни, а Мураду отправить самых отборных пленников. Мужчин. Три сотни, думаю, будет довольно. Только самых отборных! И если таких не найдется среди полона, купи у Береки.
Сафат опустился перед братом на колени и поцеловал в приливе благодарных чувств и самоунижепности ханский сапог.
*
Доказывая любовь и преданность своему брату, нуреддин в тот же день отправил гонца в Москву и сам приехал к еврею Береке.
Конторка ростовщика, ссужавшего деньгами государей и государских послов, была похожа на погреб. Низкая дверь впускала в сводчатую палату с одним окошком за двойной железной решеткой. В палате стол, скамья для хозяина и скамья для дельцов, печь в углу, голые стены, голый пол. Кованый сундук для бумаг и денег. Единственным украшением этой каменной берлоги был высокий стул, обитый красным бархатом, с двумя рядами золотых гвоздиков на спинке.
Берека, согнувшись втрое, встретил высокого клиента.
Нуреддин сел на красный стул и, насмешливо поглядывая на согбенного хозяина, соизволил поздороваться:
– Доброго тебе здоровья, Берека. Я пришел по делу.
Берека проворно разогнулся и, почтительности ради глядя клиенту в бороду, но никак не в глаза, сел на свое место.
– Мне нужны рабы. Очень хорошие русские рабы, лучше которых не бывает. Штук сорок-пятьдесяг.
– Для тебя, государь мой, у меня будет все, чего ты пожелаешь, – тихо ответил Берека.
– Но мне нужны особые рабы. Самые лучшие. Это будет подарок султану.
– Я могу подобрать полон, мой государь, как ты пожелаешь: синеглазый, черноглазый, белокурый и темно-русый, рыжий, черный. Толстый и тонкий…
– Мне нужны силачи.
– Очень хорошо! Будут силачи, русые кудри, карие глаза… Можно бы и синеглазых. Это красиво, но в Турции синий глаз дурной.
– Сколько это будет стоить? – оборвал нуреддин.
– Сорок рабов по сорок золотых за каждого…
– По сорок золотых?! – закричал нуреддин, хватаясь за саблю.
Берека закрыл глаза и окаменел.
Нуреддин с проклятием метался по мерзкому погребу, пе зная, на чем выместить ярость. Наконец он подбежал к Береке:
– Сколько же это будет всего?
– Тысяча шестьсот золотых, – спокойно, внятно проговорил Берека.
– За такие деньги мне легче тебя убить! – Нуреддин затопал ногами, выхватил саблю и рубанул по столу.
Берека сидел не шевелясь. Он открыл глаза и глядел прямо перед собой, думая свою особую думу.
Нуреддин брякнулся на стул и, пронзая еврея взглядом, заговорил потише, урезонивая торгаша:
– Ты пойми! Мне твоих кареглазых, да русых, да силачей нужно триста. Двести пятьдесят силачей у меня есть, но мне нужно триста! И скажи мне, почему ты просишь по сорок золотых за раба? За презренного гяура?
– В Крыму теперь мало полона, – ответил бесстрастно и бесстрашно Берека. – Когда Кан-Темир привел полон из Польши, рабы стоили по десяти золотых.
– Пусть будет по сорок, – быстро согласился нуреддин, – но тысячу шестьсот я тебе не дам. Я дам тебе тысячу золотых.
Берека поднял глаза и впервые поглядел в лицо нуреддина.
– Чем же ты возместишь, государь мой, остальную сумму?
“Ничем!” – хотелось крикнуть нуреддину, но с него на сегодняшний день было довольно. Он сдался.
– Я могу дать русский жемчуг…
– Он дешев, – быстро возразил Берека. – Может быть, у государя найдутся рабы-мальчики? И еще бы я взял лошадьми.
Нуреддин хлопнул в ладоши. В конторку вошли слуги нуреддина. Они внесли две шкатулки с золотом и русским речным жемчугом.
Берека пересчитал золото.
– Здесь восемьсот семьдесят золотых, мой государь.
– Здесь тысяча!
– Я пересчитаю золото еще раз…
– Не надо! – Ярость снова закипела в нуреддине.
Он выхватил из-за пазухи мешочек с деньгами и бросил на стол под нос еврею.
– Мальчики и лошади будут завтра! Но завтра же ты представишь мне полсотни рабов, русых, кудрявых, одного роста.
– Не беспокойся, государь мой! – почтительно и серьезно ответил Берека, совершая глубокий и нижайший поклон царственному клиенту.
Глава шестая
Великий муфти Яхья-эфенди явился к султану Мураду и потребовал объяснений. Султан Мурад приказал казнить двух претендентов на один и тот же тимар114.
У Осман-бея было две дюжины грамот, подтверждающих право на владение землей и реайя115. Последняя грамота была выдана неделю назад. Грамота гласила: “До моего султанского сведения дошло, что противник Осман-бея через подлог и обман вторгнулся в чужие пределы и этим совершил правонарушение. Осман-бея ввести во владение тимаром, а его противнику Мустафе-ага в тимаре отказать. Султан Мурад IV”.
Но у Мустафы-ага тоже было две дюжины подтвердительных грамот, а последнюю ему выдали двумя неделями раньше, чем Осман-бею. Грамота гласила: “До моего султанского сведения дошло, что противник Мустафы-ага через подлог и обман вторгнулся в чужие пределы и этим совершил правонарушение. Мустафу-ага ввести во владение тимаром, а его противнику Осман-бею в тимаре отказать. Султан Мурад IV”.
Спорщики дали нужным людям взятки, проникли во дворец и явились пред очи Мурада.
Мурад посмотрел обе грамоты, и лицо его сделалось кирпичным. Он вспомнил горькие, но правдивые слова Кучибея Гёмюрджинского: “Визирь только и занят тяжбами. В руках каждого по двадцати подтвердительных грамот”. Теперь спорщики добрались до самого султана. Он, Мурад IV, готовит страну к великим походам и вместо великого должен решать гнусные споры между своими рабами.
– Обоим отрубить головы! – приказал султан. – Тимар взять в казну. Со всеми спорщиками поступать точно так же.
Осторожные слуги казнь отложили, довели дело до ушей Яхья-эфенди. Яхья-эфенди разгневался. Он тотчас отправился к Мураду напомнить ему, что казнь правоверных, совершенная без должной причины, есть величайший грех.
Мурат выслушал Яхья-эфенди, а потом, отчеканивая слова, вынес приговор, не забыв, однако, повеличать великого муфти его полным титулом:
– Мудрец, высший среди всех глубочайших мудрецов, превосходный из всех превосходнейших, умеющий разрешать все сомнения о вере и оканчивать все споры; ключ к извитиям истины, блестящий фонарь сокровищ познаний, благороднейший Яхья-эфенди, мы выслушали ваши речи, и мы приказываем вам удалиться в Египет для лечения ваших болезней, ибо сосуд здоровья столь мудрого мужа чрезвычайно дорог. В Египет! – И поискал глазами бостанджи-пашу. – Того, кто не исполнил моего слова и задержал казнь тимариотов, казнить вместе с тимариотами.
Казнь задержал сам бостанджи-паша, но он умел найти виноватого.
*
Яхья-эфенди – в ссылку, Мурад – к Бекри, который хотел купить у него Истамбул.
Когда наступила ночь, падишах стоял на ногах твердо, но вино разбудило в нем такую ярость, что он вырядился в одежды янычара и позвал свою ночную свору. Они вышли из Сераля, но тут Мураду почудилось, что в спину ему уперлись чьи-то страдающие глаза. Оглянулся – за спиной янычары, еще раз оглянулся… И вдруг узнал: это были глаза наложницы Дильрукеш… Что бы это могло значить? Может, глаза предупреждают?.. Какая светлая ночь! Завтра луне быть полной. И Мурад повернул назад.
Крошечные покои Дильрукеш. Копия потайной комнаты Мурада. Дильрукеш смотрит на него. Между бровями, над переносицей морщинка страдания. Наложница не рада посещению. Чушь! Наложница не жена. Наложница, даже любимая, – никто. Для наложницы появление повелителя равнозначно появлению солнца. Но солнце, хотим мы этого или нет, восходит каждый день, а повелитель может не прийти к наложнице никогда. Ах, она поняла наконец! Поднимается. Да, да, на колени! Только не поздно ли? Но что он слышит?
– Я умоляю тебя, повелитеь мой, не прикасайся ко мне! У тебя тысячи красавиц, возьми себе любую из них.
Мурад собирался уйти, чтоб не возвращаться, но тепер он не уйдет.
– О повелитель! Покинь меня! Заклинаю именем аллаха!
Мурад умеет молчать. Когда он молчит, приходится говорить другим. Но Дильрукеш тоже умеет не говорить лишних слов. Мурад взбешен, ему приходится задавать вопрос.
– Ты что бормочешь?! – кричит он.
– Мне приснилось: у меня родился орел.
Наложница, смеющая кричать на султана? Но, аллах, какие у нее глаза!
– У тебя родился орел? – Голос Мурада ласков. – Но это же вещий сон. Вот почему мне чудились твои глаза… Я пришел, Дильрукеш…
– Нет! – отшатнулась Дильрукеш. – Не сегодня. Орел должеп быть с крыльями!..
Мурад понял.
Он сел на краешек постели своей наложницы и погладил ее голову, как гладят маленьких котят.
Она лежала тихо. Он даже дыхания ее не слышал. Она его счастье. Она думает не о себе, а о нем, о человеке Мураде, который хочет запечатлеть свое пребывание на земле в своем сыне.
Тигр спрятал когти, но что бы он сотворил, если бы узнал, что Дильрукеш родила орла без крыльев?
Во сне.
Вот уже две недели Мурад не пил вина. Сначала было очень плохо. Силы покинули его, и ему казалось, что он умирает. И все-таки он не разрешил себе ни одного глотка хмельного.
И однажды Мурад проснулся здоровым. Он не стал гадать, надолго ли вернулись силы, а сразу принялся за работу.
Был найден и избран новый великий муфти. Достойный Хусейн-эфенди, хоть и не слыл великим ученым и умником, как Яхья-эфенди, зато не имел столько друзей и зависимых. Народу имя его было чужим, а стало быть, он мог советовать падишаху, мог его просить, но требовать исполнения советов и просьб не мог. Помощник, но не помеха.
В эти трезвые дни Мурад разработал план будущей войны. Великому визирю было приказано искать пути к замирению с Венецианской республикой. Эта война истощала казну, а если твой будущий враг всесильная Персия, воевать на две стороны с пустой казной безумство. Нужно было приложить все силы, чтобы Персия разрывалась между двумя нападающими армиями.
Надо напустить на Сефи I Индию. У Великого Могола Джехана на Персию свои виды. Послать к Моголу нужно хитреца, такого, как бостанджи-паша.
Победоносный змей войны приносит несметные богатства, но кормить этого змея приходится чистым золотом. Золото водилось в казне, но Мурад не был уверен, что его хватит на корм такому змею, который сумел бы проглотить империю персов.
Мурад не расставался с трактатом Кучибея Гёмюрджинского.
“Кроме девяноста шести тысяч двухсот шести человек еще двести тысяч получают жалованье вовсе не солдат, а только слывущих за солдат и причиняющих всякие насилия подданным”. Вот они! Вот они, золотые дожди!
Мурад IV затребовал у великого визиря список придворных, получающих жалованье из казны. Сокращал сам, играясь в цифирь, – пусть те, кто будет исполнять приказ о сокращении придворного корпуса, гадают и найдут-таки смысл новых чисел.
Гаффурьеров четыреста двадцать три. Почему четыреста двадцать три? Пусть будет сто двадцать четыре. Отведывалыциков сорок. Так и останется. Нужные и верные люди. Гайдуков девятьсот тридцать два. Почему девятьсот и еще тридцать два? Довольно будет и двух сотен.
Янычар, секбанов, пехотников, псарей – сорок шесть тысяч. А где Багдад? Где Азов? Где Венгрия? За что платить? Хватит трети, но эта треть будет стоить ста тысяч разгильдяев. Рука султана перечеркнула сорок шесть тысяч и начертала тринадцать тысяч пятьсот девяносто девять.
Мальчиков – в Истамбуле, Андрианополе, Галиполе и в собственных Его Величества садах – девять тысяч. Оставил семь тысяч четыреста девяносто пять. Конюхов четыре тысячи триста пятьдесят семь. Эти нужны все. Кухонной прислуги четыре тысячи восемьсот девяносто. Пусть будет четыреста восемьдесят девять. Оружейников шестьсот двадцать пять. Столько и будет. Пушкарей пять тысяч. А где они, пять тысяч пушек? Тысяча девяносто девять.
Водоносов тридцать пять – восемнадцать. Собственных Его Величества скликал на богослужение пятнадцать – шесть.
Мастеровых девятьсот – пятьсот тридцать один, врачей и цирюльников тридцать шесть – двадцать шесть! Прикинул итог. Двор сократился больше чем наполовину. Беспорядка будет меньше вдвое. Вызвал великого визиря и великого муфти. Передал им свой фирман.
– Исполнить! Я уезжаю на охоту в Анатолию116. К моему возвращению дело должно быть закончено.
Великий визирь Байрам-паша и великий муфти Хусейн– эфенди поглядели друг на друга так, словно попрощались.
Выбросить за ворота половину двора и не дать вспыхнуть дворцовому мятежу?
Лишить государственных мест людей достойнейших, для которых эти места куплены миллионерами-ростовщиками за многие тысячи золотых, изгнать друзей ханов, царей и всесильных бейлербеев, низвергнуть отцов и братьев жен и любимых наложниц самого падишаха, оставить без жалованья детей, племянников, свояков таких сановников, как казначей, бостанджи-паша, и после этого самим не остаться без головы? Возможно ли это?
Мурад хитер, как волк. Он уезжает в Анатолию. В Анатолии много кочевников, для которых власть султана божественна. Если в Истамбуле начнутся беспорядки, у него под руками будет слепая, ненавидящая город сила.
Охотиться Мурад собирался не меньше трех недель. Воля ваша, визири, можете долго думать и быстро сделать. Можете рубить по кускам… Но если дело не будет совершено, пеняйте на самих себя. Пути к сердцу Мурада были неведомы, но зато было ведомо: пощады он не знает.
*
Перед отъездом падишах осчастливил своим присутствием покои любимой наложницы Дильрукеш.
– О повелитель! Я каждую ночь жду тебя, и восход солнца стал для меня безрадостным.
Он не улыбнулся.
– Я ждал, пока весь яд выйдет из меня. Я пришел к тебе, Дильрукеш, за моим орлом. Будь же милостива ко мне.
Слезы брызнули из глаз ее.
МЕДДАХ И НАДЕЖДА
Глава первая
“Любовь – это море: кто не умеет в нем плавать, тот утонет”. “Кто говорит правду, того выгонят из тридцати деревень”.
Юный меддах сам когда-то бросал в толпу своих слушателей слова безымянных мудрецов.
Любовь – это море. А в море хорошо тому, кто на палубе галеры, но не под палубой, прикован цепью к веслу,