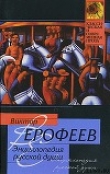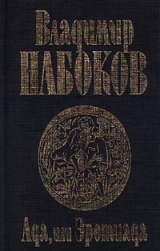
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
Ада показала оробевшему гостю огромную библиотеку на втором этаже – гордость Ардиса и излюбленное ее «пастбище», куда мать не заходила никогда (в будуаре у нее имелось свое чтение: «Тысяча и Одна: Избранные пьесы») и куда чувствительный и трусоватый Рыжий Вин заглядывать избегал, опасаясь призрака собственного отца, скончавшегося в библиотеке от удара, а также полагая, что нет в мире более унылого зрелища, чем всякие собрания несообразных авторов, хотя сам изредка был не прочь дать гостю поахать среди высоченных книжных шкафов и приземистых шкафчиков, среди темневших полотен и светлевших бюстов, оценить десяток резных ореховых стульев и два величественных письменных стола, инкрустированных черным деревом. Косой луч премудрого солнца высвечивал цветную иллюстрацию с изображением орхидей в развернутом на пюпитре ботаническом атласе. Диван, а может, кушетка, обитая черным бархатом и с двумя желтыми подушками, примостилась в нише под окном зеркального стекла, откуда открывался великолепный вид на банального вида парк с искусственным озером. На широком подоконнике чистыми призраками металла и сала обозначались или угадывались два подсвечника.
Из библиотеки коридор мог бы увлечь наших примолкших исследователей прямо в апартаменты мистера и миссис Вин, в левое крыло, пожелай дети проследовать в этом направлении. Вместо этого они поднялись спиралью маленькой полупотайной лесенки, притаившейся за отдвижным книжным шкафом, на самый верхний этаж – она, шире потягиваясь вверх белыми ляжечками, опережала его на три крутые ступеньки.
И спальни, и примыкавшие к ним удобства оказались более чем скромные, и Ван не мог не посетовать, что еще слишком юн, и потому скорей всего гостевые комнаты рядом с библиотекой ему не светят. Озирая предметы, которые потом будут изводить его своей нудностью в тиши летних ночей, Ван с тоской вспоминал роскошный быт родного дома. Уму непостижимо, что за плебей, что за кретин додумался впереть сюда эту по-приютски убогую кровать с каким-то допотопным, покрытым копотью деревянным изголовьем, этот спонтанно скрипящий гардероб, этот приземистый комод под красное дерево с круглыми ручками на цепочке (одна из которых отсутствовала), этот сундук для хранения одеял (жалкий беглец из бельевой), эту древнюю конторку, вспучившаяся крышка которой то ли на запоре, то ли заклинилась: в одном из никчемных отделений Ван обнаружил недостающую ручку от комода и передал Аде, которая тут же выбросила ее за окошко. До этих пор Вану не приходилось видеть вешалку для полотенец, и этот умывальник для домов без ванной он видел впервые. Круглое зеркало оплетал гипсовый, с позолотой, виноград, фарфоровый таз (в пару такому же тазу в умывальне для девочек через коридор напротив) обвивала сатанинского вида змея. Кресло с высокой спинкой и подлокотниками, а также табурет у кровати, служивший подставкой для медного подсвечника с углублением для стекания жира и ручкой (только что, кажется, видел отражение такого же – в чем?), завершали перечень основной и наихудшей части неказистой обстановки.
Вернулись в коридор: Ада – смахивая пряди со лба, Ван – откашливаясь. Впереди в глубине коридора приоткрытая дверь в комнату для игр или детскую колыхалась туда-сюда: из-за нее, выставляя красновато-смуглую коленку, поглядывала малышка Люсетт. Вот дверная створка распахнулась, но Люсетт – шмыг внутрь и была такова. Изразцы печки пестрели кобальтово-синими корабликами, и стоило сестрице и Вану поравняться с распахнутой дверью, игрушечная шарманка зазывно разразилась спотыкающимся менуэтиком. Ада с Ваном вернулись на нижний этаж – на сей раз по парадной лестнице. Среди множества предков на стене Ада отметила своего любимца, старого князя Всеслава Земского (1699–1797), водившего дружбу с Линнеем и автора Flora Ladorica, который на писанном сочными масляными красками портрете был изображен с не вполне вызревшей своей невестой, которая с белокурой куклой восседала у него на атласных коленях. Рядом с сим в расшитом камзоле любителем нераскрывшихся бутонов висела (весьма некстати, как подумалось Вану) увеличенная фотография в неброской раме. Покойный Сумеречников{22}, американский предшественник братьев Люмьер, сфотографировал дядюшку Ады по материнской линии в профиль с воздетой к подбородку скрипкой – обреченное юное создание было запечатлено после своего прощального концерта.
Желтая гостиная на первом этаже, убранная в дамаст и обставленная в стиле, именуемом французами «ампир», была распахнута в сад, и в этот предсумеречный час оттуда внутрь через порог вливались в дом густые тени листвы пауловнии (дерева, названного, как пояснила Ада, одним заурядным лингвистом – по отчеству, ошибочно принятому за второе имя или фамилию некой ни в чем не повинной дамы, Анны Павловны Романовой, дочери Павла, прозванному, почему – непонятно, Павел-без-Петра, который приходился кузеном учителю того псевдолингвиста, тому самому ботанику Земскому, окосеть можно, подумал Ван). За стеклом на горке помещался целый миниатюрный зверинец, откуда сернобык и окапи при полном упоминании их научных наименований были особо рекомендованы Вану его очаровательной, но до невозможности претенциозной спутницей. Равно впечатляла и пятистворчатая ширма, на черных панелях которой красовались яркие изображения древних карт четырех с половиной континентов. Теперь пройдем в музыкальный салон с роялем, на котором редко кто играл, затем в угловую комнату, так называемую оружейную, с чучелом шетлендского пони, на котором езживала тетушка Дэна Вина, ее девичье имя, слава Логу, позабыто. В противоположной или еще какой-то части дома располагался бальный зал – полированная пустыня с одиноко скучающими стульями по стенам. («Мимо, читатель», как писал Тургенев.{23}) «Конюшни», как их неточно именовали в графстве Ладора, в архитектурном смысле на общем фоне Ардис-Холла являли собой явную нелепицу. Решетчатая галерея, глянув через увитое гирляндами плечо в сад, резко выворачивала к подъездной аллее. Еще где-то элегантная лоджия, залитая светом из продолговатых окон, вывела уже едва шевелившую языком Аду и изнывавшего от скуки Вана к выложенной из камней беседке: бутафорскому гроту, с бесстыдно жмущимися к нему папоротниками и с искусственным водопадиком, почерпнутым то ли из ручья, то ли из книжки, то ли из исходящего зудом Ванова мочевого пузыря (после этого чертова чаепития).
Комнаты прислуги размещались в нижнем этаже (лишь две красившиеся и пудрившиеся горничные обитали наверху) и окнами выходили во двор; Ада заметила, что лишь на самом пытливом этапе своего детства заглянула однажды сюда, но всего-навсего и запомнились ей что канарейка да допотопная машинка для перемалывания кофейных зерен, на сем ее интерес иссяк.
И снова взмыли наверх. Ван заскочил в ватерклозет – и вышел оттуда в весьма улучшенном расположении духа. Они двинулись дальше, и снова прозвучало несколько тактов в исполнении Гайдна-малютки.
Чердак. Вот и чердак. Пожалуйте на чердак. Здесь хранилось несметное количество всяких чемоданов и картонок; две коричневые кушетки примостились друг на дружке, точно пара совокупляющихся жуков; множество картин, обращенных, точно пристыженные дети, к стене, стояло по углам и на полках. Лежал свернутый в своем чехле старенький вжиккер, или легколет, волшебный синий ковер с арабским узором, поблекший, но все еще восхитительный, тот самый, на котором отец дядюшки Дэниела летал в детстве, да и потом, когда бывал в подпитии. По причине множества столкновений, крушений и прочих несчастных случаев, особо часто происходивших над мирными полями в закатном небе, воздушный дозор вжиккеры запретил; но через четыре года Ван, обожавший этот спорт, подкупил одного местного механика, тот почистил аппарат, перезарядил выхрипы и в целом вернул ему прежнюю магическую силу, и Ван и его Ада летними деньками парили над рощей и над речкой или скользили на безопасной десятифутовой высоте над дорогами и над крышами. Каким комичным казался сверху вихляющий и подскакивающий на кочках велосипедист, как забавно махал руками, балансируя по крыше, трубочист!
Движимая смутным убеждением, что осматривать дом – хоть какое-нибудь да занятие, создавая видимость организованного показа, каковой, невзирая на блистательные способности обоих поддерживать разговор, мог бы стать жалким и пустым праздношатанием, питаемым лишь показным, упирающимся в немоту остроумием, безжалостная Ада повлекла Вана в подвальный этаж, где, содрогаясь, толстобрюхий робот с силой вдыхал жар в трубы, змеевидно тянувшиеся в громадную кухню и к двум мрачным ванным комнатам, а зимой тщился изо всех своих жалких сил обеспечить дворец теплом для праздничного приема гостей.
– Ты ничего еще толком не видел! – воскликнула Ада. – Ведь крышу же надо осмотреть!
«Ну уж это последний подъем на сегодня!» – твердо сказал себе Ван.
Из-за смешения наложений черепичных и стилей неидентичных (кто крыши не любит, тем сложно без технических терминов), а также из-за непродуманного, если можно так выразиться, континуума реконструкций крыша Ардисского поместья представляла собой неописуемое столпотворение углов и перепадов, жестяно-зеленых и ребристо-серых кровель, живописных коньков и ветронепроницаемых закоулочков. Было куда забиться и целоваться, а в промежутках видеть сверху и водоем, и рощи, и луга, и даже полосу лиственниц, четким, как чернила, контуром обозначившую границу с соседним поместьем, простиравшимся за мили отсюда, и еще уродливо крохотных и каких-то безногих коров вдали на холме. Здесь уж без труда отыскивалось укрытие от вездесущих легколетов и от фотосъемочных воздушных шаров.
Террасу огласил бронзовый раскат гонга.
Весть о том, что к ужину ожидается очередной гость, наши дети по странной причине восприняли с облегчением. В гости ждали архитектора-андалузца, кому дядюшка Дэн заказал «художественный» проект бассейна для поместья Ардис. Дядюшка Дэн и сам намеревался прибыть вместе с гостем и в сопровождении переводчика, да подхватил русский «hrip» («испанку») и, позвонив Марине, просил ее принять порадушней добрейшего старикана Алонсо.
– Вы должны мне помочь! – хмуро и озабоченно сказала детям Марина.
– Пожалуй, я покажу ему, – начала, обращаясь к Вану Ада, – копию прямо-таки фантастически прекрасного nature morte кисти Хуана де Лабрадора из Эстремадуры – с золотистым виноградом и такой причудливой розой на темном фоне. Дэн продал подлинник Демону, а Демон обещал подарить мне на пятнадцатилетие.
– У нас тоже есть какие-то фрукты Сурбарана, – самодовольно заметил Ван. – Там, по-моему, мандарины и вроде бы инжир, а на нем оса. Потрясем старикашку познаниями в живописи!
Но ничего не получилось. Алонсо, маленький, сухонький старичок в двубортном смокинге, говорил только по-испански, тогда как запас испанских слов у его хозяев едва ли дотягивал до десятка. Ван знал два слова – canastilla (корзиночка) и nubarrones (грозовые тучи), причем оба слова запомнил по en regard[41]41
Обратному (фр.).
[Закрыть] переводу одного милого испанского стишка из какого-то учебника. Ада, разумеется, вспомнила слово mariposa (бабочка) и еще два-три названия (из орнитологических справочников) птиц, в том числе paloma, голубка, и grevol, рябчик. Марина знала слова aroma и hombre[42]42
«Запах» и «человек» (исп.).
[Закрыть] и еще какой-то анатомический термин с провисающим посредине «j». В итоге застольная беседа состояла из длинных, тяжелых и выкрикиваемых словоохотливым архитектором, считавшим, что все вокруг глухие, испанских фраз вперемежку с некими французскими, произносимыми его жертвами намеренно, но впустую на итальянский лад. По окончании неловкого застолья Алонсо в свете трех факелов, придерживаемых двумя лакеями, обследовал возможную площадку для дорогостоящего бассейна, упрятал карту местности обратно в свой портфель и, в темноте по оплошности облобызав Адину ручку, поспешил прочь, дабы поспеть на последний поезд, шедший в южном направлении.
С дремотным свербением в глазах Ван отправился спать сразу после «вечернего чая», а на деле летней трапезы без чая, состоявшейся часа через два после ужина и являющейся для Марины событием столь же естественным и непреложным, как заход солнца в предвечерний час. Этот непременный русский обряд состоял для обитателей Ардиса в откушивании простокваши (интерпретируемой на английский манер как curds-and-whey, a на французский мадемуазелью Ларивьер как lait caillé, «свернувшееся молоко»), тоненькую, жировато-глянцевую пенку которой мисс Ада изящно и алчно (сколько всего в тебе, Ада, отождествляют эти наречия!) подхватывала своей особенной, серебряной, с монограммой «V» ложечкой и слизывала, прежде чем предпринять атаку на более аморфные, сладко-творожистые глубины содержимого чашки; к сему подавались грубоватый черный крестьянских хлеб, темная клубника (Fragaria elatior) и крупная, ярко-красная садовая земляника (гибрид двух иных разновидностей Fragaria). Едва Ван приник щекой к прохладной плоской подушке, как уж был мощно воскрешен к жизни веселым и шумным пением – светлыми трелями, нежным посвистыванием, чириканьем, клекотом, щебетаньем, хриплым карканьем, ласковым стрекотом – и решил про себя, не без влияния антиодюбоновских теорий{24}, что Ада непременно смогла бы различить любой голос и назвать каждую птицу в этом хоре. Скользнув ногами в шлепанцы, Ван сгреб мыло, расческу и полотенце, накинул на голое тело махровый халат и вышел из комнаты с намерением окунуться в ручье, который накануне заприметил. В рассветной тишине дома, нарушаемой лишь всхрапыванием, доносившимся из комнаты гувернантки, тикали коридорные часы. На мгновение поколебавшись, Ван заглянул в ватерклозет при детской. Там на него через открытую узкую оконную створку вместе с обилием солнца грянул оголтелый птичий гомон. Ах, как хорошо, как хорошо! Ван спускался по парадной лестнице, и родитель генерала Дурманова, признав, препроводил его важным взглядом к старому князю Земскому и прочим предкам, и каждый взирал на Вана со сдержанным интересом, как вглядываются музейные стражи в одинокого туриста в полумраке старого особняка.
Парадная дверь была на запоре и на цепочке, Ван подергал стеклянную, с решеткой, боковую дверь галереи в голубых гирляндочках; та тоже не поддавалась. До поры не подозревая, что под лестницей в неприметной нише таится целый набор запасных ключей (иные очень старинные, от непонятных замков, висели на медных крючках) и что ниша эта сообщается посредством кладовки для инвентаря с уединенным уголком сада, Ван обошел несколько гостиных в поисках подходящего окна. Войдя в угловую комнату, он обнаружил, что там у высокого окна стоит молоденькая горничная, которую особо заприметил (пообещав себе присмотреться как следует) еще давеча вечером; она была вся, как говаривал с легкой хитрецой его отец, в «субреточно-черном и до содрогания оборчатом»; черепаховый гребень в каштановых волосах горел янтарем на солнце; высокая балконная дверь была раскрыта, и, опершись о косяк вытянутой вверх рукою, на пальце которой звездочкой поблескивал крошечный аквамарин, девушка следила, как скачет по мощеной дорожке к брошенному ей печеньицу воробей. Точеный профиль, прелестная розоватость ноздрей, присущая француженкам длинная, лилейно-белая шея, округлость и вместе с тем изящество форм – словом, вся она (мужская страсть не слишком изощрена в выборе описательных средств!) и в особенности жаркое осознание благоприятности момента с такой силой всколыхнули Вана, что он, не удержавшись, сжал запястье ее стянутой узким рукавом руки. Высвобождаясь и демонстрируя своей невозмутимостью, что его приближение не прошло незамеченным, девушка оборотила к Вану хорошенькое, хоть и безбровое личико и спросила, не желает ли он выпить перед завтраком чая. Нет. Как тебя зовут? Бланш – но мадемуазель Ларивьер обзывает Золушкой, потому что, понимаете, петли у меня на чулках то и дело спускаются и потому, что то что-то разбиваю, то не туда кладу и еще в цветах не разбираюсь. Нестесненность одежд изобличала вожделенность надежд Вана, что не могло укрыться от взора любой девицы, даже не различающей кое-какие цвета, но когда он решительней к ней придвинулся, при этом поглядывая поверх ее головы в надежде, что вот-вот возникнет подходящее ложе прямо тут, в этом волшебном поместье – где повсюду, как и в воспоминаниях Казановы, словно в сказочном сне, можно узреть уединенную таинственность сераля, – она высвободилась полностью из его объятий и на своем по-ладорски нежном французском произнесла краткий монолог:
– Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j'en ai dixneuf. Monsieur из благородных, а я дочь бедного рабочего-торфяника. Monsieur a tâté, sans doute, des filles de la ville; quant à moi, je suis vierge, ou peu s'en faut. De plus[43]43
По-моему, месье пятнадцать, а мне, как известно, девятнадцать. Месье, из благородных, а я дочь бедного рабочего-торфяника. Месье, конечно, перепробовал городских девушек, что до меня, я еще девственница, или почти девственница… Вдобавок… (фр.)
[Закрыть], стоит мне влюбиться в вас – по-настоящему, я хочу сказать, – а такое, увы, может со мной приключиться, если вы овладеете мной rien qu'une petite fois[44]44
Хотя бы разок (фр.).
[Закрыть] – и тогда мне только и останется, что вечное страдание, и огонь негасимый, и отчаяние, и, может, даже смерть, Monsieur. Finalement[45]45
Под конец (фр.).
[Закрыть], могу добавить, что у меня бели и что в следующий свой выходной я непременно должна показаться le Docteur Chronique[46]46
К доктору Хронику (фр.).
[Закрыть], то есть Кролику. А теперь извольте пустить, воробушек уже улетел, а в соседнюю комнату вошел месье Бутейан, и ему ничего не стоит увидеть нас вон в то зеркало над диваном, за шелковой ширмой.
– Извините барышня! – пробормотал Ван, которого до такой степени обескуражил ее на удивление трагический пафос, словно Ван и сам играл заглавную роль в каком-то спектакле, но знал притом только одну эту сцену.
Рука дворецкого в зеркале взяла откуда-то графин и исчезла. Перепоясав пояс халата потуже, Ван ступил через балконную дверь в зеленую явь сада.
8В то же утро, а может, через пару дней, на террасе: – Mais va donc jouer avec lui[47]47
Да поиграйте же с ним вместе (фр.).
[Закрыть], – сказала мадемуазель Ларивьер, подталкивая Аду, девчоночьи бедрышки которой нестройно вздрогнули от толчка. – Не заставляйте вашего кузена se morfondre[48]48
Скучать (фр.).
[Закрыть] при такой чудной погоде. Возьмитесь за руки. Подите покажите ему белую даму на вашей любимой аллее, и гору, и старый дуб.
Подернув плечами, Ада повернулась к Вану. Прикосновение ее холодных пальцев и влажной ладони и еще та неловкость, с которой она откинула назад волосы, когда они направились по центральной аллее парка, вызвали неловкость и в нем самом, и Ван, сделав вид, будто хочет подобрать еловую шишку, высвободил руку. Он запустил шишкой в мраморную женщину, склоненную над сосудом, но не попал, а лишь спугнул птицу, примостившуюся на краю горлышка разбитого кувшина.
– Беспримерная пошлость, – сказала Ада, – кидаться камнями в дубоноса!
– Прошу прощения, – возразил Ван, – я вовсе не метил в птичку. И потом, я ведь не сельский житель, где мне отличить шишку от камешка! Аи fond[49]49
Так (фр.).
[Закрыть] во что она предложила бы нам играть?
– Je l'ignore![50]50
Не знаю! (фр.)
[Закрыть] – отвечала Ада. – Мне совершенно неинтересно мнение этой жалкой особы. В cache-cache[51]51
Прятки (фр.).
[Закрыть], наверное, или по деревьям лазать.
– Отлично, уж в этом-то я мастер, – сказал Ван. – Я даже могу, повиснув, перебираться руками по ветке.
– Ну уж нет, – отрезала Ада, – мы будем играть в мои игры. Какие я сама придумала. В которые наша бедняжка лапочка Люсетт, думаю, сможет играть со мной через год. Итак, начнем. Сегодня я покажу тебе две игры из цикла «тень-и-свет».
– Ясно! – кивнул Ван.
– Ничего тебе не ясно! – парировала хорошенькая воображала. – Сперва надо найти подходящую палочку.
– Смотри! – сказал, все еще чувствуя себя немного задетым, Ван. – Вон прилетел еще один твой… как его… дубо… дубонос.
Тут они вышли к rond-point – маленькой полянке в окружении цветочных клумб и пышно цветущих жасминовых кустов. Липа над их головами простерла ветви навстречу ветвям дуба – будто парящая под куполом, вся в зеленых блестках красавица протянула руки к сильным рукам отца, повисшего вниз головой на трапеции. Уже тогда мы оба видели все в необычном свете, уже тогда.
– Правда, есть что-то акробатическое в этих тянущихся ветвях? – сказал Ван, указывая пальцем вверх.
– Верно, – ответила она. – Я уж давно подметила. Эта липа – летящая итальянка, а старый дуб, ее старый любовник, тянется, тянется изо всех сил, и все же неизменно подхватывает ее. (Невозможно – через восемь десятков лет! – воспроизводя смысл, передать ту ее интонацию, но, когда они посмотрели вверх, а потом вниз, произнесла она ту фразу, совершенно неожиданную, совершенно с ее нежным возрастом не вязавшуюся.)
Опустив глаза к земле и размахивая колышком, выдернутым из-под пионового куста, Ада изложила суть первой игры.
Тени листьев на песке причудливо перемежались кружочками подвижных солнечных бликов. Играющий выбирал свой кружочек – самый яркий, самый красивый – и четко обводил его контур палочкой; и тогда желтый кружок света приобретал на глазах выпуклость, словно некая золотая краска заливала до краев круглую емкость. Теперь играющий с помощью палочки или пальцами осторожно выгребал песок из кружочка. И мерцающий infusion de tilleul[52]52
Липовый настой (фр.).
[Закрыть] падал с поверхности в свой земляной кубок, уменьшаясь до размера единственной драгоценной капли. Выигрывал тот, кто успевал наделать больше таких кубков, скажем, за двадцать минут.
Ван с недоверием осведомился: и все?
Нет, не все. Ада опустилась на корточки и, прочерчивая четкий кружок вокруг редкостной красоты золотого пятнышка, невольно колыхалась, а черные пряди волос падали на ее ходившие, гладкие, как слоновая кость, коленки, и бедра у нее ходили, и руки: одна водила палочкой, другая откидывала назад непокорные пряди. Внезапно легкий ветер притенил солнечный блик. В таких случаях играющий терял очко, даже если лист или облако спешили убраться восвояси.
Ну ладно. А другая игра какая?
Другая игра (нараспев), пожалуй, и потруднее покажется. Чтоб играть в нее как следует, надо дождаться полудня, когда тени становятся длинней. Играющий…
– Да будет тебе «играющий»! Это либо ты, либо я.
– Ну пусть ты! Ты прочерчиваешь за мной мою тень на песке. Я отступаю. Ты чертишь снова. Потом помечаешь следующую границу (вручая ему палочку). Если я теперь ступлю назад…
– Знаешь что, – прервал ее Ван, отбрасывая палочку прочь, – мне лично кажется, скучнее и глупее этих игр никто и никогда во всем свете не выдумывал, ни до, ни после полудня.
Она ни слова не сказала, только ноздри у нее напряглись. Подобрала палочку и яростно воткнула ее в прежнее место, поглубже в суглинок, рядом с благодарным цветком, который она, молча мотнув головой, петлей соединила с палочкой. И пошла обратно к дому. Ван прикидывал, сделается ли у нее с годами походка изящней.
– Прости меня, пожалуйста, – сказал он. – Я грубый, невоспитанный мальчишка.
Она, не оборачиваясь, склонила голову. В знак частичного примирения показала ему два крепких крюка, пропущенных через железные кольца на тюльпанных деревьях, между которыми, еще до ее появления на свет, другой мальчик, также Иван, братец ее матери, качался в гамаке, где и спал в летнюю жару, когда ночи становились особенно душными, – к слову сказать, здешние места располагались на широте Сицилии.
– Прекрасная идея! – воскликнул Ван. – Да, кстати, если светлячок налетает на человека, то жжется? Просто интересно. Так, глупый вопрос городского жителя.
Потом Ада показала ему, где хранится тот самый гамак – даже целая кипа гамаков, – холщовый мешок, забитый упругими, податливыми сетками: мешок стоял в углу кладовки в подвале, скрытом кустами сирени; ключ был запрятан в том самом углублении, где в прошлом году свила себе гнездо какая-то птаха – не важно, какая именно. Наведясь на длинную зеленую коробку, где хранились принадлежности для игры в крокет, солнечный луч ненароком вызеленил ее поярче. Только шары давно поскатывали с горки вниз, расшалившись, дети, младшие Ласкины; теперь-то они подросли, уже ровесники Вана, утихомирились, остепенились.
– Кто из нас не прошел через этот возраст, – заметил Ван, наклоняясь и подбирая изогнутый черепаховый гребень, – таким барышни зачесывают волосы назад и скрепляют на затылке.
Где-то он видел еще один, такой же, и недавно совсем – но когда, в чьих волосах?
– Кого-то из горничных, – бросила Ада. – Вот и эта растрепанная книжонка, должно быть, тоже: «Les Amours du Docteur Mertvago»[53]53
«Любовные похождения доктора Мертваго» (фр.).
[Закрыть], мистический роман какого-то пастора.
– Придется, видно, – сказал Ван, – играть в крокет с помощью фламинго и ежей!{25}
– Круг чтения у нас не один и тот же, – отвечала Ада. – Мне все так настойчиво расписывали эту «Ларису в Стране Чудес»{26}, что у меня возникло непреодолимое к ней отвращение. Читал ты что-нибудь из рассказов, что пишет мадемуазель Ларивьер? Что ж, еще прочтешь. Она воображает, будто в какой-то своей индуистской жизни была дамочкой с Больших Бульваров; соответственно и пишет. Отсюда можно просочиться в парадную залу потайным ходом, но, мне кажется, следует осмотреть grand chêne[54]54
Большой дуб (фр.).
[Закрыть], который на самом деле не дуб, а вяз.
Нравятся ему вязы? Знает ли он стихотворение Джойса про двух прачек{27}? Оказывается, знает. Нравится? Нравится. Ему и в самом деле всерьез начинали нравиться и сень сада, и лучей каскады, и Ада. Все рифмовалось. Сказать ей или нет?
– А теперь… – начала Ада, остановившись и взглянув на Вана.
– Ну и, – подхватил он, – что теперь?
– Хотя, пожалуй, не следовало бы тебя развлекать – раз ты с таким презрением отнесся к моим кружкам, – и все же сменю-ка я гнев на милость и покажу тебе настоящее чудо Ардиса, мой гусеничник, он в комнате рядом с моей. (А ведь Ван ее комнаты не видел, вовсе не видел, вот странно, подумать только!)
Она осторожно прикрыла дверь смежной комнаты, и оба оказались в просторном, отделанном мрамором помещении (как выяснилось, бывшей ванной), в конце которого находилось нечто, напоминавшее живописный крольчатник. Несмотря на то что помещение хорошо проветривалось, несмотря на то что геральдические витражные окна были распахнуты в сад (откуда доносились хриплые и по-кошачьему зазывные выкрики вечно голодного и до крайности отчаявшегося птичьего племени), здесь был весьма ощутим запах обитания мелкого зверья – пахло наполненной корнями влажной землей, оранжереей, с легкой примесью козлиного духа. Прежде чем подпустить Вана поближе, Ада заскрипела задвижками и решеточками, и взамен сладостного жара, переполнявшего Вана весь этот день с самого начала их невинных игр, его охватило чувство полной опустошенности и подавленности.
– Je raffole de tout ce qui rampe (Обожаю всяких ползающих живностей)! – объявила Ада.
– Я бы лично предпочел, – заметил Ван, – тех, что сворачиваются пушистым комочком, когда до них дотрагиваешься… что, как старые собаки, погружаются в спячку.
– Господи, какая спячка, quelle idée[55]55
Что за вздор (фр.).
[Закрыть], они замирают, что-то вроде обморока, – пояснила Ада, насупившись. – И по-моему, для самых крох это просто потрясение.
– Ну да, и мне так кажется. Только, думаю, они привыкают, ну, как бы со временем.
Но скоро рожденная невежеством неловкость Вана уступила место эстетическому сопереживанию. Даже десятки лет спустя вспоминал Ван то искреннее восхищение, которое вызывали в нем эти прелестные, голенькие, в ярких пятнах и полосках, гусеницы ночной бабочки-акулы, ядоносные, как и цветки коровяка, вокруг них теснящиеся, и эта приплюснутая личинка местной ленточницы, серые бугорочки и сиреневые бляшечки которой копировали утолщения и лишайниковые наросты древесных сучков, к каким она приникала настолько плотно, что, казалось, не оторвать, и еще, конечно, малыш Кистехвост, чья черная кожица вдоль всей спинки украшена разноцветными пучками – красными, голубыми, желтыми, – точно зубная щетка, причудливо обработанная сочными красками. И подобное сравнение, приправленное своеобразными эпитетами, сегодня напоминает мне энтомологические описания из Адиного дневника – ведь должны же они у нас где-то храниться, правда, любимая, кажется, вот в этом ящике стола, что? Разве нет? Да, да! Ура! Вот кое-что (твой пухлощекий почерк, любовь моя, был несколько крупней, но в целом он нисколько, нисколько, нисколечко не изменился!):
«Втягивающаяся головка и выставленные дьявольскими рожками анальные отростки этого крикливо-яркого монстра, из которого получится Гарпия Большая, принадлежит одной из наименее гусеничноподобных гусениц, передняя часть которой имеет вид гармошки, заканчиваясь личиком, напоминающим объектив складного фотоаппарата. Стоит легонько провести пальцем по гладкому, вздутому тельцу, ощущаешь приятную шелковистость – как вдруг, почувствовав раздражение, неблагодарное существо запускает в тебя из шейной щели струйку едкой жидкости».
«Д-р Кролик любезно подарил мне пять полученных им из Андалузии юных личинок только что открытой и только там обитающей Ванессы Кармен. Восхитительные существа – прелестного нефритового оттенка, с серебристыми искорками, и питаются исключительно листьями почти исчезнувшей разновидности высокогорной ивы (каковые милый Кроль также для меня изыскал)»
(Ребенком лет в десять или ранее она – как и Ван – прочла, о чем свидетельствует последующий отрывок, «Les Malheurs de Swann»[56]56
«Злоключения Свана» (фр.).
[Закрыть].)
«Надеюсь, Марина прекратит меня ругать за мое увлечение („Просто неприлично для девочки возиться с такими отвратительными тварями…“, „Нормальные юные барышни должны испытывать отвращение к змеям, червякам и проч.“), если я смогу убедить ее преодолеть отсталость и брезгливость и подержать на ладони и запястье (в одной ладони не уместится!) благородную личинку – гусеницу бражника Cattleya{28} (красновато-лиловых тонов мсье Пруста), этого семидюймового колосса телесного цвета и с бирюзовым орнаментом, с приподнятой и неподвижной, как у сфинкса, головкой».
Прелестные строки! – воскликнул Ван. – Но в юные годы даже я не мог полностью прочувствовать их прелесть. Так не будем же пинать недотепу, который, скоренько пролистав всю книгу, заключает: «Ну и плут этот В.В.!»
***
В конце этого, такого далекого и такого близкого лета 1884 года Ван перед своим отъездом из Ардиса должен был нанести прощальный визит в гусеничник Ады.
Чрезвычайно ценная, фарфорово-белая пятнистая личинка «Капюшона» (или «Акулы») благополучно перешла в следующую фазу своего развития, но уникальная Адина ленточница Лорелея погибла от парализующего укола мухи-наездника, которую не смогли сбить с толку хитроумные бугорки и лишаистые пятнышки. Многоцветная зубная щеточка преспокойно окуклилась в волосистый кокон, суля по осени превратиться в Кистехвоста Персидского. Две личинки Гарпии Большой сделались еще безобразней, перейдя при этом в более червеобразную и даже, пожалуй, несколько более почтенную стадию: волоча по земле обмякший раздвоенный хвостик, похоронив эффектную выпуклость своего окраса под багровым налетом, они только и знали, что оголтело метались по настилу своей клетки в каком-то предкукольном порыве вечного движения. За тем же и Аква в минувшем году шла через леса, пробираясь в лощину. Только что вылупившаяся Nymphalis carmen едва начинала трепыхать лимоновыми с янтарно-коричневым ободком крылышками в солнечном луче на решетке, как тотчас ловкие пальцы безжалостной Ады мгновенным сжатием с упоением придушили бабочку; бражник Одетта на свое счастье превратился в слоникоподобную мумию с забавно упакованным германтоидного вида хоботком; где-то за Полярным Кругом, в другом полушарии, д-р Кролик, проворно семеня коротенькими ножками, гонялся за одной очень редкой бабочкой-белянкой, ранее известной как Autocharts ada Кролика (1884), но вследствие неумолимых правил таксономической приоритетности получившей название A.prittwitzi Штюмпера.