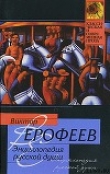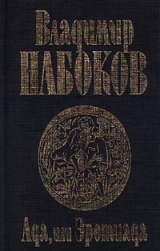
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Поскольку первый любоцвет, который я посетил, едва став членом Клуба Вилла Венера (незадолго перед вторым моим летом с Адой средь ардисовских кущ), теперь, претерпев немало житейских злоключений, стал загородной виллой одного весьма мной уважаемого чузийского дона и его милейшего семейства (очаровательной супруги и прелестных двенадцатилетних дочек-тройняшек по имени Ала, Лола́ и Лалага – особенно хороша Лалага), не стану называть, где это, – хотя дражайшая моя читательница уверяет, что я таки упоминал этот дом несколько выше.
С шестнадцати лет я уж был частым посетителем борделей, но хотя иные из самых лучших, в особенности те, что во Франции и в Ирландии, обозначались тройным красным значком в путеводителе Нагга, ничто в них не могло сравниться с роскошью и блаженством, испытанными мною на первой моей Вилле Венера. Разница как между раем и сараем.
Три матроны-египтянки, послушно державшиеся в профиль (удлиненный эбеновый глаз, очаровательный вздернутый носик, заплетенная в косы черная грива, медово-золотистая фараонова тога, африканские браслеты, рассеченная прядью конского волоса серьга из дутого золота, индейская повязка вкруг лба, на груди накладка с орнаментом), любовно заимствованные Эриком Вином с репродукции какой-то фивейской фрески (несомненно, крайней банальщины для 1420 г. до н. э.), отпечатанной в Германии (Künstlerpostcarte[343]343
Серийная почтовая художественная открытка (нем.).
[Закрыть] № 6034, по утверждению циничного д-ра Лагосса), с помощью методики, которую томящийся Эрик именовал «изощренным воздействием рук на некоторые нервные центры, местонахождение и скрытая сила которых известны лишь немногим сексологам древности», сопровождаемой не менее изощренным втиранием некоторых мазей, не слишком явно упомянутых в порноанналах Эриковой «Ориенталии», подготовили меня для священного приятия юной девственницы из ирландского королевского рода, как было наказано Эрику в последнем его сне в швейцарском Эксе неким магистром скорее похоронных, нежели похотливых дел.
Все эти приготовления текли в непрерывной, такой невыносимо сладостной размеренности, что и Эрику, испускавшему дух в своем сне, и Вану в гадкой яви на кушетке в стиле рококо (в трех милях от Бедфорда) казалось совершенно непостижимым, как умудряются три эти молодые особы, внезапно оказавшиеся без одежд (известный дрёмоэротический эффект), так растягивать предвосхищение, невыразимо долго удерживая клиента на самой грани разрешения. Я распростерся недвижим, чувствуя, как делаюсь вдвое длинней (дебри бреда – в науке аукнется!), когда шестерка нежных ручек попыталась пристроить la gosse[344]344
Девочку (фр.).
[Закрыть], дрожащую Ададу, на устрашающего вида член. Дурацкая жалость – чувство, которое мне редко присуще, но желание тут же спало, я велел унести ее и щедро потчевать пирожными с персиками и сливками. Египтянки были явно разочарованы, но довольно скоро воспряли духом. Я востребовал всех двадцать обитательниц этого гарема (включая прелестницу с манящими губками и гладеньким подбородочком) пред свои вновь алчущие очи. После тщательного осмотра, долго лаская взглядом ляжки и шеи, я выбрал наконец златовласку Гретхен, бледную андалузку и черную красотку из Нового Орлеана. Служанки набросились на них, как пантеры, и, отглянцевав не без лесбийского сладострастия, направили всех трех несколько приунывших граций ко мне. Полотенце, протянутое мне, чтоб утереть пот, покрывший лицо и склеивавший веки, могло быть и почище. Я прикрикнул на них, заставил, черт побери, рвануть настежь плохо прикрытую створку окна. Грузовичок застрял в грязи посреди забытой, недостроенной дороги, рев мотора и тщетность потуг тонули в загадочном мраке. Лишь одна из девочек задела меня за живое, но я мрачно и неторопливо обрабатывал каждую, «переходя от губ к губам посреди потока» (как советовал Эрик), но неизменно кончал, лишь слившись с жаркой андалузкой, сообщившей мне при расставании после прощальной встряски (хотя неэротическое общение было вопреки правилам), что ее отец проектировал бассейн в поместье кузена Демона Вина.
Потом все кончилось. Грузовичок уехал или затонул, и Эрик лежал скелетом в самом фешенебельном уголке кладбища в городке Экс («В конечном счете все кладбища становятся „экс“ – как заметил один веселый священник-„протестант“»), где-то между неизвестным альпинистом и моим мертворожденным двойником.
Черри, юный шропширец лет одиннадцати-двенадцати, единственный мальчик в очередном нашем (американском) любоцвете, имел внешность такую забавную – рыжий, курчавый, с мечтательным взором и тугими, как у эльфа, щечками, – что две изысканно спортивного стиля куртизанки, развлекавшие Вана, убедили его в одну из ночей попробовать мальчугана. Их объединенные усилия, однако, не сумели возбудить прелестного содержанца, утомившегося от недавних многочисленных востребований. Его девичья попка оказалась до плачевности обезображена и вся цвела от захватов грубыми клешнями и щипков; но хуже всего было то, что отрок не мог сдержать острейшего расстройства пищеварения, явившегося, несомненно, результатом чрезмерного увлечения незрелыми яблоками и отмеченного пренеприятными дизентерийными симптомами, отчего поршень любовника окрашивался в горчичный цвет вперемешку с кровью. В конце концов мальчика пришлось то ли пристрелить, то ли куда-то деть.
Собственно говоря, пополнение мальчиками следовало прекратить. Знаменитый французский любоцвет так и не воспрял после того, как граф Лангбурнский застал своего выкраденного сынка, зеленоглазого, хиленького фавненочка, в момент осмотра неким ветеринаром, коего граф тут же по ошибке и пристрелил.
В 1905 году Виллу Венеру постиг удар по касательной и совсем с другой стороны. Персонаж, которого мы назвали Ритков, или Вротик, вынужден был по старости и немощи прекратить свое покровительство заведению. Однако как-то раз ночью внезапно он заявился туда, свеж, точно пресловутый огурчик; но после того как весь персонал его любимого любоцвета в окрестностях Бата без устали тщетно трудился над ним до тех пор, пока не взошел на привычном, как будни молочника, небе ироничный Геспер{109}, посрамленный властелин половины земного шара запросил Перламутрово-Розовую Книгу и записал в ней фразу, что некогда изрек Сенека:
и, рыдая, удалился. Примерно в то же время одна почтенная лесбиянка, заправлявшая Виллой Венерой в Сувенире, восхитительном Миссурийском курорте, собственными руками (а она была российской чемпионкой в тяжелом весе) задушила двух своих самых красивых и наиболее ценных подопечных. Все это было довольно-таки грустно.
Едва лишь начавшись, вырождение клуба развивалось до удивления стремительно и по нескольким автономным направлениям. Оказалось, что девушки с безупречным происхождением разыскиваются полицией и что они либо любовницы бандитов с квадратными подбородками, либо сами преступницы. Врачи-взяточники допускали к службе крашеных блондинок, нарожавших уже с полдюжины детей, и сами уж были не прочь открыть где-нибудь в глуши свой собственный любоцветик. Талантливейшие косметички омолаживали сорокалетних матрон до такой степени, что ни по виду, ни по запаху их было не отличить от школьниц, едва вступающих в жизнь. Джентльмены знатного происхождения, кристально честные мировые судьи, кроткие ученые мужи на поверку оказались так резво охочими к совокуплению, что иных их малолетних жертв пришлось госпитализировать и затем переместить в обычный публичный дом. Неизвестные покровители куртизанок подкупали медицинских инспекторов, а Раджа Кашу (самозванец) подхватил венерическую болезнь от праправнучки императрицы Жозефины (подлинной). Одновременно и экономические напасти (оставшись вне финансового или мировоззренческого кругозора Вана с Демоном, однако задев многих из их круга) начали ограничивать эстетические возможности Виллы Венера. Выскакивали из розовых кустов, размахивая яркими журнальчиками, омерзительные сутенеры с услужливой ухмылочкой, обнажавшей дырки между гнилыми зубами, начались пожары и землетрясения, и совершенно неожиданно из сотни уникальных палаццо осталась всего лишь дюжина, да и те вскоре скатились до уровня дешевого борделя, так что к 1910 году все останки с английского кладбища в Эксе пришлось свезти в одну общую могилу.
Ван никогда не сожалел о последнем визите на последнюю Виллу Венеру. Свеча, противно оплавившись кочаном цветной капусты, мерцала в жестяном подсвечнике на подоконнике рядом с похожей на завернутую гитару охапкой длинных роз в бумаге, которым никто не удосужился или не смог подыскать вазу. На кровати, несколько поодаль, согнув ногу в колене и рукой почесывая буревшую промежность, лежала и курила беременная женщина, глядя вверх на дым, вливавшийся в тени на потолке. Вдали за ее спиной и за раскрытой настежь дверью виделось то, что можно было бы принять за залитую лунным светом галерею, но на самом деле то была заброшенная, полуразрушенная, просторная приемная зала с трещиной в наружной стене, зигзагообразными проломами в полу и с черным, застывшим как привидение, раскрытым роялем, который будто сам по себе издавал в ночи струнами призрачные глиссандо. Сквозь огромный пролом в кирпичной, оштукатуренной, отделанной мрамором стене открывшееся море, не видимое, но слышимое, как томящееся, отделенное от времени пространство, уныло шумело, уныло оттаскивало свой улов гальки, и, принося эти шершавые звуки, вялые порывы ветра накатывали в комнаты, не замкнутые стенами, всколыхивая тень на потолке над женщиной, облачко пыльных хлопьев, медленно оседавших на ее бледный живот, и даже отблеск свечки в треснутой раме голубоватой створки окна. Под ним, на трущей спину кушетке, полулежал Ван, задумчиво что-то выговаривая, задумчиво лаская прелестную головку у себя на груди тонувшей в потоке своих черных волос младшей сестрички или кузинки гнусной Флоринды со смятой постели. Дитя замерло, прикрыв глаза, и каждый раз, когда он целовал влажные выпуклые веки, ритмичное дыхание ее незрячих грудок прерывалось или останавливалось вовсе, потом возобновлялось снова.
Его мучила жажда, но шампанское, которое он купил вместе с этими чуть шуршащими розами, стояло неоткупоренным, а ему не хотелось отнимать милую шелковистую головку от груди, чтобы взяться за грозившую пальнуть бутылку. В эти последние десять дней он нежил и осквернял дитя многократно, хотя не мог точно сказать, действительно ли ее зовут Адора, как утверждали все, – она сама, другая девица и еще одна, третья (служанка, княжна Качурина), которая, словно родившись в своем линялом купальнике, так и не снимала его ни разу и, несомненно, в нем и умрет, даже не дождавшись своего совершеннолетия или же первой по-настоящему холодной зимы – на том самом пляжном лежаке, на котором постанывает сейчас под наркотическим дурманом. Но если девочку и впрямь зовут Адорой, кто же она такая? – не румынка, не далматинка, не сицилианка, не ирландка, хотя легкий акцент в ее почти родном английском таил в себе некий зародыш плутовства. Сколько ей, одиннадцать или четырнадцать, а может, и все пятнадцать? И впрямь ли родилась в этот день – двадцать первого июля, в тысяча девятьсот четвертом, или восьмом, или даже еще позднее, на скалистом средиземноморском острове?
Где-то далеко-далеко церковные часы, слышимые только в ночи, пробили два раза, добавив четвертинку.
«Smorchiama la secandela[346]346
Задуем свечу (ит., диал.).
[Закрыть]», – буркнула с кровати сводня на местном диалекте, который Ван понимал лучше, чем итальянский. Дитя в его объятиях встрепенулось, и он накинул на нее свой оперный плащ. В источавшей мерзкий сальный дух темноте блеклый отблеск луны застыл на каменном полу рядом с его навсегда сброшенной полумаской и ногой в бальной лакированной туфле. То не был Ардис, то не была библиотека, то не была даже людская, то был просто жалкий приют, где спал вышибала, после возвращаясь к обязанностям тренера по регби в частной средней школе где-то в Англии. Огромный рояль уже в ином пустом зале, казалось, играет сам по себе, хотя на самом деле по струнам бегали крысы, чтоб подобрать что-то съедобное после горничной, тщившейся музицировать, когда первый привычно острый укол пораженной раком матки поднимал ее с постели на рассвете. Разрушенная Вилла уже не походила больше на «воплощенную мечту» Эрика, но нежное маленькое создание, которую Ван в отчаянии сжимал в объятиях, была Ада.
Что такое сны? Произвольная последовательность картин, тривиальных и трагичных, живых и статичных, придуманных и известных, отражающих более или менее вероятные при обилии гротескных подробностей события и меняющих состав умерших персонажей в новых декорациях.
Оценивая более или менее памятные сны, являвшиеся мне в последние девять десятков лет, могу разбить их тематически на несколько категорий, две из которых по своей сновидческой отчетливости превосходят остальные. Я имею в виду сны профессиональные и сны эротические. От двадцати до тридцати я видел и те и другие примерно с равной частотой; и те и другие предворялись аналогичными явлениями, бессонницами, вызванными либо десятичасовым разливом сочинительства, либо воспоминаниями об Ардисе, оживавшими с безумной силой при любой жизненной неурядице. После работы я посягал на могущество мозговой инерции: немыслимо было остановить часами тьмы и терзаний поток творчества, напор фразы, требующей отделки, и пусть в своих усилиях я добивался какого-то успеха, поток все продолжал бурлить и бурлить за стенкой, даже если я отключался, прибегнув к самогипнозу (ни усилием воли, ни глотанием пилюли сон вызвать не удавалось), сосредоточиваясь на ином образе или иных мыслях, только не на Ардисе, не на Аде, что означало бы грянуть в водопад еще более мучительного бодрствования, полного ярости и досады, желания и отчаяния, затягивавших в омут, в котором, измотавшись до изнеможения, я наконец и засыпал.
В профессиональных снах, которые особенно изводили меня, когда я работал над первым романом, в которых я презренно взывал к некой чахоточной музе («коленопреклонен, заламывая руки», как какой-нибудь диккенсовский Мармелад в потертых брючонках перед своей Мармеладушкой), мне могло привидеться, скажем, будто вношу правку в верстку, а книга будто бы (непостижимое «будто бы» наших снов!) уже вышла, была и «вся вышла», мне протягивает ее чья-то рука из мусорной корзины в ее законченном и в ужасающе «конченном» виде, с опечатками на каждой странице, скажем, ехидное «бабушка» вместо «бабочка» или неуместное «многоатомный» вместо «многотомный». Или: я спешу на собственную лекцию – и меня бесит, что преграждает путь столько машин, столько людей, как вдруг с внезапным облегчением я понимаю, ведь мне всего-навсего надо вычеркнуть в рукописи «запруженные улицы». Сны, которые я бы назвал «небоскопы» (не «небоскребы», как, вероятно, запишут две трети студентов), это некая разновидность моих профессиональных видений, или то, что можно рассматривать как вводную к ним часть, ведь именно на заре моего возмужания буквально ночи не проходило, чтобы какое-то давнее или свежее впечатление дня не обретало нежную глубокую связь с моим застывшим в немоте даром (ведь и он, и я «ван», что созвучно и на слух, и по смыслу единости английского «one» в более утопленном, менее двугубном русском выговоре Марины). Присутствие, или предвещание, творческого импульса в такого рода снах являлось мне в образе хмурых небес, покрытых облаками с многослойной подпушкой: недвижных, но светлеющих надеждой; безнадежных, но разжижающих сумрачность, обнажая живописными пятнами небесные просветы, и вот уж затуманенное солнечное сияние пробивается сквозь самый тонкий слой, но вмиг скрывается под напором облаков, так как я не был готов еще.
К профессиональным и творческим снам примыкают сны «о мраке и крахе»: кошмары-знамения; катаклизмы и катастрофы, зловещие загадки. Опасность нередко слишком скрыта от нас, и чистая случайность, если ее не пропустить, а потом о ней вспомнить, может вдруг обрести всю прелесть предвидения, что Данн{110} объяснял работой «обратной памяти»; но мне не хотелось бы сейчас распространяться о присущем снам моменте сверхъестественности, замечу только, что, если некий закон логики и установит число совпадений в определенной области, они перестанут быть совпадениями и вместо этого образуют живой организм новой истины («Скажите, – спрашивает Осберхова цыганочка мавров Эль Мотелу и Рамеру, – сколько всего на теле должно быть волосков, чтоб можно было назвать его волосатым?»).
В промежутке между «мраком и крахом» и до боли чувственными снами я бы поставил «сплавы» эротической нежности и пронзительного очарования, случайные frôlements[347]347
Касания (фр.).
[Закрыть] молодых незнакомок во время непонятных сборищ, призыв или покорность в полуулыбке – этом предвозвестнике или отголоске снов, полных терзающих раскаяний, в которых отплывает в немом укоре и тает перед глазами вереница Ад; и слезы, горше тех, что проливал я наяву, накатывают и жгут бедного Вана, и еще долго-долго будут возникать в памяти внезапно и необъяснимо.
Сексуальные сны Вана неловко описывать в семейной хронике, которую, возможно, прочтет самый желторотый потомок после смерти самого зажившегося предка. Достаточно привести два образчика, смягчив что возможно. В причудливой композиции тематически связанных воспоминаний и автоматически являвшихся снов, Аква в образе Марины или Марина, загримированная под Акву, является Вану, радостно его извещая, что Ада только что разрешилась девочкой, которую он уж готов чувственно познать на жесткой садовой скамье, тогда как под сосною рядом отец или мать его во фраке пытается дозвониться по трансатлантическому телефону, чтоб немедленно выслали из Венеции скорую помощь. Другой сон, повторявшийся в своей изначальной, не запомнившейся версии с 1888 года и вплоть до нынешнего столетия, имел в основе своей тройной и в некотором смысле лесбийский подтекст. Падшая Ада и любострастная Люсетт находят зрелый, очень зрелый початок индейской кукурузы. Ада держит его, как губную гармошку, губной орган, и вот уж это не орган, а о́рган, и она водит по нему полураскрытыми губами, полирует стержень, и, когда он под ее губами начинает вздрагивать, постанывая, Люсетт ртом подхватывает в себя его исход. Прелестные юные лица сестер алчно сближаются, затевая в раздумчивой печали медленную, даже ленивую, игру: вспыхивая огнем, тянутся друг к другу, утягиваются назад языки, растрепанные бронзово-рыжие и бронзово-вороные волосы восхитительно перепутываются, высоко вздымаются ладные задики – сестры жадно утоляют жажду из лужи его крови.
Хочу кое-что заметить по поводу общего характера снов. Одно из загадочных свойств – толпы абсолютно незнакомых людей с отчетливо видимыми, но после не встречаемыми лицами, они сопровождают, встречают, приветствуют меня, докучают длинными, нудными историями про других незнакомцев – и все это в знакомой обстановке и среди тех, умерших или живых, кого я хорошо знаю; или еще милые проделки кого-то из прислужников Хроноса – острейшее восприятие времени по циферблату, со всей мучительностью (возможно, маскируемой мучительными позывами мочевого пузыря) непоспевания никуда вовремя, с встающей перед глазами часовой стрелкой как реальным цифровым указателем и возможным техническим воплощением, но сопряженной – что самое любопытное – с крайне смутным и едва ли реальным ощущением упускания времени (эту тему я также приберегу для одной из последующих глав). Все сны возникают под воздействием опыта и впечатлений нашей действительности, а также воспоминаний детства; все они, в образах или ощущениях, отражают некий абрис, некий свет, добротное питание или же серьезный внутренний разлад. Пожалуй, самой типичной особенностью практически всех снов, обычных и необычайных, – причем, невзирая на явное и четкое, кусками ли, в отрывках, логическое (в определенных пределах) осмысление и осознание (нередко абсурдное) событий прошлых снов, – мои студенты должны бы были счесть гнетущее ослабление интеллектуальных способностей сновидца, которого отнюдь не приводит в трепет встреча с давно умершим приятелем. Наш сновидец в лучшем случае облачен в полупрозрачные защитные очки; в худшем страдает слабоумием. Группа (1891, 1892, 1893, 1894 и т. д. годов) прозорливо отметит (шелест тетрадей), что в силу самой своей природы, самой умственной посредственности и путаности сны не могут иметь ни малейшего сходства с моралью, или символом, или аллегорией, или греческой мифологией, если, конечно, сновидец не является греком или мифотворцем. Метаморфозы в снах столь же естественны, как метафоры в поэзии. Писатель, находящий сходство, скажем, между самим фактом более стремительного, в сравнении с памятью, ослабления воображения и грифелем карандаша, который расходуется медленней, чем стирающий наконечник, сравнивает два реальных, конкретно существующих явления. Мне повторить рассуждение? (Крики «да! да!») Так вот, карандаш, который я держу в руке, все еще достаточно длинный, хотя я им немало поработал, а ластик у него на конце практически весь стерт, поскольку я им пользовался слишком часто. Мое воображение все еще мощно и активно, но моя память все слабей и слабей. Я сравниваю реальное ощущение с состоянием реального общеупотребимого предмета. Они не являются символами друг друга. Аналогично: если остряк из чайной заявляет, будто тартинка конусом, доконченным комичной ягодкой, похожа, дескать, на кое-что (хихиканье в аудитории), он из персикового бисквита сотворяет персиковые перси (бурное веселье) в витийском перевитии витиеватого слога (молчание). Оба предмета реальны, они не взаимозаменяемы, они ничего иного – к примеру, обезглавленного Уолтера Рейли{111} с изваянием его кормилицы поверху – собой не символизируют (одинокое фырканье). Теперь об ошибке: невежественность, нелепость и вульгарность ошибки аналитиков из Зигни-Мондьё состоит в их трактовке реального предмета, будь это помпон или помидор (явственно явившиеся пациенту во сне), как его многозначительной абстракции, подразумевающей коридор и плафон или располовиненный бюст, если вы уловили, куда я клоню (разрозненные смешки). Присутствие какой бы то ни было символики или иносказания исключено и в галлюцинациях деревенского юродивого, и в последнем сновидении каждого в этой аудитории. В этих произвольных видениях ничто – подчеркните «ничто» (скрежет горизонтальных прочерков) – не может считаться подвластным расшифровке какого-нибудь знахаря, который сможет благодаря этому излечить безумца или облегчить терзания убийцы, возложив вину на слишком любящего, слишком жестокого или слишком равнодушного родителя, – эти тайные гнойники участливый надувала готов исцелить гноем своих поборов за каждую исповедь (смех и аплодисменты).