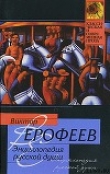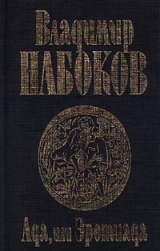
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Одна заманчивая проблема требовала присутствия д-ра Вина в Англии.
Старик Паар Чузский написал ему в письме, дескать, «клинике» было бы желательно, чтоб он занялся исследованием уникального случая хромэстезии, однако в виду кое-каких отдельных привходящих моментов (например, слабой вероятности симуляции) Вану стоит приехать, чтоб на месте решить, так ли уж важно самолетом переправлять пациента в Кингстон для дальнейшего обследования. Как выяснилось, некому Спенсеру Малдуну, субъекту сорока лет, слепому от рождения, не имевшему ни жены, ни друзей, а также третьему незрячему персонажу этой хроники, во время сильнейших приступов паранойи являлись галлюцинации, и он выкрикивал названия тех предметов и явлений, какие научился узнавать осязательно, или тех, что рисовались в воображении страхом услышанного (падающие деревья, ископаемые ящеры), но теперь надвигались со всех сторон, после чего возникал период ступора, неизменно заканчивавшийся переходом в нормальное состояние, и тогда неделю-другую Малдун листал книжки для слепых или в блаженстве сомкнутых красных век слушал музыкальные записи, пенье птиц и ирландскую поэзию.
Его способность дробить пространство, словно повторяемостью рисунка обоев, на горизонтали и вертикали «сильных» и «слабых» субстанций, оставалась никому не известной, пока однажды вечером один аспирант (пожелавший так и остаться «асп.»), желая прочертить кое-какие графики, характеризующие метабазис другого больного, оставил где-то под руками у Малдуна продолговатую коробку с новенькими, разноцветными, еще не зачиненными меловыми карандашами, само лишь название которых («Розовая анадель Диксона») окрашивало воображение в радужные тона, поскольку в уютном жестяном вместилище эти яркие, отлакированные деревянные карандаши выложены радужным спектром. Не то было детство у бедняги Малдуна, чтоб откликнуться на этакий ярко переливчатый призыв, но, едва пытливые пальцы, открыв коробку, прошлись по карандашам, бледное, точно пергамент, лицо просияло явным чувственным наслаждением. Заметив, что брови слепца приподнялись слегка на красном, сильней – на оранжевом, еще сильней, сопровождаясь пронзительным вскриком, – на желтом, потом принялись опускаться на прочих цветах спектра, асп. походя заметил ему, что деревяшки окрашены в разные цвета – «красный», «оранжевый», «желтый» и т. д., и так же походя Малдун, вторя ему, сказал, что и на ощупь они разные.
В ходе тестов, проводимых асп. с коллегами, Малдун объяснял им, что поочередное касание карандашей отдается в нем звукорядом «жалозвонов», особых ощущений, напоминающих звон в ушах от прикосновения кожи к жгущей крапиве (он вырос в деревне где-то между Орма и Арма и в своем полном опасности детстве не раз, бедняга, спотыкался в тяжелых своих ботинках и падал в канавы и даже в овраги), и еще поведал с ужасом о «сильном» зеленом жалозвоне от листка зеленой промокашки, а также о влажном слабом розовом жалозвоне от прикосновения к потному носу медсестры Лангфорд, причем эти оттенки пациент выверял самостоятельно по названным аспирантами в связи с карандашами цветам. В результате всех этих тестов напрашивался вывод, что пациент кончиками пальцев сообщает мозгу «тактильную транскрипцию призматического спектра», как выразился Паар в своем обстоятельном послании Вану.
По приезде последнего оказалось, что Малдун не полностью вышел из состояния ступора, оказавшегося значительно длиннее предыдущего. Надеясь, что завтра осмотрит пациента, Ван провел восхитительный день в дискуссиях с рядом заинтересованных коллег, с любопытством узрев меж медсестер знакомый прищур Элси Лэнгфорд, поджарой девицы с лихорадочным румянцем и длинными зубами, имевшей неопределенное касательство к истории с «полтергейстом» в ином медицинском заведении. Пригласив Чуза отужинать к себе в апартаменты, Ван сказал, что лучше бы беднягу, едва можно будет его транспортировать, переправить в Кингстон непременно с мисс Лэнгфорд. Но бедняга в ту же ночь скончался во сне, оставив явление так и не разгаданным и при явном ореоле неправдоподобия.
Ван, в котором розовый дым вишневого цветения неизменно возбуждал состояние влюбленности, решил потратить кучу внезапно образовавшегося времени перед отъездом в Америку на двадцатичетырехчасовой курс лечения на самой модной и наиболее чудодейственной в Европе Вилле Венера; однако за долгий путь в древнем, обитом плюшем, источавшем слабые ароматы (мускус? турецкий табак?) лимузине, который он, как всегда, нанял для поездок по Европе в «Албании», обычно предпочитаемом в Лондоне отеле, иные тревожные, хоть и не вседовлеющие чувства примешались к тупому вожделению. Мерно покачиваясь в автомобиле – ноги в домашних туфлях на удобной подставке, рука в приоконной шлейке, – Ван вспоминал первую свою поездку в Ардис, пытаясь сделать то, что иногда сам рекомендовал пациенту для тренировки «мускулов сознания», а именно: заставить себя погрузиться в прошлое, не просто вернуться в строй мыслей, что предшествовал радикальной перемене в жизни, но в состояние полного неведения относительно самой перемены. Ван понимал, что это невозможно, что ничего, кроме упорных попыток, у него не получится, ведь не запомнил бы он всей прелюдии к Аде, не переверни жизнь очередную страницу и не заставь новые горящие слова воссиять в памяти сквозь все времена. Интересно, вспомнит ли он когда и эту ничем не примечательную поездку. Эту позднюю весну в Англии с застывшими в вечернем небе литературными ассоциациями. Встроенный канореон (старомодное музыкальное устройство, лишь недавно упраздненное смешанной англо-американской комиссией) передавал душещипательную неаполитанскую песню. Что он? Кто он? Почему он? Ван размышлял над своей нерадивостью, несуразностью, душевной заброшенностью. Над своим одиночеством и о страстях и опасностях, с ним сопряженных. Смотрел через стеклянную перегородку на жирные, налитые здоровьем, основательные складки на загривке у шофера. Не званные, текли чередой лица: Эдмунд, Эдмонд, незатейливая Кордула, фантастически запутанная Люсетт и дальше автоматически, по ассоциации, порочная девчонка из Канн по имени Лизетт с грудками, точно два хорошеньких нарывчика, чьими хрупкими прелестями в передвижной купальне распоряжался здоровенный вонючий братец.
Ван выключил канореон и вынул себе бренди из-за отдвижной панели, отпил прямо из бутылки, так как все три стакана были немыты. Ощутил себя будто в кольце валящихся вековых деревьев и диких чудовищ – олицетворения недостигнутых или недостижимых задач. Одной из них была Ада, от которой, он знал, не отступится никогда; ей при первом же трубном гласе судьбы он сдаст всего себя без остатка. Второй был его философский труд, столь странно тормозимый его же сильной стороной – оригинальностью литературного стиля, которым-то и выражена единственная и неприкрытая правдивость автора. Надо было все писать по-своему, но коньяк оказался чудовищен, и история мысли ощетинилась штампами, но именно эту историю ему и предстояло одолеть.
Ван понимал, что он не вполне ученый муж, однако художник до мозга костей. Парадоксальным и ненужным образом это проявилось в его «научной карьере», в его небрежно-высокомерном чтении лекций, в его ведении семинаров, в его опубликованных докладах о расстроенности ума, так что, начав этаким вундеркиндом, когда ему не было еще и двадцати, уже к тридцати одному году Ван достиг «почестей» и «положения», каких многие неимоверно трудолюбивые ученые не достигают и к пятидесяти. В самые черные моменты – как теперь – он объяснял, хотя бы частично, свой «успех» своим происхождением, достатком, многочисленными пожертвованиями, которые (как бы в развитие чрезмерного одаривания им неимущих и нищих, прибиравших номера, водивших лифты, улыбавшихся ему в коридорах отелей) он потоком обрушивал на нуждающиеся учебные заведения, на их учащихся… Возможно, Ван Вин не слишком заблуждался в своих мрачных догадках; ибо на нашей Антитерре (да и, судя по его трудам, на Терре тоже) всякое сверх меры усердное руководство, если только не тронуть ему душу внезапно возведенным новым зданием или бурным потоком финансовой помощи, предпочтет безопасную серую ученую посредственность подозрительной яркости всякого В.В.
Под соловьиные трели Ван прибыл в сказочно-постыдное место своего назначения. Как обычно, он испытал прилив похотливого возбуждения, едва автомобиль въехал в дубовую аллею меж двух рядов жизнерадостных статуй с фаллосами «на караул». Желанный завсегдатай вот уж пятнадцать лет, он даже не удосужился «протелефонировать» (новый общепринятый термин) о своем приезде. Его хлестнуло лучом прожектора: увы, нынче ночью у них гала-представление!
Обычно члены клуба велели шоферам припарковываться на специальной стоянке рядом с караульной, где оборудовалась приличная закусочная для прислуги с безалкогольными напитками и парой недорогих и непритязательных шлюшек. Но в эту ночь громадные полицейские машины заполнили гаражные отсеки, наводнив даже близлежащую рощицу. Велев Кингсли немного подождать под дубами, Ван, надев bautta[464]464
Маску-«домино» (ит.).
[Закрыть], отправился на разведку. Любимая, в окружении стен, дорожка вскоре вывела его к широкой поляне, зеленым бархатом ведущей к большому дому. Повсюду горели веселые фонари и было многолюдно, как на Парк-авеню, – сравнение явилось тотчас, так как методы маскировки здешних хитроумных сыщиков были того же свойства, что у него на родине. Кое-кого из этих типов Ван даже внешне узнал – они патрулировали у отцовского клуба в Манхэттене всякий раз, когда славный Гамалиил (не переизбранный на четвертый срок), пребывая в состоянии скрытого от общественности слабоумия, там ужинал. Агенты изображали то же, что и обычно, – торговцев грейпфрутами, черномазых лавочников, предлагавших бананы и банджо, допотопных, или по крайней мере неуместных, «переписчиков бумаг», семенивших кругами к подозрительного вида конторам, а также неустанно передвигающихся читателей русских газет, притормаживающих на миг в отрешенности и снова, прикрывшись широко развернутой газетой «Эстотийскiя вести», продолжающих движение. Ван вспомнил, что г-н Александер Скрипатч, нынешний президент Объединенных Америк, родом из восторженных русских, как раз прилетел в Англию на встречу с королем Виктором; и не без оснований решил, что эти оба тоже здесь где-то в толпе.
Комизм узнаваемости агентов (что хоть и отвечало их допотопному взгляду на тротуарный надзор, но смотрелось нелепо здесь, в ярко иллюминированных лабиринтах английских оград) смягчал крайнее разочарование Вана, которого уж мысль, что придется заняться шалостями с этими историческими персонажами или довольствоваться бравыми девицами, каких те попробовали и забраковали, приводила в жестокое содрогание.
Тут замотанная в простыню статуя попыталась было испросить у Вана пароль, да, поскользнувшись на мраморном пьедестале, рухнула навзничь в папоротники. Проигнорировав ползающее божество, Ван вернулся ко все еще весело урчащему «джоллс-джойсу». Багровощекий Кингсли, старый испытанный друг, предложил отвезти его в другое заведение, миль девяносто к северу; однако Ван из принципа отказался и был отвезен обратно в «Албанию».
53 июня в 5 часов утра корабль Вана отплыл из Гавр-де-Грас; вечером того же дня в Олд-Хэнтспорте Ван взошел на его борт. Большую часть дневного времени он играл в теннис с Делорье, известным чернокожим тренером, а потом в дремотном отупении следил, как с дальнего ската носовой волны жаркое клонящееся солнце высвечивает золотисто-изумрудными пестринками змеистую морскую дорожку к правому борту. Решив наконец отправиться спать, Ван спустился на палубу первого класса, вкусил кое-что из фруктового натюрморта, приготовленного ему в его гостиной, попытался просмотреть в постели гранки эссе, написанного им к торжествам по случаю восьмидесятилетия профессора Антикамушкина, оставил это занятие и погрузился в сон. К середине ночи разыгрался буйный шторм, но, невзирая на ныряния и скрипы («Тобакофф» был стар и измучен жизнью), Ван умудрился спать крепким сном, и спящее его сознание откликнулось лишь приснившимся водоплавающим павлином, сперва медленно погружавшимся и вдруг, прямо у берега озера, Ванова тезки, в древнем королевстве Маранта, изобразившим кульбит наподобие нырка птицы-чомги. Потом, вспоминая этот яркий сон, Ван вывел его истоки из недавнего посещения Армении, где охотился на дичь с Армборо и с чрезвычайно уступчивой и искусной племянницей этого джентльмена. Пожелав записать этот сон, он был позабавлен тем, что все три его карандаша не просто исчезли со столика у кровати, но, в своем прерванном бегстве проделав немалый путь по голубому ковру, лежат вытянувшись в ряд на полу вдоль двери в прилегавшую комнату.
Стюард принес ему «континентальный» завтрак, судовую газету и список пассажиров первого класса. В рубрике «Туризм в Италии» газетенка извещала, что некий крестьянин из Домодоссолы наткнулся в земле на останки и сбрую Ганнибалова слона и что двое американских психиатров (имена не названы) скончались при странных обстоятельствах на ранчо в Бакалетто: старший умер от сердечного приступа, а его юный дружок покончил жизнь самоубийством. Подивившись нездоровому пристрастию «Адмирала» к горным прелестям Италии, Ван вырезал заметку и взялся за список пассажиров (красиво возглавленный той же геральдикой, что красовалась на почтовой бумаге Кордулы), проверить, нет ли в нем кого, с кем от встреч на ближайшие дни стоит воздержаться. В списке значились Робинсоны, Роберт и Рейчел, давно известные зануды (Боб, много лет возглавлявший одну из контор дядюшки Дэна, теперь удалился на покой). Блуждающий по списку взгляд Вана подплыл к «Д-ру Ивану Вину» и застыл на имени, шедшем вслед за ним. Отчего сжалось его сердце? Почему внезапно пересохло во рту? Это пустые шаблоны, приставшие достойным романистам прежних лет, полагавшим, что все умеют объяснить.
Уровень воды в его ванной, колеблясь, перекашивался, повторяя медленное качание ярко-голубого, в белых крапинках, моря в иллюминаторе его спальни. Он позвонил мисс Люцинде Вин, чья каюта находилась в середине судна на верхней палубе, как раз над ним; но трубку никто не взял. Надев белый свитер-поло и темные очки, Ван отправился ее искать. Ее не оказалось на спортивной палубе, откуда сверху вниз он увидал другую рыжую головку в холщовом шезлонге на солнечной стороне: с захватывавшей дух скоростью эта особа строчила письмо, и Вану подумалось, если когда-либо он переключится с тяжелой казуистики на легкую беллетристику, то использует образ ревнивца-мужа, наблюдающего издалека в бинокль за таким вот потоком неприкрытых чувств.
Ее не было и на прогулочной палубе, где укутанные в одеяла старики и старушки, поджидая с предвкушающим утробным урчанием одиннадцатичасового бульона, почитывали «Зальцмана», бестселлер номер один. Ван заглянул в гриль-бар, заказав там столик на двоих. Пройдя к стойке бара, тепло поздоровался с лысым толстяком Тоби, служившим на «Королеве Джиневре» в 1889 и 1890 и в 1891, когда та еще не была замужем, а он был мстительный идиот. Ведь могли бы вместе улизнуть в Лопадузу под именами мистера и миссис Диарс или Сарди!
Он настиг их единоутробную сестрицу в носовой части верхней палубы, угрожающе прелестную в открытом ярком, цветастом, волнуемом ветром платье и беседующую с покрытыми бронзовым загаром, хотя заметно сдавшими Робинсонами. Она повернулась к нему, смахивая летящие пряди с лица, со смешанным выражением триумфа и робости, и они тут же покинули Рейчел с Робертом, заулыбавшимся им вслед, одинаково маша руками ей, ему, жизни, смерти, счастливому старому времени, когда Демон оплатил все картежные долги их сына, как раз перед тем, как тот погиб за рулем в лобовом столкновении.
Она с удовольствием расправилась со своими пожарскими котлетами: он не упрекал ее, что внезапно трансформировалась (в трансатлантическом направлении) как какая-нибудь безбилетница; в своем стремлении к нему она едва позавтракала, после того как накануне и не ужинала вовсе. Она, занимавшаяся подводным плаваньем и обожавшая океанские перепады и впадины, любившая, летая в самолете, вздымания и ямы, здесь, на борту первого в своей жизни океанского корабля, постыдно страдала от морской болезни. Но Робинсоны дали ей чудное средство, она проспала десять часов, и все это время в объятиях Вана, и теперь надеялась, что оба они, он и она, достаточно бодры, не считая еле заметного последствия таблетки.
Очень любезно Ван осведомился, соображает ли она, куда направляется.
С ним в Ардис – был стремительный ответ – навеки, навеки! Дед Робинсона умер в Аравии в возрасте ста тридцати одного года, так что у Вана впереди еще целое столетие, она воздвигнет ему в парке несколько павильонов, чтоб разместить там его нескончаемые гаремы, которые постепенно, один за другим, превратятся в дома для престарелых дам и затем в мавзолеи. У нее, сказала она, в каюте-люкс, «которую сумела в момент у них выцыганить», над кроватью милой Кордулы и ее Тобака висит картина «Том Кокс на Бледном Огне{152}» – эпизод скачек; интересно, какое воздействие оказывает это на постельные страсти Тобаков во время морских путешествий. Ван прервал нервозную трескотню Люсетт вопросом: что, краны у нее в ванной снабжены теми же надписями, как у него – «Горячая бытовая», «Холодная соленая»? Да, вскричала она, «Голодная соленая», «Голодный Зальцман», «Пылкая горничная», «Бесстрастный капитан»!
Снова они встретились днем.
Большинство привилегированных пассажиров лайнера «Тобакофф», находившегося днем 4 июня 1901 года в центре Атлантики на широте Исландии и долготе Ардиса, видно, не испытывали желания порезвиться на свежем воздухе. Знойное кобальтовое небо по-прежнему взрывалось леденящими порывами ветра, и старомодный бассейн то и дело плескался волной о зеленый кафель, но Люсетт была девушка закаленная, привыкшая и к крутым ветрам не меньше, чем к нестерпимому зною. Весна в Фиальте{153} и жаркий май на Минотавре, прославленном искусственном острове, покрыли ее тело персиковым загаром, который при окатывании водой глянцевито блестел, но едва кожу обдавало ветерком, она вновь принимала свой естественный вид. Пылая щеками, искрясь медью из-под плотно надвинутой на лоб и затылок резиновой шапочки, она походила на Ангела в Шлеме с Юконской иконы, обладавшей, как поговаривали, магическим свойством обращать худосочных блондинок в конскiя дети, в конопатых рыжих парней, приплод Солнечной Кобылицы.
После короткого заплыва она вернулась на солнечную палубу, на которой лежал Ван, со словами:
– Ты представить не можешь – («Нет такого, чего бы я не мог себе представить!» – возразил он), – ну хорошо, так представь, сколько втиралось лосьонов, сколько вмазалось мазилок в эту кожу – на недоступных взорам балконах и в уединении морских пещер, – прежде чем я позволила себе подставить тело стихиям. Я вечно балансирую на грани загореть-сгореть – или лобстер-Obst[465]465
Фрукты (нем.).
[Закрыть], по выражению моего любимого художника Герба, – как раз читаю его дневники, изданные его последней герцогиней, они на перевитом триязычии, прелестные, дам тебе почитать. Видишь ли, дорогой, я сочла бы себя пятнистой обманщицей, если б то немногое, что я не выставляю напоказ, не совпадало бы по цвету с обозреваемым.
– При обзоре в 1892 году, помнится, ты была с ног до головы песочного оттенка! – заметил Ван.
– Теперь я совершенно другая! – прошептала она. – Новая и счастливая! С тобой наедине на заброшенном в океане корабле, и впереди еще дней десять как минимум до очередных месячных. Я послала тебе в Кингстон глупую записку, на всякий случай, вдруг ты не объявишься.
Они лежали теперь в симметричных позах лицом к лицу на матах у края бассейна: он – подперев щеку правой рукой, она – привалившись на левый локоть. Бретелька зеленого купальника съехала с нежного плечика, видны были капли и струйки воды у основания соска. Пропасть в несколько дюймов отделяла его джерси от ее живота, черную шерсть его брюк от промокшей зеленой маски на лобке. Солнце глянцевило ей бедро; притененная впадинка вела к шраму пятилетней давности, следу удаления аппендикса. Ее полуприкрытый взгляд тяжело и по-темному страстно остановился на Ване, и она права была, они были здесь совершенно одни; он овладел Мэрион Армборо за спиной ее дядюшки в куда более сложных обстоятельствах, при том что катерок подпрыгивал, как летучая рыба, а у хозяина рядом с рулем лежал карабин. Ван без особой радости, мрачно сетуя, что не поистратил пыл на Вилле Венера, ощутил, как жирный змей желания поднял тяжелую голову. Позволил ее руке слепо скользить по его бедру, кляня природу, что всадила мужчине в промежность сучковатое древо, исходящее гнусным соком. Внезапно Люсетт отпрянула, выдохнув благовоспитанное: «merde»[466]466
Черт побери (фр.).
[Закрыть]. Оказалось, Эдем наводнен людьми.
К бассейну с веселым криком бежали двое полуголых детишек. Вслед неслась негритянская нянька, грозно потрясая махоньким купальным лифчиком. Из воды с фырканьем невесть как материализовалась лысая голова. Из раздевалки появился тренер по плаванию. Одновременно высокая, роскошная дива со стройными ногами при омерзительно увесистых бедрах прошла мимо Винов, едва не наступив на усеянный изумрудами портсигар Люсетт. Ее вытянутая, волнистая, цвета беж, спина была, не считая сверху выбеленной гривы и золотистой полоски лифа, полностью обнажена вплоть до вершин ее медленно и сочно вращавшихся ягодиц, на ходу выставлявших из-под блестящего ламэ исподний беж. Перед тем как свернуть за скругленный белый угол и скрыться, Тицианова титанка, слегка оборотив загорелое лицо, отчетливо бросила Вану: «Привет!»
– Кто сия пава (who's that stately dame)? – осведомилась Люсетт.
– Разве она не с тобой поздоровалась? – изумился Ван. – Лица я ее не разглядел, а по заду не узнал.
– Она одарила тебя щедрой улыбкой трущоб! – заметила Люсетт, поправляя зеленую купальную шапочку трогательно изящными движениями воздетых лопаток и трогательно посверкивая желтовато-бурым оперением подмышек.
– Пойдешь со мной, а? – спросила Люсетт, вставая с мата.
Глядя на нее снизу вверх, Ван мотнул головой и сказал:
– Ты поднимаешься словно Аврора!
– Первый его комплимент! – отметила Люсетт с многозначительным кивком, как бы призывая в свидетели невидимого слушателя.
Надев темные очки, он следил, как она встает на край прыжковой доски, как втягивает внутрь живот под резко проступившими ребрами, готовясь сорваться стрелой в янтарь бассейна. Мысленно спросил себя, в виде сноски, как бы просто так, – если темные очки, да и прочие приспособления для глаз, несомненно, искажают наше представление о «пространстве», не влияют ли они также и на манеру нашей речи. Две ладненькие девчушки, их нянька, похотливый водяной, плавательных дел мастер – все смотрели туда же, куда и Ван.
– А вот и второй комплимент! – сказал Ван, когда Люсетт вернулась к нему. – Ты – божественная прыгунья. Я, например, вхожу в воду с неуклюжим всплеском.
– Но ты быстрей плаваешь! – посетовала Люсетт, спуская бретели и ложась на живот. – Между прочим (by the way), правда ли, что моряков при жизни этого Тобакофф не учили плавать, чтоб смерть стала менее мучительной, если корабль идет ко дну?
– Возможно, простых моряков – нет, – сказал Ван. – Когда же сам мичман Тобакофф пережил крушение у Гавайя, он преспокойно плыл себе и плыл, отпугивая акул зычными старыми куплетами и всякой такой дребеденью, пока наконец его не подобрала рыбацкая лодка, – вот тебе одно из тех чудес, которое, на мой взгляд, возможно при минимальной спайке всех сопричастных.
Демон, сказала Люсетт, в прошлом году во время похорон поделился, что собирается купить остров в архипелаге Гавай («неисправимый мечтатель» – процедил Ван). Он «исторг фонтан слез» в Ницце, но рыдал еще пуще на предыдущей церемонии, в Валентине, где Марина также присутствовать не могла. Венчание – если угодно, по православному обычаю – напоминало плохое, фальшивое старое кино, батюшка – кретин, а дьякон – пьян, и – к счастью, пожалуй, – за плотной белой вуалью Ады, как под вдовьим трауром, оказалось совершенно не видно ее лица. Ван сказал, что слушать этого больше не желает.
– Нет уж, послушай! – парировала Люсетт. – Хотя бы потому (if only because), что один из ее шаферов (неженатых мужчин, которые поочередно держат венец над головою невесты) своей бесстрастностью в профиль и наглыми манерами (все норовил повыше задрать тяжелый металлический венец, так высоко вздымал его атлетическим жестом, словно нарочито хотел отвести подальше от ее головы) до того был похож на тебя, будто твой бледный, дурно выбритый двойник, посланец твой Бог весть откуда.
Из местечка с прелестным названием Агония, что в Терра дель Фуэго[467]467
Огненная Земля, Земля Огня (исп.).
[Закрыть]. Он ощутил ужасающий трепет, вспоминая, как, получив там приглашение на бракосочетание (отправленное воздушной почтой той самой жуткой жениховой сестрицей), несколько ночей не мог избавиться от вереницы кошмарных снов, с каждым разом становившихся все тусклее (как и воздействие фильма с нею, который он на дальнейшей стадии своей жизни все смотрел и смотрел по разным кинозалам), и ему снилось, будто держит над нею венец.
– Отец твой, – добавила Люсетт, – заплатил фотографу из «Белладонны», чтоб сделал фото, – но, разумеется, истинная слава приходит только тогда, когда имя появится в кроссворде-головоломке этого вестника кино. А такому, все мы знаем, никогда не бывать, никогда, никогда! Ну что, ненавидишь меня?
– Да нет, – ответил Ван, проводя рукой по ее прогретой солнцем спине и почесывая ей копчик, чтоб киска урчала. – Увы, нет! Я вас люблю любовью брата иль, может быть, еще сильней. Хочешь, закажу прохладительного?
– Хочу, чтоб не отвлекался! – промурлыкала она, уткнувшись носом во вздутое изоголовье.
– Вон официант идет! Что будем пить – «гонолулики»?
– Это ты с мисс Кондор{154} (произнося первый слог в нос) выпьешь, когда я пойду переодеваться. Мне чай и больше ничего. Нельзя таблетки мешать с алкоголем. Наверное, где-то среди ночи придется воспользоваться одной из хваленых робинсоновских пилюль. Среди ночи где-то.
– Прошу вас, два чая!
– И побольше бутербродов, Джордж! Любых – с гусиной печенкой, с ветчиной!
– Что за гадкая манера, – заметил Ван, – называть вымышленным именем бедного лакея, который не может тебе ответить: «Слушаюсь, мадемуазель Кондор!» Кстати, последнее – наиболее удачный из известных мне франко-английских каламбуров.
– Но он и в самом деле Джордж! Он был чрезвычайно обходителен вчера, когда меня стошнило прямо посреди чайной залы.
– Сладкой все в сладость! – пробормотал Ван.
– Да и Робинсоны тоже, – продолжала стрекотать Люсетт. – Маловероятно, правда же, что они сюда заявятся? Так и таскаются, весьма трогательно, за мной хвостом с того момента, как по пути на лайнер во время обеда в вагоне-ресторане мы случайно оказались за одним столом, и я, сообразив кто они такие, решила, что во мне они не признают девочку-толстушку, которую видели году в восемьсот восемьдесят пятом или шестом, а они своими разговорами задурили мне голову – мы сперва решили, что вы француженка, семга необыкновенно вкусна, так откуда вы родом? – а мне запудрить мозги нетрудно, вот так одно за другое… Молодые изменчивость времени подмечают быстрей, чем люди солидные, пожилые, которые сами перестают быстро меняться, ну а как меняются молодые, тем более давно не виденные, им видеть редко приходится.
– Исключительно верно, дорогая, – сказал Ван, – если отбросить то обстоятельство, что само по себе время недвижимо и неизменно.
– И правда: я на твоих коленях всегда, это дорога бежит назад. Дороги движутся?
– Движутся!
Выпив чай, Люсетт вспомнила, что ей надо к парикмахеру, и в спешке умчалась. Ван стянул с себя джемпер и полежал еще немного в раздумье, перебирая пальцами маленький, в зеленых изумрудах, портсигар с пятью сигаретками «Лепестки розы», пытаясь насладиться жаром платинового солнца в его ореоле «техниколора», но добился лишь того, что с каждой конвульсией и с каждым вздыманием корабля, злобный пламень искушения разгорался все сильней.
Через мгновение, словно отследив его одиночество, вновь явилась пава (peahen) – на сей раз с извинениями.
Обходительный Ван, вскакивая на ноги и вскидывая на лоб очки, принялся извиняться в свою очередь (в том, что невольно ввел ее в заблуждение), но краткий монолог оборвался ступором, едва Ван, взглянув на нее, увидел незабвенные черты в вульгарном, гротескно-карикатурном изображении. Смуглая кожа, серебристо-пепельные волосы, пухлые лиловые губы грубым негативом представили ее матовость, ее вороненость, ее выпуклый, бледный рот.
– Говорят, – пояснила пава, – мой закадычный друг Вивиэн Вейл, кутурэй – вузавэй entendue[468]468
Искаж. couturier – vous avez entendue – кутюрье – вы слышали (о нем) – (фр.).
[Закрыть]? – сбрил бороду и в таком случае должен весьма походить на вас, это так?
– Логическая ошибка, мэм! – отвечал Ван.
Она замешкалась на долю секунды, проводя языком по губам, прикидывая, грубость ли это или готовность с его стороны – но тут вернулась Люсетт за своими «Лепестками розы».
– Увидимся апрей[469]469
Искаж. après – потом, после (фр.).
[Закрыть]! – сказала мисс Кондор.
Взгляд Люсетт с облегчением проводил до самого исчезновения ленивое перекатывание ягодичных полушарий и складок.
– Ты обманщик, Ван! Это она, это все-таки одна из твоих кошмарных девиц!
– Клянусь, – сказал Ван, – понятия не имею, кто она! Не собирался тебя обманывать.
– Ты врал мне много-много раз, когда я была еще ребенком. Если поступаешь так и сейчас, tu sais que j'en vais mourir[470]470
То знаешь, что это меня убьет (фр.).
[Закрыть].
– Ты ж обещала мне гарем! – с мягким упреком сказал Ван.
– Не сегодня, не сегодня! Сегодня – святое!
Вместо щеки, к которой он потянулся, она мгновенно подставила ему неистовые губы.
– Пойдем ко мне в мою каюту! – умоляюще произнесла она, когда он отбросил ее назад пружинной отдачей звериного отклика на пламень ее губ и языка. – Хочу просто показать тебе их подушки и рояль. Из каждого ящика несет Кордулой! Умоляю, пойдем!
– Теперь убирайся! – сказал Ван. – Ты не имеешь никакого права так меня возбуждать! Если не будешь вести себя как следует, найму себе в спутницы мисс Кондор. В семь-пятнадцать встретимся за ужином.
У себя в спальне Ван обнаружил несколько запоздалое приглашение капитана отужинать за его столиком. Приглашение было адресовано «Д-ру и миссис Вин». В промежутке между плаваньем на «Королеве» Ван пользовался этим судном, и капитан Койли запомнился ему как скучнейший, малообразованный субъект.
Вызвав стюарда, Ван велел ему вернуть приглашение назад с карандашным росчерком от себя: «Нет такой семейной пары». Минут двадцать лежал в ванне. Попытался сосредоточиться на чем-либо, кроме тела девы-истерички. Обнаружил коварный пропуск в гранках, целая строчка оказалась упущена, хотя – при поверхностном чтении – убогий абзац смотрелся вполне читабельно, так как усеченный конец предложения и слившееся теперь с ним, набранное со строчной буквы начало следующего образовывали синтаксически правильный фрагмент, пресность которого ни за что бы не заметил при нынешних причудах своей плоти, не вспомни он (воспоминание подтверждается машинописным текстом), что как раз здесь должна быть вполне уместная, если все учтено, цитата: Insiste, anime meus, et adtende fortiter[471]471
«Будь настойчива, душа моя, напрягай сильнее…» (лат.){255}
[Закрыть].