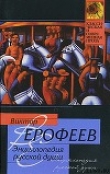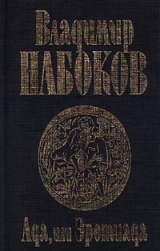
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Во время Адиного безотрадного пребывания в Ардисе ее посетил совершенно преобразившийся и раздобревший Ким Богарнэ. Под мышкой он имел альбом, обтянутый рыже-коричневой материей, цвет этот Ада с детства не переносила. За два или три года, сколько она не видела Кима, тот из верткого, худого парня с землистым лицом превратился в меланхоличного верзилу, отдаленно напоминавшего янычара из какой-нибудь экзотической оперы, вышагивающего на сцену, чтобы возвестить о нашествии или о казни. Дядюшка Дэн, которого как раз в этот момент красивая сиделка с важным видом выкатила на кресле в сад, где с деревьев облетали медные и ярко-красные листья, шумно потребовал, чтоб ему показали ту большую книгу, но Ким сказал:
– Давайте не сейчас!
И пошел вслед за Адой в отведенный под приемную уголок вестибюля.
Он поднес ей подарок, собрание фотографий, сделанных им в старое доброе время. Ким все надеялся, что старое доброе время возобновится, но как только ему дали понять, что мосьё votre cousin[390]390
Ваш кузен (фр.).
[Закрыть] (Ким говорил с сильным креольским акцентом, полагая, что такая речь в особо важных обстоятельствах более уместна, чем повседневный ладорский английский) в ближайшее время с визитом в замок не ожидается – а следовательно, не поспособствует продолжению альбома до нынешнего времени, – то Ким счел: уместней всего, пожалуй, будет теперь pour tous les cernés (скорее для всех «захваченных», «окруженных», чем «посвященных»), передать Аде, чтоб хранила (или уничтожила и позабыла, чтоб никого не обижать) в своих прелестных ручках весь иллюстративный материал. Сердито поморщившись при слове jolies[391]391
«Прелестных» (фр.).
[Закрыть], Ада раскрыла альбом на одной из темно-бордовых закладок, со значением вложенных там и сям, взглянула, щелкнула замочком, протянула осклабившемуся вымогателю тысячедолларовую банкноту, которая по счастью оказалась в сумочке, вызвала Бутейана и приказала ему спустить Кима с лестницы. Грязного цвета альбом с наклеенными фотографиями оставила на стуле, прикрыв своей испанской шалью. Старый слуга шарканул ногой, выпихивая за порог занесенный сквозняком влажный лист тюльпанного дерева, и снова прикрыл дверь.
– Именно это и я хотел тебе сказать, – заметил Ван, когда Ада закончила описывать сей неприятный инцидент. – Что, фото в самом деле непристойны?
– Б-р-р-р-р! – выдохнула Ада.
– Mademoiselle n'aurait jamais dû recevoir ce gredin![392]392
Не надо бы больше, мадемуазель, принимать этого негодяя! (фр.)
[Закрыть] – бормотал старик, плетясь по вестибюлю обратно.
– Такие денежки могли бы пойти на дело более почтенное… скажем, Приют для Слепых Жеребцов или Престарелых Золушек.
– Странно от тебя такое слышать!
– Почему?
– Да так… Все-таки гадкая вещица теперь надежно запрятана. Я не могла не заплатить за него, иначе он показал бы горемычной Марине снимки, на которых Ван соблазняет свою кузиночку Аду, – а это было бы весьма некстати; что говорить, с его гениально острым глазом ну как не докопаться до полной правды.
– Неужели ты думаешь, будто выложив за альбом какую-то тысячу, можно гарантировать, что ничто не просочится и все будет в порядке?
– Ну да! А ты считаешь, что сумма ничтожно мала? Можно послать еще. Я знаю, как его найти. Изволь, он читает лекции по искусству прицельной фотосъемки в Школе фотографии в Калугано.
– Уж там масса объектов для прицела, – заметил Ван. – Так ты совершенно убеждена, что эта «гадкая вещица» имеется только у тебя?
– Ну разумеется! Альбом со мной, на дне чемодана. Сейчас я его тебе покажу.
– Скажи-ка, любимая, какой был у тебя коэффициент интеллекта, когда мы встретились?
– Двести с чем-то. Показатель ошеломительный.
– Так вот, на данный момент он у тебя здорово съежился. Проныра Ким сохранил все негативы плюс к тому у него полно снимков – наклеить в альбомы и разослать.
– Ты считаешь, что мой коэффициент теперь, как у Кордулы?
– Ниже. Давай-ка лучше взглянем на эти снимки, а потом уж обговорим Кимов месячный оклад.
Первый цикл в злополучной серии отражало одно из начальных Вановых впечатлений от поместья Ардис, но в несколько ином, не из его воспоминаний, ракурсе. Впечатление ограничивалось пространством между темной на гравии тенью от calèche и белой, сиявшей на солнце ступенькой увенчанного колоннами крыльца. Марина, застряв рукой в рукаве пыльника, который ей помогает стянуть лакей (Прайс), взмахивает свободной рукой в театральном приветствии (абсолютно не в лад с ее лицом, искаженным гримасой наивного блаженства), а Ада в черном хоккейном блейзере – на самом деле не ее, а Вандином, – чуть присев, расплескав волосы по голым коленкам, ударяет Дэка букетом по носу, чтоб прекратил тявкать.
Затем последовало несколько предваряющих видов непосредственного окружения: кустарники вкруг, аллея, черное «О» грота, и гора, и огромная цепь, опоясывающая ствол редкого дуба, Quercus ruslan[393]393
Дуб-руслан (лат.).
[Закрыть], Шатобр., и еще какие-то пейзажи, сочтенные живописными составителем иллюстрированного проспекта, но смотрящиеся довольно убого, поскольку исполнены начинающим фотографом.
Мастерство заметно росло.
Еще девица (Бланш!), склонившаяся на четвереньках точь-в-точь как Ада (и в самом деле не без внешнего сходства с ней), над Вановым чемоданом, раскрытым на полу, и «пожирающая глазами» силуэт Розочки-Грезочки на рекламном плакатике каких-то духов. А вот крест и сень ветвей над могилой любимой Марининой ключницы Анны Пименовны Непраслиновой (1797–1883).
Оставим лучше природные зарисовки – скунсообразных белок, полосатых рыбок в пузырящемся аквариуме, канарейку в ее благолепном заточении.
На фотографии овальный, значительно уменьшенный портрет маслом княгини Софьи Земской в двадцатилетнем возрасте, то есть в 1775 году, с двумя детьми (Марининым дедушкой, родившимся в 1772 году, и Демоновой бабушкой, родившейся в 1773 году).
– Что-то я его не помню, – сказал Ван. – Где это висело?
– В будуаре у Марины. А этот зад в сюртуке не узнаешь?
– Похоже на плохо пропечатанный снимок из журнала. Кто это?
– Сумеречников! Он фотографировал дядю Ваню целую вечность тому назад.
– Предлюмьерные Сумерки. Ба, а вот и Алонсо, специалист по бассейнам! На одной киприйской вечеринке я познакомился с его милой меланхоличной дочкой – похожа на тебя: и запахи, и вздохи, и ахи. Чарующая сила совпаденья.
– Оставь это для себя. А вот и наш мальчик!
– Здрасьте, Иван Дементьевич! – поприветствовал Ван себя в четырнадцатилетнем возрасте в шортах и без рубашки, метящего коническим снарядиком в мраморный торс крымской девы, обреченной поить умирающего матроса нескончаемой струей мраморной воды из пробитого пулей кувшина.
Проскакиваем Люсетт со скакалкой.
Ага, здравствуй, знакомый зяблик!
– Нет, это китайская пуночка (Chinese Wall Bunting). Вон, сидит на пороге входа в подвал. Дверь открыта. За ней садовые инструменты, крокетные молотки. Помнишь, как много экзотических, альпийских и полярных животных попадалось средь прочего зверья в наших местах?
За ленчем. Ада, низко склонившись, ест неловко очищенный, капающий персик (снято из сада сквозь балконную дверь).
Трагикомедия. Бланш в беседке-ленивке отбивается от двух любвеобильных цыган. Дядюшка Дэн безмятежно почитывает газету, основательно застряв в своем красном автомобильчике посреди черной грязи на Ладорской дороге.
Пара громадных, еще не разъединившихся «павлиньих глаза». Конюхи с садовниками каждый Божий год таскали Аде именно эту разновидность; и все это в каком-то смысле напоминает нам о тебе, милый Марко д'Андреа, или о тебе, рыжий Доменико Бенчи, или о тебе, темнокудрый, задумчивый Джованни дель Брина (считавших их летучими мышками), или о том, кого назвать не осмелюсь (ведь это научный вклад Люсетт, с такой легкостью загубленный после смерти своего изыскателя), который однажды майским утром 1542 года возле Флоренции, у садовой стены, еще не укрытой сенью не-заве-зенных-пока глициний (вклад полусестры Люсетт) точно так же мог подобрать пару in copula бабочек «павлиний глаз»: самца с опушенными усиками, самку с усиками-ниточками, чтобы прилежно изобразить их (наряду с мерзкими немыслимыми инсектами) по одну сторону оконной ниши в так называемой «Зале стихий» Палаццо Веккьо.
Восход солнца в Ардисе. Наше Вам: голый Ван, как в коконе, в своем гамаке под «лиддероном», так в Ладоре звался лиродендрон – не то чтобы lit d'édredon[394]394
Перина на гагачьем пуху, «lit eiderdown» (смесь фр. с англ.).
[Закрыть], но достойный рассветного каламбура и, безусловно, благоприятствующий физическому воплощению фантазий юного сновидца, очевидному под сетчатым прикрытием.
– Поздравляю! – повторил Ван в своем варианте. – Первая непристойная карточка. Несомненно, этот Багор-Вне хранит где-то в личном архиве увеличенную копию.
Ада сквозь лупу (которой Ван пользовался для разглядывания кое-каких деталей в рисунках своих психопатов) рассматривала плетенье гамака.
– Боюсь, это еще не предел, – заявила она не без лукавства; и, воспользовавшись тем, что альбом разглядывается в постели (теперь это представляется нам дурным вкусом), сумасбродка Ада навела лупу для чтения на живого Вана, что проделывала многократно в тот благословенный, представленный здесь в иллюстрациях год, будучи ребенком любознательным в научном смысле и испорченным в художественном.
– Найду mouche (мушку) – залеплю! – сказала она, возвращаясь взглядом к вожделеющей маковке средь откровенных сетей. – К слову, у тебя в ящике полным-полно черных масок.
– Это маскарадные (для bals-masqués)! – пробормотал Ван.
Этюд для сравнения: Адины до самого верха обнажившиеся белые бедра (именинная юбка высоко задралась среди сучьев и веток), она сидит верхом на черной ветке Эдемского дерева. Потом: несколько снимков пикника 1884 года, например, Ада с Грейс пляшут разудалую лясканскую «шотландку», и Ван, стоя на руках, щиплет ртом звездчатку сосновую (название предположительное).
– С этим покончено, – сказал Ван, – дражайшее левое сухожилие служить отказалось. По-прежнему фехтую, и левой бью неплохо, но никакого хождения на руках. Ну же, не хлюпай носом, Ада! Аде не пристало хлюпать носом и реветь! Кинг Уинг утверждает, что великий Векчело воскрес как обыкновенный человек как раз к моим годам, стало быть, все происходит как надо. Ага, подвыпивший Бен Райт пытается повалять Бланш в конюшне – у сей девицы весьма заметная роль во всей этой окрошке!
– Бен? Ничего подобного! Ясно как Божий день, они просто танцуют. Прямо Красавица и Чудовище на том самом балу, где Золушка теряет подвязку, а Принц – свой восхитительный хрустальный гульфик. А здесь можно разглядеть в дальнем углу залы господина Уарда и госпожу Франш, олицетворяющих брейгелевскую kimbo (плебейскую манерность). Все эти разговоры о диких насилованиях в наших краях – крайнее преувеличение. D'ailleurs[395]395
Как бы то ни было (фр.).
[Закрыть], то была последняя петарда, запущенная мистером Беном Райтом в Ардисе.
Ада на балконе (снято с края крыши нашим гуттаперчевым voyuer[396]396
Наблюдателем – или вуайеристом (фр.).
[Закрыть]), рисует один из любимых своих цветков, ладорский сатирион, налитой, с шелковистыми волосками, головкой кверху. Вану показалось, что он вспомнил тот самый закатный вечер, то возбуждение, ту нежность, некоторые слова, брошенные ею вскользь (в связи с дурацкими его ботаническими комментариями): «мой цветок раскрывается исключительно в сумерки!» Тот самый, что влажно лиловила кисточкой.
Парадное фото на отдельном листе: Адочка, хорошенькая до непристойности в своей хрупкости, и Ваничка в сером фланелевом костюмчике, школьном галстуке в косую полоску, рядышком, средь бела дня, оба со вниманием смотрят в Кимов (Симов, Хамов…) объектив, он – с едва заметной вымученной улыбкой, она – без всякого выражения. Оба вспомнили, когда (между первым крестиком и целым поцелуйным кладбищем) и по какому случаю сделан снимок: он был заказан Мариной, которая, вставив фото в рамочку, хранила его у себя в спальне рядом с фотографией своего братца в возрасте двенадцати или четырнадцати лет в байронке(рубашке-апаш) и держащего в сведенных вместе чашечкой ладонях морскую свинку; все трое – точно дети одних родителей, но поскольку того мальчика на свете нет, значит, вивисекция тут ни при чем.
Другая фотография была сделана в тех же обстоятельствах, но по некоторым причинам оказалась отвергнута капризной Мариной: Ада сидит и читает за треногим столом, полусжатая в кулачок рука прикрывает нижнюю часть страницы. Исключительно редкая, лучистая, как будто беспричинная улыбка сияет на ее прямо-таки мавританских губах. Волосы частью прикрывают ключицу, частью откинуты за спину. Ван стоит, склонившись над нею, уставившись невидящим взглядом в раскрытую книгу. В полном и ясном сознании в этот миг скрытого фотощелчка Ван связал воедино недавнее прошлое с неизбежным будущим, и ему подумалось, именно это должно стать объективным восприятием истинного настоящего, и он должен запомнить пламя, всплеск и плоть этого настоящего (как действительно будет помнить лет через шесть – будет помнить и теперь, во второй половине следующего столетия).
Да, но что это за редкостное сияние, осветившее обожаемые губки? Живая насмешка грозит перейти, минуя стадию ликования, в полный экстаз:
– А знаешь ли, Ван, что за книга там лежит – рядом с зеркальцем Марины и щипчиками? Я тебе скажу. Один из крикливо-réjouissants[397]397
Занимательных (фр.).
[Закрыть] романов, что постоянно «торчат» на первой полосе Книжного Обозрения «Манхэттен Таймс». Убеждена, у Кордулы где-нибудь и по сей день такой валяется в укромном уголке, где вы с нею жались друг к дружке, после того как ты меня бросил.
– «Кошка»? – спросил Ван.
– Да нет, почище! «Тэбби» старика Бекстейна шедевр в сравнении с ним – это «Любовь под липами» некоего Илманна, перетащенная на английский Томасом Глэдстоном, по всей вероятности, служащим фирмы «Носильщик-паковщик» («Packers & Porters»), так как на странице, которой Адочка, адова дочка, так упивается на фото, «авто» переводится как «автомат». И надо же, надо же, ведь крошке Люсетт пришлось изучать этого Илманна да еще трех кошмарных Томов{119} в курсе литературы в Лосе!
– Ты помнишь эту ахинею, а я запомнил Под Лиственницами – наше непрерывное трехчасовое целование, случившееся сразу после.
– Смотри следующую иллюстрацию! – хмуро сказала Ада.
– Ах негодяй! – воскликнул Ван. – Должно быть, он повсюду ползал за нами на животе со своей амуницией! Я уничтожу его!
– Не будем о жертвах, Ван! Только о любви.
– Но взгляни же, дорогая, вот он я, упиваюсь твоим языком, а здесь я приклеился к твоему нёбу и…
– Перерыв! – взмолилась Ада. – Быстренько-быстренько!
– Всегда рад Вам служить, пока мне не стукнет девять десятков, – заверил Ван (пошлость подглядывателя оказалась заразительной), – причем девятью десять раз в месяц, по грубой прикидке.
– Ах, прикинь погрубее, еще и еще погрубее, скажем до ста пятидесяти, что означало бы, означало бы…
Но внезапный ураган смел эти подсчеты к чертям собачьим.
– Что ж, – предложил Ван, когда сознание к ним вернулось, – обратимся вновь к нашему исковерканному детству! Мне не терпится (поднимая альбом с прикроватного коврика) избавиться от этой обузы. Ага, новый персонаж, надпись гласит: «Д-р Кролик».
– Погоди-ка. «Крем Ван» хоть и лучший в мире, но избыток все же стоит убрать. Вот так. Ах, это мой бедный учитель естествознания!
Маленький «никкербоккер» в панамке, умирающий по своей бабочке («lepidopteron»). Страсть, болезнь. Что могла знать Диана о такой охоте?
– Любопытно, но у Кима он здесь вовсе не такой пушистенький и пухленький, каким я его воображал! Да нет же, дорогая, он высок, силен и красив, этот старый Мартовский Заяц! Объяснись!
– Нечего мне объяснять. Однажды я попросила Кима помочь мне принести кое-какие коробки и потом унести, вон наглядное доказательство. К тому же это вовсе не мой Кролик, а его брат Кароль, а может, Карапарс, Кролик. Доктор философии, родом из Турции.
– Обожаю, как ты щуришься, когда врешь! Удаленность миража в Малом Бесстыдстве.
– Я не вру! (с прелестным высокомерием) Он действительно доктор философии!
– Ван ist auch[398]398
Тоже (нем.).
[Закрыть] не профан, – пробормотал Ван со значением.
– Наша самая заветная мечта, – продолжала Ада, – наша с Кроликом самая заветная мечта – это описать и проиллюстрировать ранние стадии развития, от яйца до куколки, всех известных рыже-коричневых нимфалид, Больших и Малых, начиная от тех, что водятся в Новом Свете. Я бы взялась за организацию постройки аргиннинария (защищенного от вредителей питомника) с регулируемой температурой и иными приспособлениями – скажем, с соответствующими запахами ночи и ночными голосами животных, чтоб в особых сложных случаях создать естественную атмосферу – гусеницам необходим изысканный уход! Сотни их видов и прекрасных подвидов водятся в обоих полушариях, но, повторяю, мы бы начали с Америки. С живых яйцекладущих самок и живого зеленого корма, такого как многообразные фиалки, доставляемые самолетом отовсюду, начиная да хоть бы с арктических ареалов – Ляски, Бра д'Оры, острова Победителя. В этом скопище должен быть также и фиалкарий с восхитительными цветущими растениями – от endiconensis рода Северной Болотной Фиалки до всего миг цветущей, но великолепнейшей Viola kroliki, недавно описанной профессором Холлом из Залива Гутзон. Я бы изобразила в цвете все возрастные стадии и графически безупречные гениталии насекомых, а также строения прочих органов. Что за прекрасная была бы работа!
– Творение любви, – сказал Ван, переворачивая лист.
– Увы, мой милый единомышленник скончался, не оставив завещания, и все его коллекции, включая и мой скромный вклад, были проданы заурядным крольчатником клана Кроликов немецким агентам и татарским дельцам. Подло, несправедливо и ужасно печально!
– Мы подыщем тебе другого научного руководителя. Итак, что теперь?
Три лакея, Прайс, Норрис и Уард, выряженные для смеху пожарными. Младой Бут пылко целует в подъем с голубыми прожилками обнаженную ножку, воздетую и поставленную на перила лестницы. Ночной со стороны сада снимок: окно библиотеки с маленькими белыми призраками за ним, припавшими носами к стеклу.
Красиво расположенные веером на одном листе семь маленьких фоточек (diminutive stills), заснятых с интервалом в минуту, – явно из весьма удаленного укрытия – из глубин высокой травы и полевых цветов, из-под густо нависшей листвы. Отсутствие должного света и вклинивающиеся травинки неназойливо камуфлируют главные детали происходящего, в чем подозревается нечто больше, нежели обычная потасовка между двумя не вполне одетыми детишками.
На центральной миниатюре единственное, что в Аде хорошо различимо, это ее худенькая рука, замершая в воздетом положении вскинутым флагом, ненужное платье валяется в траве среди ромашек. На переднем плане возникает лупа (теперь извлеченная из-под простыни), скользя по верхам ромашек первого снимочка, натыкается на поганый гриб с плотно пригнанной шляпкой, поименованный по шотландским правилам (еще со времен отмены охоты на ведьм) «лорд-эректор». Еще любопытное растение, Дынька Марвелла, внешне напоминающая тыл увлеченного делом молодца, почти отчетливо различима на фоне бескрайнего цветочного пространства третьего снимка. На последующих трех la force des choses («безумство совокупления») настолько разметало буйные травы, что можно уже разглядеть детали запутанной комбинации, состоящей из неловких цыганских захватов и недозволенных «нельсонов». И наконец, на последнем снимке Ада обеими руками приводит в порядок волосы, в то время как ее Адам стоит над нею, цветущая ветвь заслоняет его бедро с нарочитой небрежностью средств, к каким старые мастера прибегали, блюдя райское целомудрие.
Равно небрежным тоном Ван заметил:
– Родная, ты слишком много куришь, у меня весь живот в пепле. Надеюсь, Бутыльян знает точный адрес профессора Богарнэ в его Афинском прибежище изобразительных искусств?
– Не стоит закалывать его, – сказала Ада. – Пусть он придурок, пусть даже шантажист, но в его гнусности мне мнится истошный стон («visceral moan») больного художества. К тому же этот лист единственный здесь мерзкий по-настоящему. И еще не надо забывать про засаду в саду малолетки-златовласки.
– Какое к черту художество! Убожество, а не художество! Сделать подтирку из «Cart du Tendre»[399]399
«Карты Нежной Любви» (фр.).
[Закрыть]! Зря ты мне все это показала. Этот скот всю нашу память опошлил! Либо глаза ему хлыстом выбью, либо спасу память о детстве и сам напишу книгу: «Ардис: семейная хроника».
– Ой, напиши! – воскликнула Ада (перевернув еще одну отвратительную подглядку – по-видимому, сквозь щель в чердачных досках). – Смотри-ка, вот наш крохотный Калиф-остров!
– Не желаю больше смотреть! Похоже, эта грязь действует на тебя возбуждающе. Отдельные особи возбуждаются от комиксов про авто и бикини.
– Ван, прошу тебя, взгляни! Вот четыре ивы, помнишь?
«Замок ласкают воды Адура:
Нет для туристов прекраснее тура!»
– Оказывается, это единственный цветной снимок. Ивы из-за зеленоватой коры как будто зеленеют листвой, хотя на самом деле листьев нет пока, ранняя весна, и вон, видишь, наша с тобой лодка «Souvenance»[400]400
Воспоминание (фр.).
[Закрыть] в кустах! А вот и последняя карточка: Кимов гимн Ардису.
Все обитатели выстроились в несколько рядов на увенчанной колоннами лестнице позади самой президентши банка баронессы Вин и вице-президентши Иды Ларивьер. К ним с обоих флангов примыкает по одной хорошенькой машинистке: Бланш де ла Торфяник (поэтичная, в слезах, поистине достойна обожания) и негритяночка, нанятая за пару дней до отъезда Вана, в помощь Франш, довольно угрюмо возвышающейся над нею во втором ряду и не сводящей глаз с Бутейана, который все в том же costume sport[401]401
Спортивном костюме (фр.).
[Закрыть], в каком был, когда увозил Вана (та карточка скомкана и выброшена). По правую руку от дворецкого выстроились три лакея; по левую стоят Бут (прислуживавший Вану), за ним тучный, с лицом мучнистого цвета повар (отец Бланш) и рядом с Франш – с ног до головы в клеточку джентльмен при обозначенном лямкой на плече бинокле: вероятно (как утверждает Ада), турист, который, прикатив на велосипеде из Англии взглянуть на Шато Бриана, свернул не на ту дорогу, а, судя по снимку, решил, что случайно встретил группу туристов, осматривающих еще одно старинное, достойное внимания поместье. В задних рядах скопились менее значительные объекты: служители и судомойки, а также садовники, конюхи, кучера, тени колонн, слуги и прислужницы, сподручники и сподручницы, прачки, подавальщицы, накрывальщицы – мельчая по мере значимости, как в рекламе всякого банка, когда мелкие служащие, редея, отступают в тень, блокируемые локтями удачливых коллег, но все же тянутся вперед в процессе уступки затиранию, улыбаются.
– А это не пыхтелка Джонс там, во втором ряду? Старик всегда был мне симпатичен.
– Нет, – отвечала Ада, – это Прайс. Джонс появился через четыре года. Теперь он известный полицейский в Нижней Ладоре. Ну вот и все.
Небрежно вернувшись к ивам, Ван заметил:
– Все снимки в альбоме сделаны в 1884 году, кроме одного. Я никогда не катал тебя на лодке по Ладоре ранней весной. Отрадно, что ты еще не утратила способности краснеть.
– Это Ким виноват! Должно быть, закинул фоточку, снятую позже, году в 1888. Если хочешь, можем ее выдрать.
– Любимая, – сказал Ван, – весь 1888 год и так выдран. Тут не нужно быть детективом, чтобы разглядеть: из альбома выдернуто почти столько же листов, сколько осталось. Мне все равно… то есть мне неинтересно разглядывать всякую Knabenkräuter[402]402
Орхидею (также: мошонка) – (нем.).
[Закрыть] и иные висячие части ботанизирующих с тобой дружков; только 1888 год Кимом припрятан, и он еще с ним объявится, едва потратит первый взнос.
– Да, я уничтожила 1888 год! – гордо парировала Ада. – Но я клянусь, я торжественно клянусь, что тот мужчина позади Бланш на снимке с крыльцом и был, и остался мне совершенно незнаком.
– Да Бог с ним, – сказал Ван. – Поверь, это не имеет значения. Просто весь альбом – насмешка и надругательство над нашим прошлым. По здравом размышлении, не буду я писать семейную хронику. Кстати, где теперь моя бедная Бланш?
– О, за нее можешь не волноваться! По-прежнему служит там. Знаешь, она ведь вернулась, после того как ты ее похитил. И вышла замуж за нашего конюха, русского, который сменил Бена Бенгальского, как того прозвали слуги.
– Неужели? Вот славно! Мадам Трофим Фартуков. Кто бы мог подумать!
– У них родился слепой ребенок, – сказала Ада.
– Любовь слепа, – заметил Ван.
– Она утверждает, что ты в первое же утро после приезда приставал к ней.
– Кимом не засвидетельствовано, – парировал Ван. – Их дитя так и останется слепеньким? Словом, не подыскала ли ты им по-настоящему стоящего специалиста?
– Увы, ребенок неизлечим. Кстати, что касается любви и порожденных ею мифов, ты отдаешь себе отчет – потому что я не отдавала, пока пару лет тому назад у нас с ней не состоялся разговор, – что все нас окружавшие тогда отнюдь не страдали плохим зрением? Оставим в стороне Кима, он всего лишь штатный шут – но отдаешь ли ты себе отчет в том, что, пока мы с тобой вели игры и предавались любви, наши отношения обрастали сущей легендой?
Она и вообразить не могла, повторяла Ада вновь и вновь (как будто намереваясь очистить прошлое от пошлой конкретики альбома), что их первое лето в садах и орхидереях Ардиса окуталось священной тайной, сделалось культом для жителей округи. Романтически настроенные служанки, зачитывавшиеся такими книгами, как «Гвен де Вер» или «Клара Мертваго»{120}, боготворили Аду, боготворили Вана, боготворя сень сада, отраду и услады Ардиса. Их фавны, наигрывая баллады на русских семиструнных лирах под сенью цветущих гроздьев или в старинных розовых садах (пока в замке одно за другим гасли окна), присочинили новые строки – наивные, лакейски-цветистые, однако задушевные – к круговертям народных песен. Чудаки полицейские млели от пленительного слова «инцест». Садовники приспосабливали для своих нужд переливчатую персидскую поэзию об орошении цветов и о Четырех Стрелах Любви. Ночные сторожа в «Приключениях Ваниады» обрели надежную защиту от бессонницы и трипперных страданий. Не тронутые молнией пастухи с отдаленных горных склонов прикладывали громадные гуды, точно слуховые трубки, к уху, вслушиваясь в напевы Ладоры. Помещицы-девственницы в своих виллах с мраморными полами одиноко тешили пламя, возбужденное в них романтической Вановой любовью. И вот минует еще столетие, и выведенное художником слово заиграет новыми красками под более щедрой кистью времени.
– Все это лишь означает, – заключил Ван, – что положение наше безнадежно.