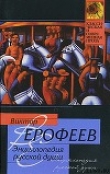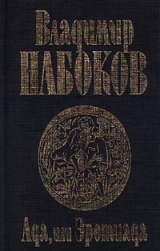
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
С угасанием мимолетного жара сменилось и настроение у Вана. Надо бы что-то сказать, что-то предпринять, дело серьезное, или может оказаться серьезным. Уже подъезжали к Гамлету, маленькой русской деревушке, откуда дорога двумя рядами берез вела прямехонько в Ардис. Небольшая стайка сельских нимф в платочках, без сомнения немытых, однако восхитительно прелестных, с гладкими обнаженными плечами и высокой пышной грудью, двумя тюльпанами выпирающей из-под корсета, проследовала мимо в рощу, распевая на трогательном английском старинную частушку:
– У тебя в боковом кармашке карандаш, – сказал Ван Люсетт. – Можно взять? Хочу записать слова этой песенки.
– Только чтоб не щекотно! – сказала девочка.
Протянув руку, Ван взял у Ады книгу и под прицелом ее странно насторожившегося взгляда написал на форзаце:
«Больше видеть его не желаю.
Я не шучу.
Скажи М., чтоб не принимала, иначе уеду.
Ответа не надо».
Ада прочла и медленно, не говоря ни слова, стерла написанное ластиком с верхушки карандаша, который передала Вану, а тот сунул карандаш туда, откуда взял.
– Ты такой вертлявый! – заметила, не оборачиваясь, Люсетт. – В следующий раз, – добавила она, – никому не позволю садиться на мое место.
Они уж подкатывали к крыльцу, и Трофиму пришлось тряхнуть за шиворот юного читателя в голубой ливрее, чтоб отложил книгу, спрыгнул и помог Аде выйти из экипажа.
40Лежа под лиродендронами в своем плетеном гнездышке, Ван читал Антитеррениуса о Раттнере. Всю ночь ему покоя не давало колено; теперь, после обеда, кажется, немного успокоилось. Ада верхом отправилась в Ладору, и он надеялся, что она позабудет про гадкую скипидарную мазь, которую Марина велела ей для него купить.
Через лужайку к нему спешил камердинер, а с ним посыльный, стройный юнец, с ног до головы в черной коже, из-под фуражки выбивались каштановые кудри. Странноватое дитя со свойственным трагику-любителю пережимом огляделось по сторонам и вручило Вану письмо с надписью «лично».
«Любезный Ван!
Через пару дней я отбываю по делам армейской службы за границу. Если пожелаете повидать меня перед отъездом, буду рад встретить Вас (а также и других джентльменов, каких пожелаете пригласить с собой) завтра на рассвете, в месте пересечения шоссе на Мейденхэр с дорогой на Торфяную. Если же нет, прошу удостоверить кратким посланием, что никакого недоброжелательства ко мне не испытываете, равно как и к Вам, сэр, не таит ни малейшего недоброжелательства Ваш покорный слуга
Перси де Прэ».
О нет, у Вана не было ни малейшего желания видеться с этим графом. Что и передал он смазливому посланнику, застывшему подбоченясь с выставленным вбок коленом, как статист, ожидающий знака, чтоб по окончании арии Калабро удариться с сотоварищи в лихую кадриль.
– Un moment, – добавил к сказанному Ван. – Крайне интересуюсь, – можно выяснить в миг хоть за тем деревом – ты кто, мальчик с конюшни или девочка с псарни?
Посланник отмолчался и был уведен прочь похохатывающим Бутом. Из-за лавровых зарослей, скрывших обоих из вида, донесся слабый писк, вероятно, в ответ на непристойный щипок.
Было ли то неуклюже-претенциозное послание продиктовано опасением, что отбытие за море на защиту родины можно рассматривать как бегство от сугубо личных обязательств, или же этот примирительный тон был навязан Перси кем-нибудь – не исключено, женщиной (скажем, его матерью, урожденной Прасковьей Ланской), сказать трудно; как бы то ни было, а честь Вана оказалась незапятнанной. Он похромал к ближайшему мусорному контейнеру, там письмо и голубой конверт с откинутым гребнем сжег, решив все начисто забыть, лишь отметив про себя, что отныне этот малый не будет приставать к Аде со своими ухаживаниями.
Она вернулась уже к вечеру – слава Богу, без всякого лекарства. Ван все еще валялся в своем провисшем гамаке, такой несчастный, такой опустошенный, и, оглянувшись вокруг (гораздо естественней, чем тот каштановокудрый посыльный), Ада приподняла вуаль, опустилась на колени и утешила его.
Когда спустя два дня полыхнула молния (образ не новый, предназначенный озарить в памяти возврат к старому амбару), перед Ваном четко слились воедино в своем холодном противоречии две тайные очевидности; обе вертелись в мозгу с самого первого дня его рокового возвращения в Ардис: одна нашептывала, отводя взгляд, что Перси де Прэ был и останется всегда не более чем партнером по танцам, второстепенным поклонником; другая же с настойчивостью призрака продолжала подспудно твердить, что какая-то неназванная беда грозит приключиться с рассудком бледной, неверной возлюбленной Вана.
Утром, накануне самого злосчастного в жизни Вана дня, он обнаружил, что может уже не морщась сгибать колено, однако напрасно увязался за Адой и Люсетт на непредусмотренный ленч средь давно позабытой крокетной лужайки, оттуда домой возвращался с трудом. Все же плавание в бассейне и прогревание на солнце сделали свое дело, боль практически исчезла к тому моменту, как Ада средь самой густоты нескончаемого дневного зноя возвратилась после своего длительного «бота́нья», как она именовала свои ботанические гулянья – кратко и несколько уныло, так как местная микрофлора, помимо знакомых любимых особей, теперь мало чем радовала ее. Марина в роскошном пеньюаре сидела перед огромным овальным шарнирным зеркалом, установленным на белом туалетном столике, который был вынесен на середину лужайки, где и причесывал ее дряхленький, но все еще искусный мастер месье Фиолетт Лионский и Ладорский; это необычное для пленэра занятие Марина объясняла и подтверждала тем, что бабка ее также любила qu'on la coiffe au grand air[297]297
Чтоб ее причесывали на свежем воздухе (фр.)
[Закрыть], бросая вызов зефирам (так дуэлянт укрепляет руку кочергой, совершая с нею променады).
– Вот он, наш замечательный артист! – сказала Марина про Вана Фиолетту, который, приняв его за Педро, поклонился с un air entandu[298]298
Понимающим видом (фр.).
[Закрыть].
Ван давно мечтал о легкой оздоровительной прогулке с Адой перед переодеванием к ужину, но та, повалившись в плетеное кресло, заявила, что ужасно устала, что такая грязная, что должна умыться и помыть ноги, а также подготовиться к тяжкой обязанности помогать матери в развлечении ее киношников, приглашенных нынче на вечер.
– Я видал его в «Секс-и-К°», – буркнул месье Фиолетт Марине, вращая ее туда-сюда в зеркале головой при том, что сжимал ладонями ей уши.
– Нет, нет, уже поздно, – шептала Ада, – и кроме того, я обещала Люсетт…
Жарким шепотом он настаивал – при этом полностью отдавая себе отчет, сколь тщетны попытки заставить ее передумать, особенно в делах любовных; как вдруг необъяснимым и чудесным образом ее остекленевший взгляд, на глазах оттаивая, слегка оживился, будто новая мысль внезапно вызвала это преображение. Так остановившийся взгляд ребенка вдруг рождает проблеск улыбки, едва тот начинает понимать, что кошмарный сон позади или что дверь осталась не заперта и можно безнаказанно шлепать по отраженному в лужах небу. Ада сняла с плеча сумку с трофеями, и под благосклонным взглядом Фиолетта над зеркальным отражением Марининой головы они с Ваном пошли себе и отыскали в аллее парка относительно уединенный уголок, где когда-то Ада демонстрировала ему свои игры «свет-и-тень». Он обнял ее и поцеловал, и поцеловал снова, как будто она возвратилась из далекого и опасного путешествия. В ее улыбке появилась какая-то особая, какая-то неожиданная прелесть. То уж не была улыбка лукавого демона, вспоминавшего прежнюю, предвкушавшего новую страсть, – то было истинно человечье сияние счастья, беспомощности. Ничто из их страстных, нагнетавших восторг порывов от Горящего амбара до Искрящегося Ручья и сравниться не могло с этим зайчиком, этим «лучиком» всепоглощающей улыбки. Ее черный джемпер и черная, с большими карманами, юбка уже не отвечали образу «скорби по увядшему цветку», как живо окрестила ее наряд Марина («немедленно переодеться», change immediately! – гаркнула она в отсвечивающее зеленым зеркало); теперь обличье Ады обрело прелесть старомодной лясканской девчоночьей школьной формы. Они стояли – чело к челу, загар и бледность, черное с черным, он поддерживал ее за локти, она легко и нежно водила пальчиками по его ключицам, а он шептал, что «обожадно» вдыхает тягучий аромат ее волос и что они пахнут смятыми стеблями лилий, турецким табаком и девичьей томностью. «Нет-нет, не надо», – прервала она, мне надо помыться, быстро-быстро, Аде надо помыться; но они еще целый бесконечный миг стояли обнявшись средь притихшей аллеи, упиваясь, как никогда, ощущением «вечного счастья», светящегося в конце нескончаемой сказки.
Ах, что за восхитительное место, Ван! Буду рыдать всю ночь (более поздняя приписка).
Последний луч солнца, упав на Адино лицо, высветил рот и подбородок, мокрые от его жалких, тщетных поцелуев. Она тряхнула головой, сказав, что действительно надо разойтись, и поцеловала ему руку, как делала только в моменты неимоверной нежности, потом быстро отвернулась, и они разошлись в самом деле.
В сумке, которую она оставила на столике в саду и которую теперь взяла с собой наверх, была одна лишь единственная увядшая орхидея «венерин башмачок». Марина вместе с зеркалом исчезла. Стянув с себя спортивный костюм, Ван напоследок нырнул в бассейн, у края которого, заложив руки за спину и задумчиво уставившись в неестественно лазурную воду, застыл дворецкий.
– Надо же, – пробормотал он, – головастик был или почудилось?
Любимое романами подкидывание записок теперь воплотилось в действительность. Уж с порога своей комнаты Ван заметил с накатом мрачного предчувствия, что из грудного кармана висящего смокинга торчит клочок бумаги. Написанное карандашом крупными, намеренно кривыми и вихляющими буквами анонимное послание гласило: «Не позволяйте делать из себя berne». Только говорящий по-французски мог употребить «berne» вместо слова «посмешище». Из слуг по меньшей мере полтора десятка были французского происхождения – потомки иммигрантов, поселившихся в Америке, после того как в 1815 г. Англия присоединила к себе их прекрасную несчастную страну. Допрашивать всех – мужчин пытать, женщин насиловать – было бы, разумеется, глупо и пошло. В ребяческом запале – из пушки по летучим существам – он с яростью разодрал крылья любимого черного галстука-бабочки. Тут змеиное жало проняло его до самого сердца. Ван отыскал другой галстук, завершил переодевание и отправился на поиски Ады.
Он обнаружил обеих девочек вместе с гувернанткой в одной из «больших детских», прелестной гостиной с верандой, на которой мадемуазель Ларивьер сидела за дивно инкрустированным «пембруком»{91} и со смешанными чувствами читала, гневно делая пометки, третий вариант киносценария «Les Enfantes Maudits». За столом побольше, стоявшим посреди комнаты, Люсетт под руководством Ады училась рисовать цветы; вокруг лежали большие и малые ботанические атласы. Казалось, все как обычно, и миниатюрные дриады с козлоногими существами на расписанных потолках, и густой свет дня, вызревающего в сумерки, и далекие, сонные отзвуки «Мальбрука», выпеваемого голоском складывавшей белье Бланш (…ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra[299]299
«Не знает, когда вернется он…» (фр.)
[Закрыть]), и две прелестные головки, бронзово-черная и медно-красная, склонившиеся над столом. Ван понимал, что надо поостыть, прежде чем заговаривать с Адой – или вернее, прежде чем сказать ей, что надо поговорить. Она была весела и элегантна; впервые надела его алмазы; на ней было новое вечернее платье с черными блестками, и – также впервые – он увидел на ней прозрачные шелковые чулки.
Ван присел на маленькую тахту, взял наугад один из раскрытых томов и принялся с отвращением разглядывать роскошное изображение пышных орхидей, чья популярность у пчел, как следовало из описания, зависит «от разнообразия манящих ароматов – от вони разлагающегося рудокопа до миазмов дохлого кота». Солдатские останки, не исключено, пчелкам и того приятней.
В это время несговорчивая Люсетт уперлась, что-де проще всего нарисовать цветок – это наложить на картинку (в данном случае имелась в виду красная бородатка, с характерными, непристойного вида деталями, растение редкое для ладогских болот) прозрачную бумагу и обвести цветной тушью контур. Неутомимая Ада настаивала, чтоб Люсетт не механически копировала бы, а воспроизводила «от глаза к руке и от руки к глазу» и чтоб в качестве натуры воспользовалась сорванным экземпляром другой орхидеи с коричневой жатенькой сумочкой и лиловыми чашелистниками; но вскоре, однако, Ада с улыбкой сдалась, отставив в сторону хрустальную вазочку с «венериным башмачком», который сорвала в лесу. Легко и без нажима принялась объяснять, как функционируют органы цветка – но Люсетт, настроенную на смешливый лад, занимало только одно: может ли мальчик-пчелка оплодотворить девочку-цветок чем-нибудь – своими гетриками или мохнатиками или что там у него на ножках?
– Видишь ли, – заметила Ада Вану, комично гнусавя, – видишь ли, мозги этого чада до крайности извращены, и вот она уж злится на меня за эти слова, сейчас кинется и станет рыдать на груди у Ларивьер и будет жаловаться, что ее опылили, когда сидела у тебя на коленках.
– Разве можно говорить Бэлль такие неприличности? – отозвалась вполне чинно и здраво Люсетт.
– Ван, что это с тобой? – спросила проницательная Ада.
– А что? – спросил, в свою очередь, Ван.
– У тебя уши вздрагивают, и покашливаешь то и дело.
– Закончили рисовать свои жуткие цветы?
– Закончили. Теперь пойду руки помою. Встретимся внизу. У тебя галстук перекручен.
– Пусть, пусть! – пробормотал Ван.
Внизу в зале Джонс уже снимал обеденный гонг с настенного крючка.
– Так в чем дело? – спросила Ада, когда через минуту они сошлись на веранде перед гостиной.
– Я нашел это в своем кармане, – сказал Ван.
Нервно потирая пальцем крупные передние зубы, Ада читала и перечитывала записку.
– Почему ты решил, что это тебе? – спросила она, возвращая ему клочок тетрадного листка.
– Ведь сказано же!.. – вскричал Ван.
– Тише (quiet)! – сказала Ада.
– Сказано, я обнаружил это здесь! (Указывает на нагрудный карман.)
– Порви и выбрось! – велела Ада.
– Слуга покорный! – отозвался Ван.
41Педро пока из Калифорнии не вернулся. Сенная лихорадка, а также темные очки не послужили на пользу наружности Г.А. Вронского. Адорно, звезда фильмы «Ненависть», привез новую жену, оказавшуюся старой (и любимейшей) женой одного из гостей, комика и куда более известного, и тот после ужина сунул Бутейану денежку, чтоб устроил доставку депеши, которой бы этого гостя немедленно куда-то отзывали. Григорий Акимович отправился вместе с ним (прибыв с ним же в одном взятом напрокат лимузине), оставив за карточным столиком Марину, Аду, Адорно и его иронически хмыкающую Марианну. Играли в бирюч, разновидность виста, закончив только тогда, когда удалось заполучить такси из Ладоры, то есть много позже часа пополуночи.
Между тем Ван снова переоделся в шорты, запахнулся в клетчатый плед и вернулся к себе под сень деревьев, где совсем не зажигались бергамаскарадные фонари в ту ночь, которая вопреки ожиданиям Марины оказалась не слишком праздничной. Забравшись в свой гамак, Ван, отходя ко сну, принялся лениво перебирать в памяти, кто бы из французской челяди мог ему подбросить это зловещую, хотя, по мнению Ады, пустую записку. Сразу же его выбор, естественно, пал на истеричку и выдумщицу Бланш – ведь она труслива, боится, что ее «попросят» (вспомнилась ужасная сцена, когда та валялась в ногах у Ларивьер, прося пощады, поскольку мадемуазель обвинила ее в «краже» какой-то своей безделушки, которая тут же и нашлась в туфле самой Ларивьер). Потом перед Ваном всплыла багровая физиономия Бутейана и ухмыляющаяся – его сынка; но мало-помалу он погрузился в сон и видел себя на горе занесенным по горло снегом, и были люди, и деревья, и вниз лавиной несло корову.
Что-то вырвало его из муторного ступора. Сперва ему показалось, что предрассветная прохлада, но вот он уловил слабый скрип (отозвавшийся воплем в его кошмарном перепутанном сне) и, подняв голову, увидел сквозь листву тусклый свет – дверь в кладовку была распахнута изнутри. Ада просто так туда не наведывалась; только ради их нечастых ночных свиданий, и тогда тщательно взвешивался каждый шаг. Выбравшись из гамака, Ван направился к освещенной двери. Перед ним возникла бледная, дрожащая фигурка Бланш. Вид у нее был довольно странен: с оголенными плечами, в нижней юбке, один чулок подстегнут, другой спущен до икры, босая, под мышками влажно от пота; она распускала волосы в жалкой попытке изобразить себя соблазнительницей.
– С 'est та dernière nuit аи château, – едва слышно проговорила она и несколько иначе произнесла ту же фразу на странном своем английском, топорно-элегическом, как говорят только в старых романах. – Сия ночь у нас последняя с тобою!
– Последняя? У нас с тобой? О чем ты?
Ван оглядывал Бланш с жутковатым чувством тревоги, возникающей, когда слышишь безумные или пьяные речи.
Но несмотря на очумелый вид, Бланш пребывала в здравом рассудке. Пару дней назад она твердо решила оставить Ардис-Холл. И только что подсунула под дверь Мадам свое прошение об уходе с припиской насчет поведения юной хозяйки. Через несколько часов ее здесь не будет. Она любит его, он – «ее безумие, ее страсть», она жаждет провести с ним несколько тайных мгновений.
Ван вошел в кладовую и медленно прикрыл за собою дверь. Эта неспешность была продиктована обстоятельством малоприятного свойства. Бланш, поставив лампу на ступеньку стремянки, уж схватилась за подол задрать легкую свою юбчонку. Ее мягкость, сочувствие и услужливость могли бы подтолкнуть в нем желание, в котором Бланш не сомневалась и полное отсутствие которого Ван тщательно скрывал под пледовым прикрытием; но значительно сильней страха заразиться (Бут намекал на кое-какие проблемы бедняжки) заботила Вана вещь посерьезней. Отведя дерзкую ручку Бланш, он присел рядом с ней на скамью.
Не она ли подсунула ему в смокинг записку?
Она. Как можно, вот так разъехаться, а он чтоб остался одураченным, обманутым, преданным! И наивно добавила, как бы в скобках, что, мол, уверена, он с самого начала воспылал к ней, но об этом можно и потом. Je suis à toi, c'est bientôt l'aube[301]301
Я – твоя, скоро рассветет (фр.).
[Закрыть], мечта твоя сбылась.
– Parlez pour vous[302]302
Меня не припутывай (говори за себя) – (фр.).
[Закрыть], – сказал Ван. – Что-то не настроен я на любовный лад. И, можешь быть уверена, если тотчас не расскажешь, как все было и в подробностях, я тебя придушу.
Бланш кивнула, осовелые глаза глядели на него с обожанием и страхом. Когда и как все началось? В прошлом августе, отвечала она. Votre demoiselle[303]303
Ваша мамзель (фр.).
[Закрыть] собирала цветы, он вился следом сквозь густую траву с флейтой в руке. Как это? Почему флейта? Mais le musicien allemand, Monsieur Rack[304]304
Так ведь же немец-музыкант, месье Рак (фр.).
[Закрыть]. Услужливая осведомительница в тот момент лежала под собственным ухажером за изгородью. Как этим можно было заниматься с l'immonde Monsieur Rack[305]305
Этим противным месье Раком (фр.).
[Закрыть], однажды позабывшим в стогу сена свой жилет, этого наша осведомительница никак не могла взять в толк. Может, в благодарность за то, что ей песни сочинял, одну, славненькую, исполнил однажды средь шумного бала в ладорском казино, мотив такой… Меня не интересует мотив, дальше рассказывай. Раз звездной ночью осведомительница, находясь в зарослях ивняка с двумя кавалерами, слыхала, как месье Рак, в лодке на реке, излагал печальную историю своего детства, поры, отмеченной недоеданием, музыкой и заброшенностью, его возлюбленная в рыданиях запрокидывала голову назад, он же потчевался ее белой шеей, il la mangeait de baisers dégoûtants[306]306
Терзал ее мерзкими поцелуями (фр.).
[Закрыть]. Должно быть, имел ее раз пять-шесть, не больше, он не так крепок, как кое-кто, – ладно, не будем об этом, оборвал ее Ван, – а зимой юная леди прознала, что он женат и злую свою жену ненавидит, а в апреле, когда тот стал давать уроки музыки Люсетт, роман возобновился, но потом…
– Хватит! – выкрикнул Ван и, охаживая себя кулаком по лбу, шатаясь, выбрался на солнечный свет.
Стрелки на часах, свисавших с гамака, показывали четверть шестого. Ноги у него одеревенели. Ван хватился своих мокасин и некоторое время безотчетно топтался меж деревьев в чаще, где с такой мощной, неистовой силой дрозды выпевали сложнейшие фиоритуры, что не было сил вынести этой агонии прозрения, этой мерзости жизни, этого краха. Все же постепенно он обрел подобие самоконтроля благодаря магическому средству: и близко не подпускать образ Ады к пределам сознания. Это создало вакуум, куда хлынуло множество третьестепенных мыслей. Пантомима рационального мышления.
Ван принял холодный душ в кабинке у бассейна, все его действия были до смешного размеренны, он делал все неспешно и осмотрительно, словно разбить боялся этого нового, только что явившегося на свет, незнакомого, хрупкого Вана. Он наблюдал за вращением, танцем, напыщенным разгулом, порой фиглярством своих мыслей. К примеру, с восторгом пускался в фантазии – будто кусок мыла кажется муравьям, на нем роящимся, застывшей амброзией, и каково это вдруг самому очутиться в центре этой оргии. Являлась мысль: согласно кодексу чести, нельзя вызывать на поединок того, кто по рождению не джентльмен, хотя для художников, пианистов, флейтистов могут быть исключения; можно пустить ему кровь, многократно врезав в челюсть, или нет, лучше вздуть его хорошей тростью – не позабыть выбрать трость понадежней из шкафчика в вестибюле, а потом прочь отсюда навеки, навеки. Вот потеха! Ему неповторимое наслаждение доставляло это состояние – будто на одной ноге выплясываешь голышом, нацелившись другой в надеваемые трусы. Он лениво прошел через боковую галерею. Поднялся по парадной лестнице. Дом был пуст, прохладен, в нем пахло гвоздиками. Доброе утро и прощай, спаленка! Ван побрился, подстриг ногти на ногах, Ван оделся с неимоверной тщательностью: серые носки, шелковая рубашка, серый галстук, темно-серый, давеча отутюженный костюм – ботинки, ну, конечно же, ботинки, как можно забыть про ботинки, и, не особо копаясь в остальных своих вещах, он набил замшевый кошелек пригоршней золотых двадцатидолларовых монет, разложил по карманам вдоль окостеневшего тела носовой платок, чековую книжку, паспорт – что еще? Ничего – и приколол к подушке записку с просьбой уложить его вещи и отправить на адрес отца. Сына снесло лавиной, шляпы не найдено, презервативы пожертвованы Дому престарелых проводников. Теперь почти через восемь десятков лет все это звучит глупо и смешно – но в тот момент он был мертвец под маской вымышленного сновидца. Крякнув, чертыхнувшись на колено, склонился на накатанном снегу у края склона затянуть лыжные крепления, но лыжи исчезли, крепления обернулись шнурками ботинок, а склон – лестницей.
Ван спустился вниз, прошел в конюшню и сказал юному конюху, такому же сонному, как и он сам, что хотел бы через пару минут отправиться на станцию. Конюх обалдело уставился на Вана, и тот рявкнул на него.
Часы! Вернулся к гамаку, где они висели на ремешке. Возвращаясь в конюшню и обходя дом, он все-таки поднял взгляд наверх и увидел темноволосую девушку лет шестнадцати или около того, в желтых брючках и черном болеро, она стояла на балконе и махала ему. Она подавала ему лаконичные знаки, широким пространным жестом указывая на безоблачное небо (какое безоблачное небо!), на цветущую верхушку жакаранды (голубую! цветущую!) и воздетую, поставленную на парапет босую ножку (только сандалии надеть!). К собственному ужасу и стыду Ван обнаружил, что Ван ждет, когда она спустится вниз.
Она, как ветер, летела к нему через блестевшую радужной росой лужайку.
– Ван, – начала Ада, – хочу рассказать тебе, пока не забыла, свой сон! Мы вдвоем высоко в Альпах… Господи, почему ты в дорожном костюме?
– Ну что ж, скажу, – медленно, как во сне, начал Ван, – скажу тебе почему. Из скромного, но заслуживающего доверия сточника, то есть прости мне мой выговор, источника, я только что узнал qu'on vous culbute[307]307
Как тебя валяют (фр.).
[Закрыть] под каждым забором. Не подскажешь ли, где найти твоего поваляшку?
– Нигде, – отвечала она совершенно ровным тоном, игнорируя или не улавливая грубость в его словах, ибо всегда знала, не сегодня-завтра грянет гром, что это вопрос времени или, вернее, того, как распорядится временем судьба.
– Но ведь есть же он, есть, – пробормотал Ван, уставившись на радужную паутинку на траве под ногами.
– Предположим, – высокомерно сказала Ада. – Однако вчера он отбыл куда-то в Грецию или Турцию. Больше того, если тебе от этого легче, он ищет во что бы то ни стало смерти в сражении. Но послушай, послушай! Все эти лесные прогулки ничего не значат. Ван, погоди! Я проявила слабость всего лишь раза два, когда ты так дико его оскорбил, ну, может, три, только и всего. Прошу тебя! Это сразу объяснить невозможно, но постепенно ты все поймешь. Не все так счастливы, как мы с тобой. Он такой жалкий, одинокий, неприкаянный. Всем нам нести свой крест, но у иных он тяжелей. Я больше никогда его не увижу. Для меня он ничто, клянусь тебе. Просто он меня обожает буквально до умопомрачения.
– По-моему, – произнес Ван, – мы не о том любовнике говорим. Я имел в виду герра Рака, обладателя таких впечатляющих десен и также обожающего тебя до умопомрачения.
Повернувшись, как принято говорить, на каблуках, Ван направился к дому.
Он мог поклясться, что не оборачивался, что он не мог – с помощью какой-либо оптики или призмы – зримо представить ее, когда удалялся прочь; и все же с ужасающей отчетливостью и навсегда осталась в его памяти картина, запечатлевшая ее на том месте, где он ее оставил. Эта картина – проникшая в него каким-то задним зрением, по стекловидному позвоночному каналу и оставшаяся зримой навеки, навеки, – вмещала выбранные наугад и слившиеся воедино те ее образы и лики, которые отзывались в нем мукой невыносимого раскаяния за всякое, что осталось в прошлом. Размолвки между ними были недолгими, случались нечасто, но все же их было достаточно, чтоб составить немеркнущую мозаику. Однажды она стояла, прислонившись спиной к стволу дерева, выслушивая обвинение в измене; однажды он не захотел показывать ей дурацкие снимки из Чуза с изображением шлюшек и со злостью порвал их, а Ада отвернулась, помрачнев, прищуром уставилась куда-то вдаль, в окно. А однажды она замерла в нерешительности, моргая, не смея сказать вслух, ожидая, что он вот-вот негодующе взорвется на ее ханжескую избирательность к словам, после того как бесцеремонно и дерзко предложил ей подыскать рифму к слову «пертурбация», а она прикидывала, то ли неприличное слово он при этом имел в виду и как оно правильно произносится. Но пожалуй, гнусней всего был тот случай, когда она стояла, перебирая в руках собранные полевые цветы, легкая полуулыбка, не успев потухнуть, слепком застыла в глазах, губы сжаты, голова как-то неопределенно покачивается, как бы фиксируя намеренными кивочками втайне принимаемые решения, какие-то тайные соглашения с самой собой, с ним, и с другими неизвестными, с тех пор прозванными Безутешность, Никчемность, Несправедливость, – а он позволил себе грубо взорваться, взвившись от ее предложения, – такого ненавязчивого, как бы между прочим (будто предлагала пройтись краем болотца, взглянуть, не возникнет ли вдруг некая орхидея) – навестить могилку Кролика на кладбище, мимо которого они проходили, – вот тут он ни с того ни с сего принялся орать («Знаешь ведь, терпеть не могу кладбища, ненавижу, презираю смерть, мертвецов – эту пародию жизни, не желаю пялиться на камень, под которым гниют кости пухлявого крольчишки-полячишки, пусть себе с миром кормит червей, энтомология смерти не для меня, я ненавижу, я презираю…»); еще пару минут длилась эта тирада, после чего он буквально пал к Адиным ногам, целуя их, моля о прощении, он смолк, а она все смотрела на него пристально, задумчиво.
Таковы некоторые фрагменты этой мозаики, были и другие, еще более тривиальные; но, сливаясь воедино, безобидные эпизоды образовывали смертоносное единство: девушка в желтых брючках и черном жакете стоит, заложив руки за спину, слегка поводя плечами, то ближе к стволу, то чуть отпрянув, откидывая волосы назад, – и эта явственная картина, которой в действительности он не видал, была в сознании Вана живей любого реального воспоминания.
Марина в кимоно и бигуди стояла у крыльца в окружении прислуги и задавала вопросы, на которые, пожалуй, никто ответить не мог.
– Марина, – сказал Ван, – не сбегаю я с твоей горничной. Это обман зрения. Причины, по которым она тебя покидает, не имеют ко мне никакого отношения. У меня остались кое-какие дела, которые я, как идиот, забросил, а теперь, перед отъездом в Париж, к ним необходимо вернуться.
– Ада доставляет мне столько волнений, – проговорила Марина, удрученно потупив взгляд и по-русски подрагивая щеками. – Прошу тебя, приезжай как только сможешь! Ты оказываешь на нее такое благотворное влияние. Аи revoir![308]308
Прощай! (фр.)
[Закрыть] Да ну вас всех!
Подхватив подол, она поднялась по ступенькам крыльца. Смирный серебристый дракон у нее на спине, как утверждала старшая просвещенная дочь, дразнился языком муравьеда. Что знала бедная ее мамаша о всяких «П. де П.» и «Р.»? Вряд ли хоть что-нибудь.
Ван пожал руку расстроенному старому дворецкому, поблагодарил Бута за поднесенные трость с серебряным набалдашником и перчатки, кивнул прочим слугам и зашагал к экипажу, запряженному парой. Стоявшая поодаль Бланш в длинной серой юбке и соломенной шляпке, с дешевым саквояжем, выкрашенным под красное дерево и перевязанным для верности крест-накрест бечевкой, была точь-в-точь отправляющаяся учительствовать юная мисс из фильма о жизни Дикого Запада. Бланш сказала, что сядет на облучок рядом с русским кучером, однако Ван препроводил ее в calèche.
Они ехали вдоль колышущихся полей ржи, расцвеченной, точно конфетти, маками и васильками. Всю дорогу Бланш журчала тихо, словно в трансе, словно en rapport[309]309
Вступившая в связь (фр.).
[Закрыть] с духом усопшего менестреля, о молодой барышне и о двух ее последних любовниках. Всего лишь давеча, из-за того густого ельника, поглядите-ка направо, вон туда (но он головы не повернул – сидел молча, взявшись обеими руками за набалдашник трости), они с сестрицей Мадлон при бутылке вина видали, как месье граф обхаживал молодую барышню среди мха, набрасывался на нее, как дикий медведь, как он набрасывался – и столько раз! – и на Мадлон, она-то и велела Бланш, чтоб предупредила Вана, потому что было ей ой как досадно, но еще она сказала – вот ведь добрая душа! – лучше до поры не говорить, пока наш «Мальбрук» не s'en va t'en guerre[310]310
Отправится в поход (фр.).
[Закрыть], иначе они сцепятся; граф все утро пулял по огородному пугалу из пистолета, вот почему Бланш долго не высказывалась, это Мадлон решила, не она. Бланш все молола и молола языком, пока не доехали до селения Турбьер с домишками в два рядка и темной церковкой с витражными окнами. Ван помог Бланш слезть с коляски. Младшая из трех сестер, маленькая каштановокудрая красавица с похотливыми глазками и торчащими грудками (где-то он уж видал ее? – недавно ведь, но где?) понесла саквояж Бланш и клетку с птичкой в бедную хижину, хоть и потонувшую в сплетении роз, но удручающе унылую. Чмокнув несмелую ручку Золушки, Ван вернулся на свое место в коляске, откашлялся, одернул брюки, перед тем как закинуть ногу на ногу. Вотще, Ван Вин!