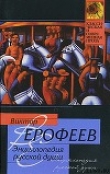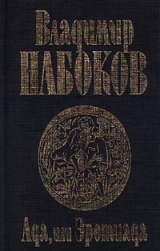
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
Драконово драже утратило действие: последствия его неприятны своим соединением физической усталости с некой оголенностью мысли, как будто все краски вытекают из сознания. Облаченный на этот раз в серый халат, Демон лежал на серой кушетке в своем кабинете на третьем этаже. Сын его стоял у окна спиной к повисшему молчанию. Точно под ними, в обитой дамастом комнате на втором этаже, ждала Ада, прибывшая вместе с Ваном пару минут назад. Ровно напротив кабинетных окон, в раскрытом окне небоскреба по ту сторону улицы, стоял некто в фартуке и, устанавливая мольберт, водил подбородком в поисках нужного ракурса.
Первым, что произнес Демон, было:
– Настоятельно прошу смотреть на меня, когда я с тобой разговариваю!
Ван понял, что в отцовском сознании роковой разговор уже, должно быть, начался, ибо данное предуведомление имело отзвук самопрерывания, и, кивнув едва заметно, присел на стул.
– Однако прежде чем уведомить тебя о двух обстоятельствах, мне бы хотелось знать, как давно это… как давно это случилось… («продолжается», подразумевалось здесь или что-либо равно банальное, хотя, собственно, всякий конец банален – виселица, железное жало старой Нюрнбергской Девы{139}, пуля в висок, предсмертные слова в сияющей новизной ладорской лечебнице, провал в бездну глубиной в три тысячи футов вместо того, чтоб, рванув дверцу, шагнуть в аэротуалет, яд из рук жены, ожидание толики крымского гостеприимства, поздравления мистеру и миссис Виноземским…)
– Почти девять лет, – отвечал Ван. – Я соблазнил ее летом тысяча восемьсот восемьдесят четвертого. За исключением единственного случая, наша любовь прервалась тогда до лета тысяча восемьсот восемьдесят восьмого. После долгой разлуки мы вместе провели зиму. В общей сложности, наверное, я имел ее около тысячи раз. В ней вся моя жизнь.
В ответ на это хорошо отрепетированное выступление последовала затянувшаяся пауза, сродни той, что возникает, когда партнер забывает текст роли.
Демон, наконец:
– Второе обстоятельство скорей всего потрясет тебя более, чем первое. Да, мне оно доставило гораздо более беспокойств – моральных, разумеется, не денежных, – чем в случае с Адой, – о чем ее мать в конце концов известила кузена Дэна, так что в некотором смысле…
Пауза, где-то в недрах сочится вода.
– Как-нибудь в другой раз расскажу тебе про Черного Миллера; не теперь; слишком банально.
(Супруга д-ра Лапинэ, урожденная графиня Альп, не просто кинула его в 1871 году, променяв на Норберта фон Миллера, поэта-дилетанта, переводчика русского языка при итальянском консульстве в Женеве, а по призванию контрабандиста неонегрином (находимым исключительно в Валэ), но также поведала своему любовнику мелодраматические подробности ухищрений, каковые, как полагал отзывчивый лекарь, вне сомнения, отзовутся благом для одной знатной дамы и блаженством для другой. Даровитый Норберт, говоривший по-английски с причудливым акцентом, испытывал неуемное восхищение перед состоятельной публикой и, козыряя знакомством с видной персоной, неизменно с чувством благоговейного восхищения подчеркивал: «голоса-ально богат», откидываясь назад в своем кресле и широко разводя в стороны округленные руки, демонстрируя необъятность огромных капиталов. Был он лыс, как коленка, имел вдавленный, как у черепа, нос, и руки – такие белые, такие мягкие, такие влажные, и пальцы в сверкающих перстнях. Любовница скоро бросила его. Доктор Лапинэ скончался в 1872 году. Примерно тогда же наш фон барон, женившись на целомудренной дочке трактирщика, взялся шантажировать Демона Вина; это длилось лет двадцать, пока стареющего Миллера не пристрелил итальянский полицейский на малоизвестной приграничной горной тропе, которая год от года становилась все круче и все грязней. Из чистой доброты или по привычке Демон наказал своему адвокату продолжать отсылать каждые три месяца Миллеровой вдове – наивно воспринявшей перевод за выплату страховки – сумму, вздувавшуюся с каждой беременностью дюжей швейцарки. Демон часто повторял, что когда-нибудь издаст «Черномиллеровы» четверостишия, украшавшие его записи своей созвучностью стишкам из календаря:
Жена дородна, я ж не вышел телом,
Детей печем, что плюшки, между делом.
Пусть приговор не будет ваш суров —
В ту печку столько надо дров!
Добавим, чтоб завершить сей небесполезный вводный эпизод, что в начале февраля 1893 г. не успел наш поэт скончаться, как уж двое других, менее удачливых шантажистов поджидали в кулисах: Ким, который снова бы наведался к Аде, если б не выволокли его из собственного загородного дома с одним глазом – повисшим на алой ниточке, с другим – утопающим в крови; а также сынок одного из бывших служащих знаменитого агентства по рассылке тайных посланий – уже после закрытия его в 1928 г. правительством США; так что розовые надежды мошенников второго поколения удовлетворились лишь пуком тюремной соломы.)
– Непостижимо, с каким спокойствием, Ван, ты выслушиваешь то, что я сообщаю тебе! Не припомню случая, ни в натуре, ни в литературе, чтоб отец когда-нибудь говорил с сыном о таких вещах и в таких обстоятельствах. Между тем ты играешь карандашом с такой, казалось бы, невозмутимостью, будто мы обсуждаем твой карточный долг или притязания обрюхаченной тобой грязной девки.
Сказать ему про гербарий, найденный на чердаке? Или о неосторожности (не называя имен) прислуги? О подделке свадебной даты? Обо всем, что с такой радостью подсобрали двое смышленых ребятишек? Скажу. И сказал. Добавив к сказанному:
– Ей было двенадцать, мне, самцу-примату, четырнадцать с половиной, мы ни о чем не задумывались. А теперь уж задумываться слишком поздно.
– Слишком поздно? – вскричал отец, переходя в сидячее положение на кушетке.
– Пожалуйста, папа, не выходи из себя, – сказал Ван. – Как я заметил тебе однажды, природа милостива ко мне. Мы во всех смыслах можем позволить себе не задумываться.
– Дело не в семантике… или осеменении. Важно одно и только одно. Еще совсем не поздно прекратить эту низкую связь…
– Прошу без крика и без мещанских эпитетов! – прервал его Ван.
– Хорошо, – сказал Демон, – беру обратно свое определение, но задаю вместо этого вопрос: неужели слишком поздно воспрепятствовать тому, чтоб твоя связь с сестрой погубила ей жизнь?
Ван знал, что такое последует. Я знал, сказал он, что это последует. От «низкой» убереглись; не разъяснит ли обвинитель смысл слова «погубить»?
С этого момента беседа приняла некую неопределенность, оказавшуюся куда страшней предварительного признания вины, за что наши юные любовники уже давно простили своих родителей. Как Ван представляет себе продолжение сестрой ее сценической карьеры? Допускает ли он, что карьера окажется загубленной, если связь их не прекратится? Осознает ли, что придется всю жизнь укрываться в роскошном изгнании? Неужто готов лишить сестру естественных потребностей, нормального замужества? Детей? Естественных человеческих радостей?
– Не забудь о «естественном прелюбодействе»! – вставил Ван.
– Что было бы много предпочтительней! – заметил мрачно Демон, сидя на краю кушетки, подперев кулаками щеки, локтями упершись в колени. – Весь ужас в том, что, чем больше я об этом думаю, тем бездонней кажется разверзшаяся пропасть. Ты вынуждаешь меня вспоминать такие заезженные понятия, как «семья», «честь», «положение», «закон»… Да что там, хоть в необузданной жизни своей я подкупал множество всяких чиновников, все же ни ты, ни я не способны умастить взяткой целую страну, целую культуру! Да и каково мне было услыхать, что вот уж десять лет как ты и это прелестное дитя обманываете родителей…
Тут Ван ожидал, что отца повлечет в направлении «это-может-убить-твою-мать», однако у Демона хватило ума удержаться. «Убить» Марину не способно ничто. Если и дошли до нее какие слухи о кровосмесительстве, поглощенность «душевным спокойствием» наверняка помогла бы ей пропустить их мимо ушей – или на крайний случай романтически вычленить из реальной жизни. И отец, и сын знали это. Возникнув на миг, Маринин образ с легкостью улетучился восвояси.
– Лишить тебя наследства я не могу, – продолжал Демон, – Аква завещала тебе достаточно «деньжат» и недвижимости, чтоб отвести причитающееся тебе наказание. И я не могу донести на тебя властям, не затронув чести собственной дочери, которую намерен защитить любой ценой. Но вот что я могу и должен сделать, я прокляну тебя, и пусть это будет наш последний, наш последний…
Тут Ван, бесконечно водивший взад-вперед пальцем по безгласному, но успокаивающе гладкому краю столика красного дерева, внезапно с ужасом услыхал рыдания, сотрясшие Демона с головы до ног, и вот уж слезы потоком хлынули по его впалым, загорелым щекам. В любительском лицедействе в день рождения Вана пятнадцать лет тому назад Демон, выступая в роли Бориса Годунова, разразился странными, пугающими, угольно-черными слезами, а потом покатился по ступенькам нелепого трона, в смертельном порыве неодолимо притягиваясь к земле.{140} Может, эти темные струйки из нынешнего спектакля от черной краски у глаз, на ресницах, веках, бровях? Шут, игрок… бледная роковая дева в другой известной мелодраме… В этой Ван сунул исполнителю чистый носовой платок взамен его грязной тряпки. Собственное хладное спокойствие нисколько не удивляло Вана. Сама нелепость совместного с отцом плача блокировала привычное извержение чувств.
Демон вернул себе прежний вид (если не моложавость) и сказал:
– Я верю в тебя и твой здравый смысл. Ты не должен позволять старому развратнику отречься от собственного сына. Если ты ее любишь, значит, желаешь ей счастья, а она не будет счастлива по-настоящему, если ты потом ее бросишь. Ступай. Будешь спускаться, скажи ей, чтоб пришла сюда.
По лестнице. Мое первое – повозка, в спицы колес которой вплетаются смятые ромашки; мое второе – слово «деньги» на старо Манхэттенском жаргоне, а вместо нутра – сплошная дыра.
Проходя по площадке второго этажа, Ван увидел сквозь арочный проем Аду в черном платье – спиной к нему, в глубине будуара у овального окна. Ван сказал лакею, чтоб передал ей просьбу отца и чуть ли не бегом припустил через гулкий, одетый камнем вестибюль.
Мое второе еще и место, где сходятся два крутых склона. Правый нижний ящик моего практически ненужного нового письменного стола – размером примерно с отцовский; с приветом от Зига.
Прикинул: в этот час что ловить такси, что пройти пешком десять кварталов до Алекс-авеню обычным своим быстрым шагом – времени примерно одинаково. Он был без пальто, без галстука, без шляпы; сильный, пронзительный ветер слезистой изморозью застлал глаза, привел в горгоно-медузий хаос черные кудри. В последний раз входя в свои дурацки жизнерадостные апартаменты, он сразу же присел за тот самый роскошный письменный стол и написал следующую записку:
«Сделай так, как он говорит. Логика его преабсурдна, пред(sic!)исполнена туманом „викторианства“, как принято у них на Терре, по „моему неразумению“ [?], хотя в приступе [неразборчиво] я внезапно осознал, что он прав. Да, да, прав, там и сям, не вовсе некстати, как частенько случается. Сама понимаешь, девочка, что и зачем и как быть должно. В том последнем, что видели мы вместе, окне, некто рисовал [нас?], хотя с твоего второго этажа, наверное, тебе было не видать, что он в ужасно заляпанном фартуке мясника. Прощай, девочка!»
Ван запечатал письмо, нашел именно там, где ожидал, пистолет марки «Громобой», вставил в магазин один патрон, перевел в ствол. Затем, подойдя к зеркалу стенного шкафа, подвел дуло к виску на уровне птериона{141} и нажал ладно льнущий к пальцу курок. Ничего не случилось – или, точнее, случилось все, и судьба его попросту в тот миг раскололась, как, вероятно, случается иногда по ночам, в особенности в чужой постели, в моменты наивысшего счастья или наивысшего одиночества, когда доводится умереть во сне, но продолжать без ощутимого прерывания мнимого сериала свое земное существование на следующее, аккуратно заготовленное утро при ненавязчиво, но плотно прилепленном сзади фиктивном прошлом. Словом, то, что держал он в правой руке, уже был не револьвер, а карманная расческа, которой он провел по волосам у висков. Уже начавших седеть к тому времени, когда Ада, ей уж было за тридцать, произнесла во время совместного разговора об их добровольном расставании:
– Я бы, верно, тоже застрелилась, если бы увидела, как Роза вьется над твоим трупом. «Secondes pensées sont les bonnes»[434]434
Буквально: «Задние мысли – наивернейшие». Можно понимать и как: «Задние мысли – прислужницы» (фр.).
[Закрыть], как другая твоя, беленькая bonne[435]435
Прислужница (фр.).
[Закрыть] с ее прелестным местным выговором любила повторять. Что до фартука, ты совершенно прав. Но вот чего не подметил ты: ведь тот художник почти закончил большую картину с изображением твоего маленького палаццо, смиренно застывшего меж двух гигантских стражей. Возможно, для обложки журнала, отвергшего предложенную им картину… Но, знаешь ли, об одном я жалею, – добавила она. – О том, что ты с помощью альпенштока собирался избавиться от звериной ярости – не твоей, не Вановой. Зря я рассказала тебе про того ладорского полицейского. Зря ты доверился ему, не надо было с ним вместе сжигать те бумаги – и почти дотла сосновую рощу в Калугано. Это унизительно (it is humiliating).
– Воздана компенсация, – отвечал тучный Ван с утробным смешком. – Ким моими стараниями в тепле и при уходе содержится в превосходном Доме для инвалидов-интеллигентов, где получает от меня тонны превосходных книг для слепых о новых явлениях в хромофотографии.
Существуют и иные возможные ответвления и протяжения, свойственные грезящему сознанию, но довольно пока и названного.
Часть третья
1Он странствовал, исследовал, учил.
Обозревал пирамиды Ладораха (посетил которые в основном из-за названия) при полной луне, серебрившей пески, выложенные резкими черными тенями. Охотился на озере Ван с британским губернатором Армении и его племянницей. Стоило хозяину гостиницы на берегу залива Сидра с веранды показать, как догоравший оранжевый закат золотит рыбьей чешуей лавандовую рябь моря, – и это зрелище своей красотой затмило Вану неудобство обитания в тесных и убогих комнатенках, которые приходилось делить с секретаршей, юной леди Скрэмбл. На террасе в ином месте, с видом на другой легендарный залив, любимая плясунья местного шаха Эбертелла Браун (существо, наивно полагавшее, что «муки страсти» и секс – понятия родственные), расплескала утренний кофе при виде длиннющей, в шесть дюймов, усеянной клоками лисьей шерсти гусеницы, qui rampait[436]436
Которая ползла (фр.).
[Закрыть], медленно продвигаясь по балюстраде, и вот замерла, свернувшись, тут Ван ее и подхватил и потом целую вечность, уже после того, как прелестная мохнатка была выдворена в кусты, с мрачным видом извлекал плясуньиным пинцетом яркие волоски, впившиеся жалом в кончики пальцев.
Он научился ценить особый легкий трепет блуждания темными проулками чужих городов, заведомо зная, что ничего хорошего там нет, только грязища, тоска, жестянки-«мериканки» из-под пива «Билли» да звяканье завезенного сюда джаза в сифилитичных кафе. Порой Вану казалось, что эти прославленные города, эти музеи, древние камеры пыток и висячие сады – всего лишь вехи на карте его расстроенного сознания.
Он с удовольствием писал книги («Неразборчивые подписи», 1895; «Живуайеризм»{142}, 1903; «Укомплектованное пространство», 1913; начатую в 1922 году «Ткань времени») – в горной хижине, в салон-вагоне трансконтинентального экспресса, на верхней палубе белого лайнера, за каменным столом римского публичного парка. Разворачиваясь свернутым в долгом трансе сознанием, Ван мог вдруг с удивлением отметить, что судно движется вовсе не в ту сторону или что пальцы на левой руке расположились в обратном порядке, и если по часовой стрелке, то левая кисть начинается, как и правая, с большого пальца, или что заглядывавший ему через плечо мраморный Меркурий обернулся любопытствующей туей. Он мог вспомнить разом и внезапно: что в первом периоде разлук три года, семь, тринадцать лет, а во втором – четыре года, восемь, шестнадцать лет отделяло его от дней, когда обнимал, любил, орошал слезами Аду.
Цифры, ряды и последовательности – кошмаром и проклятием терзавшие чистоту мысли и времени, – казалось, задались целью превратить его мозг в отлаженную машину. Три стихии: огонь, вода и воздух – погубили, и именно в таком порядке, Марину, Люсетт и Демона. Терра была на очереди.
Отмахнувшись от несуразной жизни со своим супругом, так кстати перекочевавшим в покойники, и уединившись на по-прежнему ослепительной, дивно оснащенной челядью вилле на Лазурном берегу (той, что когда-то подарил ей Демон), мать Вана семь лет все мучилась разными «непонятными» болезнями, которые окружающие считали надуманными или талантливо разыгранными, но которые, по ее убеждению и отчасти на самом деле, излечивались силою воли. Ван навещал мать реже, чем самоотверженная Люсетт, с которой мельком два-три раза там встречался; а однажды в 1899 году средь лавров и земляничных деревьев сада Виллы Армина он столкнулся со старым бородатым православным попом в черной рясе, на мопеде колесившим с виллы в Ниццу, в свой приход у теннисных кортов. Марина беседовала с Ваном о религии, о Терре, о Театре, но никогда об Аде, и он не догадывался, что она знает про все ужасы и страсти Ардиса, да и кто мог подозревать, какую боль своих кровоточащих недр она пыталась заглушить то магией слов, то «самоуглублением» или обратным ему средством – «саморазжижением». С загадочной и даже самодовольной улыбкой она признавалась, что, как ни милы ей мерные, голубоватые попыхивания кадила, сочные раскаты дьякона с амвона и масляно-бурые иконы, облаченные в защитные оклады, подставленные поцелуям правоверных, все ж душу она, наперекор (in spite of) Даше Виноземской, раз и навсегда отдала индуизму с его высшей мудростью.
Однажды ночью в начале 1900 года, за несколько дней до того, как он в последний раз видел Марину в клинике Ниццы (где впервые и узнал название ее болезни), Вану привиделся «словесный» сон-кошмар, вызванный, быть может, мускусным запахом мирамасской Виллы Венера (Буш Руж-дю-Рон). Два жирных бесформенных прозрачных существа что-то меж собой обсуждали, один все повторял «Не могу!» (подразумевалось «не могу умереть» – задача непростая, если исходить из одного лишь желания, не полагаясь на помощь кинжала, пули или кубка), а другой убеждал: «Сможете, сэр!». Марина умерла через две недели, и тело, во исполнение ее воли, было сожжено.
Как человек здравомыслящий, Ван отдавал себе отчет, что морально он слабее, чем физически. Ему пожизненно суждено было (вплоть до шестидесятых годов нашего столетия) немалым усилием подавлять в сознании ничтожный, трусливый или глупый поступок (вот-вот, кто знает, быть может, рога, наставленные позже, можно было наставить еще тогда, средь зелени кустов, подзелененных светом зеленых фонарей, у отеля, где остановились Виноземские), скрепя сердце вспоминать, как на пришедшую в Кингстон каблограмму Люсетт из Ниццы («Мама скончалась нынче утром похороны тире кремация тире состоятся послезавтра на вечерней заре») ответил, чтоб сообщила («сообщи, пожалуйста»), кто ожидается на похоронах, и как на ее краткое извещение, что Демон уж прибыл с Андреем и Адой, отозвался каблограммой: «Désolé de ne pouvoir être avec vous»[437]437
Сожалею, что не смогу с вами быть (фр.).
[Закрыть].
Он бродил по кингстонскому парку Каскадилья средь будоражащей сладкой суеты весенних сумерек, таких по-неземному покойных после шквала каблограмм. В последний раз, когда он видел ссохнувшуюся мумией Марину, когда сказал ей, что ему пора возвращаться в Америку (хоть особой спешки не было – просто запах стоял в палате такой, что никаким ветром не выветришь), та спросила, глядя на него по-новому светло, близоруко, взглядом в себя: «Может, не сейчас, а когда меня не станет?»; а Ван сказал: «Вернусь двадцать пятого. Нужно готовить выступление: „Психология самоубийства“»; а она сказала, подчеркивая, когда уж все истинное в родстве было tripitaka (надежно запаковано): «Так расскажи им про глупую твою тетку Акву», на что он с дурацкой ухмылкой кивнул, не удостоив ее даже ответным: «Да-да, матушка!». Съежившись в последнем луче догоравшего солнца на той самой скамье, где недавно миловал и осквернял одну из любимых студенток – долговязую и неуклюжую негритяночку, Ван изводил себя укорами в скудной сыновней любви – бесконечным раскаянием в невнимании, насмешливой пренебрежительности, физической антипатии и привычном отмахивании. Он озирался вокруг, в своем истовом раскаянии желая, чтоб дух ее подал ему недвусмысленный, этакий все по местам расстанавливающий знак, будто продолжается существование за завесой времени, за плотными пределами пространства. Но не было ему ответа, ни единый лепесток не упал на скамью, ни единая мошка не присела на руку. Он не понимал, что ж все-таки не дает ему умереть на ужасной Антитерре, если Терра – миф, а все искусство – игра, если все утратило значение с того дня, как он смазал Валерио по теплой, колючей щеке; и откуда, из какого кладезя надежд он до сих пор черпает дрожащую звезду, если все обрывается агонией отчаяния, если другой повсюду с Адой в ее спальне.