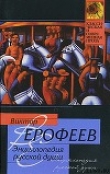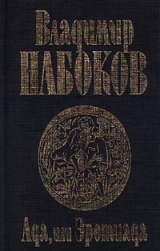
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц)
Год 1880 (Аква еще – как-то и где-то! – была жива) явился в его долгой-долгой, но все же не до бесконечности долгой жизни самым запоминающимся, самым выдающимся годом. Ему десять лет. Они с отцом по-прежнему живут где-то на том Западе, многоцветие гор которого действовало на Вана, как на всякого одаренного русского мальчика. Он мог быстрей чем за двадцать минут решить любую задачку из предложенных Эйлером или выучить наизусть поэму Пушкина «Всадник без головы». Вместе с облаченным в белую блузу, взопревшим от восторженности Андреем Андреевичем Ван часами просиживал в фиалковой тени розовых скал, изучая творения великих и малых русских писателей, – при этом выуживая из иной, описанной бриллиантовыми россыпями лермонтовских тетраметров жизни несколько утрированные, однако в целом комплиментарные намеки на любовные порхания и похождения своего отца. Ван с трудом сдерживал слезы, когда А.А.А., звучно сморкаясь, утирая платком свой мясистый, красный нос, показывал мальчику запечатленный в гипсе отпечаток по-крестьянски босой ступни{63} Толстого на автоплощадке в Юте, где и была написана история Мюрата, предводителя племени навахо, побочного сына французского генерала, застреленного в бассейне Корой Дэй. Что за сопрано было у Коры! Демон возил Вана во всемирно известную Оперу в Теллурид, находящийся в Западном Колорадо, где Ван наслаждался (хотя, случалось, и возмущался) грандиозными всемирными постановками – белым стихом английских пьес, рифмованными двустишиями французских трагедий, громоподобными германскими музыкальными драмами с великанами, чародеями и испражнявшейся белой лошадью.{64} Ван прошел через всевозможные увлечения – кабинет магии, шахматы, ярмарочную борьбу в наилегчайшем весе, джигитовку – и, конечно же, были незабываемые, весьма ранние начинания, когда молоденькая хорошенькая гувернантка-англичанка со знанием дела миловала его в промежутке между молочным коктейлем и постелью, – миленькие юбки, маленькие грудки – в стадии переодевания к предстоящему выходу с сестрой и Демоном, а также мистером Планкеттом, спутником Демона в его походах по казино, его телохранителем и ангелом-хранителем, его советчиком и наставником, в прошлом картежником-плутом.
В зените своей авантюрной славы мистер Планкетт считался одним из величайших шулеров Англии и Америки, вежливо именуемых «магами азартной игры». Однажды его в возрасте сорока лет, как раз в разгар увлеченной партии в покер, подвел сердечный приступ (позволивший, увы, менее удачливому противнику запустить грязные руки в его карманы), отправив нашего героя в беспамятство, а затем и в тюрьму на несколько лет, которая вновь возвратила его в лоно католической веры предков и после которой он увлекся миссионерством, написал пособие для начинающих фокусников, вел в разных газетах колонки, посвященные игре в бридж, и в помощь полиции предпринял некую сыскную работу (отдав к тому же полицейской службе двух доблестных своих сыновей). Жестокосердное и жестко взыскательное время вкупе с тайным хирургическим вмешательством во изменение неприглядных черт сделали его наружность не то чтобы привлекательной, но по крайней мере неузнаваемой для всех, за исключением горстки старых закадычных друзей, теперь, впрочем, взиравших на него с прохладцей и обходивших стороной. Мистер Планкетт восхищал Вана даже больше, чем Кинг Уинг. Грубоватый, но добродушный Планкетт не мог этим обожанием не воспользоваться (все мы падки на внимание к нам), чтобы обучить Вана премудростям своего искусства, ныне сделавшегося чистой абстракцией и оттого приобретшего истинность. Мистер Планкетт считал, что использование всевозможных механических приспособлений, зеркал и пошлых «загребаний в рукав» непременно приведет к разоблачению, ну а всякие студенистые массы, кисея, резиновые руки и тому подобное пятнают и укорачивают карьеру медиума-профессионала. Он указал Вану, что именно следует высматривать, если опасаешься, что рядом хорошо оснащенный мошенник (подобных дилетантов, среди которых попадаются даже почтенные завсегдатаи клубов, профессионалы зовут «рождественскими елками» или «мерцалками»). Мистер Планкетт верил только в ловкость рук; потайные карманы – вещь полезная (хоть и подверженная выворачиванию и, значит, опасная). Самым же важным было «чувство» карты, пластичность утаивавшей ее ладони, ловкость пальцев, искусство подтасовки, смахивания карт, передергивания, предопределенность сдачи, однако превыше всего мистер Планкетт ценил игру пальцев, которая, при известной практике, приводила к исчезновению карт на глазах, или, наоборот, к внезапной материализации джокера или же превращению двух пар в четырех королей. При тайном использовании второй колоды железным правилом, пока не готовы руки, было запомнить сброшенные карты. Поупражнявшись пару месяцев с карточными трюками, Ван обратился к иным развлечениям. Сей ученик молниеносно все усваивал и хранил снабженные этикеткой препараты в прохладном месте.
Завершив в 1885 году школьное образование, Ван отправился учиться в Англию, в университет Чуз{65}, где учились его предки, и время от времени наведывался в Лондон или в Лют (как преуспевающие, однако не слишком утонченные жители Британских колоний именовали этот прелестный и грустный, перламутрово-серый город по ту сторону Ла-Манша).
Как-то раз зимой 1886-87 гг. в отчаянно промерзшем Чузе, играя в покер с двумя студентами-французами и своим сокурсником, назовем его Дик, в элегантно обставленных апартаментах последнего в Сиренити-Корт, Ван смекнул, что двойняшки-французы проигрывают не только потому, что беспробудно и безнадежно пьяны, но и потому, что «милорд», этот, как сказал бы Планкетт, «сверкающий кретин», оказался человеком с тысячью зеркал – крошечные отражающие поверхности всевозможной формы, направленные под разным углом, то и дело посверкивая от ручных часов, от перстня с печаткой, были разбросаны повсюду, точно самки светляков средь пролеска, мостясь на ножках стола, на запонках или лацканах, на кромках пепельниц, и без зазрения совести поворачивались Диком шарнирами в любую сторону – такие штучки любой карточный шулер назвал бы не только излишеством, но и бессмыслицей.
Выждав подходящий момент и проиграв при этом несколько тысяч, Ван решился воплотить на практике несколько уроков из прошлого. В игре наступил перерыв. Поднявшись, Дик направился к переговорной трубке в углу комнаты, чтоб заказать еще вина. Близнецы-неудачники то и дело передавали друг дружке, сжимая и разжимая трясущимися пальцами, авторучку, подсчитывая свой проигрыш, оказавшийся крупнее, чем Ванов. Потихоньку опустив в карман колоду карт, Ван поднялся, расправляя онемевшие могучие плечи.
– Скажи-ка, Дик, встречался ты когда-нибудь в Штатах с картежником по имени Планкетт? Помнится, он такой седоватый, с лысиной.
– Планкетт? Планкетт… Должно быть, я позже приехал. Не тот, который после всего заделался священником или что-то в этом духе? А почему ты спрашиваешь?
– Он приятель отца. Уж это артист!
– Артист?
– Ну да, артист. И я артист. Думаю, и ты про себя думаешь, что артист. И не ты один.
– Что ты имеешь в виду под словом «артист»?
– Подпольную обсерваторию, – без промедления парировал Ван.
– Это фраза из новейшего романа? – осведомился Дик, делая пару жадных затяжек и гася сигарету.
– Это из Вана Вина, – сказал Ван Вин.
Дик снова направился к столу. Слуга внес в комнату вино. Удалившись в ватерклозет, Ван принялся «врачевать» колоду, как именовал этот процесс старина Планкетт. Вспомнил, что в последний раз проделывал с картами чудеса, демонстрируя Демону, у которого увлеченность сына покером одобрения не вызвала. Ах да, еще когда развлекал безумного фокусника в больничной палате. Того, который свихнулся от мысли, что сила земного притяжения как-то связана с циркуляцией крови Всевышнего.
Ван был совершенно уверен в своем мастерстве – как и в глупости милорда, – однако сомневался, что сможет долго продержаться. Ему было жаль Дика, который, хоть и жулик-любитель, все же славный, болезненного вида малый, с пастозной физиономией и дряблой кожей – дунешь и упадет, к тому же Дик твердил во всеуслышание, если его родные откажутся оплачивать его (громадные до банальности) долги, то ему придется двинуть в Австралию, наделать там очередных долгов, попутно подделав несколько чеков.
Теперь, как заверил Дик жертв своего мошенничества, можно constatait avec plaisir[175]175
С удовлетворением констатировать (фр.).
[Закрыть], что еще всего лишь несколько сотен фунтов, и уж виден желанный берег – та минимальная сумма, с помощью которой можно ублажить самого беспощадного из своих кредиторов, но при этом он с беспечной скоростью обирал несчастных Жана с Жаком, как вдруг обнаружил у себя честно пришедшие (подброшенные сердобольным Ваном) три туза против четырех девяток, проворно Ваном подобранных. Заурядный блеф вошел в противоречие с блефом высококлассным, и при том, что Ван продолжал щедро вознаграждать прыткие, но все же не слишком, руки юного поблескивающего и мерцающего лорда, внезапно мукам последнего пришел конец (портные заламывали руки средь лондонского тумана, а знаменитый Чузский ростовщик Сент-Свят требовал встречи с родителями Дика). После объявления невиданной по сумме ставки Жак предъявил какую-то жалкую couleur[176]176
Масть (фр.).
[Закрыть] (как сам он изволил выразиться еле слышным голоском умирающего), и Дик сдался, имея на руках стрит против флеш-рояль своего мучителя. Ван, которому к тому времени абсолютно никаких забот не составляло скрывать от дурацкой оптики Дика свои тайные манипуляции, теперь с удовольствием наблюдал, как тот приметил у него в ладони второго джокера, когда Ван, подхватывая, прижал к груди свои «радужные клавиши», – Планкетт изобиловал поэтическими образами. Близнецы, надев галстуки и накинув пальто, сказали, что с них довольно.
– С меня тоже, Дик, – сказал Ван. – Жаль, что ты положился на свои магические кристаллики. Мне всегда было интересно, почему это слово по-русски – а у нас с тобой, я полагаю, у обоих русские корни – созвучно немецкому «ученик», только без умлаута[177]177
Schüler (нем.) – ученик.
[Закрыть], – и с этими словами Ван стремительно выписал чек, возмещая убытки совершенно обомлевшим французам. Затем сгреб пригоршню карт и монет и запустил ими прямо в физиономию Дику. Еще снаряды не успели достичь своей цели, как Ван пожалел, что поступил так пошло и так жестоко, ведь этот жалкий тип даже ответить ему достойно не мог, просто сидел, прикрыв рукой один глаз, другим, тоже слегка подбитым, оглядывая разбитые очки; между тем двойняшки-французы совались к нему с носовыми платками, и Дик их добродушно отталкивал. В зеленом Сиренити-Корт румяно заря трепетала. Вот уж трудяга, старый Чуз.
(Тут надо бы как-то пометить аплодисменты. Приписка Ады.)
Остаток утра Ван кипел, не находя себе места, и после длительного отмокания в горячей ванне (а она – лучший в мире советчик и подсказчик и вдохновитель, кроме разве что туалетного сиденья) решил начертать – именно начертать – записку с извинением в адрес обжуленного жулика. Пока он одевался, посыльный принес записку от лорда К. (кузена одноклассника Вана по Риверлейн), в которой великодушный Дик предлагал в счет покрытия своего долга ввести Вана в клуб «Вилла Венера», членами которого состояли представители их семейного клана. О таком щедром даре никто из восемнадцатилетних юнцов и мечтать не мог. Это был пропуск в рай. Посражавшись со своей слегка перегруженной совестью (обе стороны при этом обменивались улыбками, как старые приятели в старом гимнастическом зале) – Ван принял предложение Дика.
(Мне кажется, Ван, тебе следует пояснить, почему ты, Ван, сама добродетель и благочестие на общем фоне – опустим презренную плотскую сторону, все мы скроены по одному образцу, – так почему же ты, честнейший Ван, позволил себе принять предложение жулика, который, в этом нет сомнений, продолжал и после фиаско свои «поблескивания и мерцания». Мне кажется, тебе следует объяснить это тем, что, primo[178]178
Первое (лат.).
[Закрыть], ты слишком перетрудился, a secundo[179]179
Второе (лат.).
[Закрыть], тебе претила мысль, что этот жулик уверен, что ты, считая его жуликом, не придашь факт огласке и потому ему все сойдет с рук. Ведь так? Ты слышишь, Ван? Мне кажется…)
Дик после того случая «мерцал» недолго. Лет через пять-шесть в Монте-Карло, когда Ван шел мимо уличного кафе, кто-то внезапно подхватил его под руку: сияющая, румяная, в достаточной мере представительная физиономия Дика К. тянулась к нему поверх увитой петуниями решетчатой балюстрады.
– Ван! – воскликнул Дик. – Поздравь меня, я полностью отказался от этих говенных зеркал! Слушай! Самое надежное – крапить! Погоди, это еще не все, представляешь, изобретена такая микроскопическая – да-да, микроскопическая – пупочка из эйфориона, одного драгоценного металла, помещается под ноготь большого пальца, невооруженным глазом не видно, в то время как в монокль вставляется малюсенькая деталька, которая увеличивает метку, делаемую этой пупочкой, – как блошку к ногтю! – на каждой карте, по мере выброса в игру, и вся прелесть в том, что никаких приготовлений, никаких приспособлений, ничего не надо! Крапить надо, крапить! – кричал милейший Дик уже вдогонку уходящему Вану.
29В середине июля 1886 года, когда Ван выигрывал состязания по настольному теннису на борту парохода-«люкс» (которому теперь целая неделя требовалась, чтоб доплыть из Дувра до белоснежного в своем величии Манхэттена!), Марина, обе ее дочери вместе с гувернанткой и обеими горничными, на разных остановках поезда, везущего их из Лос-Анджелеса в Ладору, более или менее одновременно перестрадали лихорадку русской инфлюэнцы. В ожидавшей Вана по прибытии в отцовский дом 21 июля (благословенный день ее рождения) гидрограмме из Чикаго сообщалось следующее: «Баламутная больная дадаистка приезжает между двадцать четвертым и седьмым звонить Дорис можно свидеться почтение Окрестность».
– Как это до боли напоминает голубянки (petits blues[180]180
Голубые листки экспресс-почты (фр.).
[Закрыть]), которые присылала мне Аква! – со вздохом заметил Демон (автоматически вскрыв послание). – Скажи, не знаком ли я с сей нежной Окрестностью? Ты можешь сколько угодно изображать недоумение, но это явно не обмен медицинской информацией.
Воздев глаза к плафону, расписанному в стиле Буше, в столовой, где они завтракали, и качая головой в шутливом восхищении, Ван удовлетворил проницательное любопытство Демона. Да, он угадал. Вану необходимо тотчас отправиться в Ченетипо (анаграмма слова «почтение», ясно?), в некое селение, если наоборот, то в Лениесе (ясно?) навестить юную полоумную художницу по имени то ли Дорис, то ли Одрис, которая рисует исключительно лошадок и, да-да, сластолюбчиков.
Ван поселился в номере под вымышленным именем (Буше) в единственной гостинице на всю Малагарь, убогую деревушку на берегу Ладоры в двадцати милях от Ардиса. Всю ночь он провел в схватке со знаменитым комаром или его сородичем, возлюбившим его еще больше, чем ардисский кровопийца. Туалет на лестничной площадке представлял собой черную дыру со следами фекальных взрывов между двумя гигантскими пятами, на которых надлежало, скорчившись, примоститься. 25 июля в 7 утра он позвонил в Ардис-Холл с малагарьской почты и напал на Бута, который в тот момент напал на Бланш и, не разобрав, принял голос Вана за голос дворецкого.
– Шли бы вы, папаша, – буркнул Бут в дорофон при кровати. – Занят я!
– Бланш позови, идиот! – рявкнул Ван.
– Oh, pardon! Un moment, Monsieur![181]181
Ах, извините! Минутку, месье! (фр.)
[Закрыть]
В трубке прозвучал хлопок откупориваемой бутылки. (Ну и ну, рейнвейн в семь утра!), и трубку подхватила Бланш, но едва Ван приготовился излагать хитроумно составленное послание для Ады, как Ада, которая всю ночь провела qui vive[182]182
Без сна (фр.).
[Закрыть], сама взяла трубку в детской, где дрожащим журчанием отозвался самый совершенный в доме аппарат под немым барометром.
– Лесная Развилка через сорок пять! Слова плюются, прости!
– Башня! – прозвучал ее милый, звонкий голос, как в наушниках «Вас понял!» пилота из голубой выси.
Взяв напрокат мотоцикл – допотопный агрегат с сиденьем, обтянутым бильярдным сукном, и претенциозными ручками из искусственного перламутра, – Ван покатил по узкой «лесной аллее», подскакивая на выступавших корнях. Первое, что он заметил – звездочкой сверкнувший брошенный ею велосипед: она стояла рядом, руки в бока, бледный, чернокудрый ангел в махровом халате и домашних шлепанцах, оцепенело глядя куда-то в сторону… Неся ее на руках в ближайшую чащу, он чувствовал, что она вся горит, но осознал, что и впрямь больна, лишь когда после двух исполненных страсти конвульсий Ада поднялась, вся в крошечных рыжих муравьях, шатаясь, едва не теряя сознание, бормоча что-то про цыган с цигарками.
То было грубоживотное, но упоительное свидание. Он даже не помнит…
(Не страдай, и я не помню. Ада.)
…ни единого произнесенного ими тогда слова, ни единого вопроса или ответа; он помчал ее домой, подъехав, насколько смел, поближе (ее велосипед пихнул в заросли папоротника) – и когда в тот вечер позвонил Бланш, та трагическим шепотом сообщила, что мол, у Mademoiselle une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur[183]183
У мадемуазель, мой бедный месье, тяжелая пневмония (фр.).
[Закрыть].
Через три дня Аде стало гораздо лучше, однако Вану уже надо было возвращаться в Ман, чтобы на том же самом судне снова отплыть в Англию – и там предпринять цирковое турне с теми, кого подвести не мог.
Его провожал отец. Демон выкрасил волосы в жгуче-черный цвет. Алмазный перстень на пальце сверкал, как Кавказский хребет. Длинные, черные, в синеватую крапинку, крылья развевались за спиной, подрагивая на ветру. Люди оглядывались (people turned to look). Его нынешняя Тамара, сама сурьма, горя багрянцем Казбека, во фламинговом боа, – никак не могла решить, что ненаглядному демону приятней: ее ли нытье, приправленное равнодушием к красавцу сынку, или признание ею синебородского мужского начала, угадывавшегося в мрачном Ване, с трудом переносящем едкий запах ее кавказских духов «Граньал Маза», семь долларов за флакон.
(Знаешь, Ван, теперь это моя любимая глава, даже не пойму, почему она мне так нравится. Тебе удается продержать Бланш в объятиях ее милого, пусть даже не в этом суть. Влюбленно приписано Адой.)
305 февраля 1887 года «Пустомеля» (обычно крайне ехидная и въедливая еженедельная чузская газета) в редакционной статье без подписи назвала выступление Маскодагамы «самым ярким и исключительно виртуозным действом, когда-либо виденным пресыщенными завсегдатаями мюзик-холла». Подобная оценка неоднократно высказывалась и членами клуба «Пустомельница», однако ни в программке, ни в афишах, кроме краткого определения «заморский эксцентрик», не говорилось ничего ни о самом характере «виртуозного действа», ни о личности самого исполнителя. Слухи, старательно и мудро распространяемые друзьями Маскодагамы, наводили на мысль, что он – таинственный гость из-за Золотого Занавеса, – версию весьма правдоподобную, усиленную тем обстоятельством, что чуть ли не шестеро из состава только что (а именно: накануне Крымской войны) прибывшей из Татарии труппы «Цирк Доброй Воли» – три танцорки, старый больной клоун со своим старым говорящим козлом, а также муж одной из танцорок, гример (вне сомнения, агент разнообразных служб), – уже успели переметнуться на сторону противника куда-то между Францией и Англией в район только что проложенного «Канала». Головокружительный успех Маскодагамы в клубе театралов, интерес которых до сих пор ограничивался пьесками елизаветинской эпохи, где смазливые мальчики исполняют роли королев и эльфов, прежде всего в высшей степени возбудил карикатуристов. Борзые юмористы принялись изображать маскодагамами глав университетов, местных политиков, государственных деятелей, а также, разумеется, нынешнего правителя Золотой Орды. Один переусердствовавший имитатор (кстати, Маскодагама собственной персоной, выступивший с излишне изысканной пародией на самого себя) был освистан местными скандалистами в Оксфорде (ближайшем женском колледже). Один проныра репортер, услышав, как Маскодагама ругнулся, наткнувшись на складку в ковровом покрытии, сообщил своим читателям, что уловил «гнусавый выговор янки». Уважаемый г-н «Васкодагама» получил приглашение посетить Виндзорский дворец от его владельца, по двум линиям происходившего от Вановых предков, однако предложение не было Ваном принято из опасения (как потом окажется напрасного), что ошибка в написании имени означает раскрытие его инкогнито каким-нибудь частным детективом Чуза – например, одним из тех, кто недавно уберег психиатра П.О. Темкина от кинжала юного, сбившегося с праведного пути князя Потемкина, уроженца Севастополя, что в штате Айдахо.
Во время первых своих летних каникул Ван трудился в знаменитой клинике Чуза под руководством Темкина над диссертацией с громким названием «Терра: реальность затворничества или коллективная мечта?», которую так и не завершил. Он общался с множеством невротиков, среди которых оказались артисты мюзик-холла, литераторы и даже трое яснейше мыслящих, но в духовном смысле «пропащих» космологов, находившихся то ли в тайном телепатическом сговоре (при том, что меж собой никогда не встречались и даже не подозревали о существовании друг друга), то ли действительно открывших, непонятно как и где, может быть, посредством неких запретных «волн», вращающийся в пространстве и спирально развивающийся во времени зеленый мир, который с позиций материи и разума сходен с нашим и который они описали так, как если бы одновременно трое людей из разных окон наблюдали движущееся по одной и той же улице карнавальное шествие.
В свободное время он бурно предавался развлечениям.
Однажды в августе ему предложили контракт на серию дневных и вечерних выступлений в одном знаменитом лондонском театре на период Рождественских каникул, а также по субботним и воскресным дням в течение всего зимнего сезона. Он с радостью его подписал, испытывая крайнюю потребность полностью отвлечься от опасных своих занятий: особая навязчивая идея, наполнявшая труды пациентов Темкина, обладала свойством заражать собою юных исследователей.
Слава Маскодагамы докатилась и до американской глубинки: в первые же дни 1888 года в газетах Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги появилась фотография, хоть и изображавшая его в маске, однако неспособная обмануть любящего родича или преданного слугу; однако никакого сопутствующего репортажа не прилагалось. Лишь перо поэта, и только поэта (в особенности представителя группы «Черная колокольня», как утверждал один остряк), могло бы достойным образом описать жуткий трепет, в который повергал зрителей феноменальный номер Вана.
С поднятием занавеса сцена оставалась некоторое время пуста; но вот с пятым ударом сердца замершего в ожидании театрала что-то огромное и черное возникало из-за кулис под дробь бьющих в барабаны дервишей. Его такое стремительное, такое мощное появление производило на детские умы впечатление настолько сильное, что и многое время спустя, во тьме смятенных, бессонных ночей, ослепленные жутью кошмаров, впечатлительные мальчики и девочки переживали вновь, глубоко и по нарастающей, нечто подобное «первобытному страху», чувствуя какую-то смутную угрозу, шелест чьих-то крыльев, невыносимое и непреходящее нервное возбуждение, затягивающее воспоминания о той жуткой сцене в пещерные глубины памяти. В резкий луч света, падавший на крикливо-яркий ковер, мощным бегом врывался гигант в маске и высотой добрых восемь футов, обутый в мягкие сапожки, какие носят плясуны-казаки. Его silhouette iquiétante[184]184
Внушающая трепет фигура (фр.).
[Закрыть] (по выражению одной сорбоннской журналистки – мы храним все газетные вырезки) от шеи до колен, во всяком случае в том промежутке, который заключен между названными частями тела, была укутана массивным, черным и мохнатым, как бурка, плащом. Голова увенчана каракулевой папахой. Черная маска скрывала верхнюю половину лица, густая борода – нижнюю. Этот отталкивающий колосс некоторое время с важным видом расхаживал по сцене, затем вышагивание сменялось тревожной походкой загнанного в клетку безумца, но вот он взвился вихрем, и под звонкий удар оркестровых тарелок и крики ужаса (не исключено, притворного) зрителей галерки Маскодагама, вскинув вверх ноги, встал на голову.
И в этом невероятном положении, головой, как в подушку, упираясь в папаху, он принялся подскакивать вверх-вниз, точно на одной ходуле – как вдруг внезапно расчленился. Поблескивавшее потом лицо Вана улыбалось между ног – сапог, надетых на неподвижно застывшие, вытянутые вверх руки. Одновременно настоящей ногой он откинул прочь фальшивую голову со смятой папахой и бородатой маской. При виде такого волшебного преображения «у зрителей от изумления дыханье сперло». Придя в себя, зал разразился бурными («оглушительными», «исступленными», «воистину шквальными») аплодисментами. Герой унесся за кулисы – и тут же вернулся снова на сцену, только теперь, затянутый в черное трико, он выплясывал джигу на руках.
Мы уделяем здесь столько места описанию его номера не только потому, что об эстрадных артистах эксцентрического жанра обычно чересчур быстро забывают, но еще и потому, что хотелось бы определить, что это выступление значило для исполнителя. Никакой выдающийся подхват в крокете, никакой прославленный гол в футболе (в обоих этих замечательных играх он представлял голубую команду колледжа{66}), ни даже триумф физической силы, когда в первый же день занятий в Риверлейн он сбил с ног самого здоровенного драчуна школы, – ничто не доставляло Вану удовлетворения, какое испытывал Маскодагама. Оно впрямую не было связано с греющим чувством утоленного тщеславия, хотя уже весьма пожилым человеком оглядываясь назад, на жизнь, полную непризнанных свершений, Ван с радостью и наслаждением – с наслаждением большим, чем даже в те времена, – не без самолюбования вспоминал прошлую славу и вульгарную зависть, недолго клубившуюся вокруг него в юности. Суть этого удовлетворения была, пожалуй, сродни пришедшему позднее удовлетворению от решения до невероятности сложных, с первого взгляда абсурдных задач, навязываемых В.В. самому себе, когда стремился выразить что-то, до того казавшееся неопределенным, расплывчатым (а то и вовсе ничто – всего лишь иллюзию неясной тени предвкушаемого), как карточный дом Ады. Как метафора, опрокинутая вверх тормашками, но не изысканного трюкачества ради, а для того, чтобы постичь бьющий из земли вверх водопад или путь солнца вспять с запада на восток: если угодно, желание вкусить триумф над пронзительной силой времени. Итак, восторг, испытываемый юным Маскодагамой при преодолении им власти земного притяжения, был сродни восторгу эстетического самовыражения, какое, естественно, вовсе не ведомо тем, кто лишен критического дара, комментаторам общественной жизни, моралистам, торговцам идеями и проч. На сцене Ван органически воплощал то, что позднее в жизни будет воплощать речевыми метафорами – акробатические чудеса, совершенно неожиданные, пугающие малых детей.
Не стоит при этом умалять значение такого фактора, как чисто физическое наслаждение от хождения на руках; и оставшиеся на ладонях не защищенных перчатками рук павлиньи разводы от длительного выплясывания на ковре казались как бы отражениями яркого, красочного мира преисподней, первым открывателем которого он явился. В партнерши для танго, завершавшего его номер во время прощальной гастроли, ему досталась крымчанка, танцовщица кабаре, в очень коротком сверкающем платье и с очень глубоким вырезом на спине. Она выпевала это танго по-русски:
Под знойным небом Аргентины,
Под страстный говор мандолины…{67}
Хрупкая, медноволосая «Рита» (настоящего имени ее он так и не узнал), прелестная караимочка из Чуфут-Кале{68}, где, как вспоминала она с ностальгической грустью, средь голых скал желтеет цветущий кизил, была до странности похожа на Люсетт, какой та станет лет через десять. Во время их танца Ван только и видел, что ее серебряные лодочки, проворно ступавшие и поворачивавшиеся в такт его двигавшимся, как ноги, рукам. На репетициях он наверстывал упущенное и однажды вечером предложил партнерше рандеву. Та с негодованием отказала, заявив, что обожает мужа (гримера), а все английское ей претит.
Чуз издавна славился как своими достойными традициями, так и блестящими шутниками. Звавший себя Маскодагамой не преминул проявить интерес, а затем и сойтись покороче с мастерами этого жанра. Его наставник по колледжу, престарелый и угрюмый любитель мальчиков, начисто лишенный чувства юмора, зато с молоком матери впитавший почтение ко всем предписаниям академического бытия, заметил крайне взбешенному, но исключительно вежливому Вану, что во второй год пребывания в Чузе не следует совмещать университетские занятия с цирковыми выступлениями и что, если он станет упорствовать в своем намерении сделаться артистом мюзик-холла, его тотчас отчислят. Вдобавок сей престарелый джентльмен написал письмо Демону с просьбой убедить сына оставить Физические Выкрутасы ради Философии и Психиатрии, в особенности памятуя о том, что Ван первым в Америке (уже в семнадцать лет!) стал лауреатом Премии Дадли (за эссе на тему о Безумии и Вечной Жизни). Не определившись до поры, к какому компромиссу способны прийти самоутверждение и самоубеждение, Ван в начале июня 1888 года покинул Англию и направился в Америку.